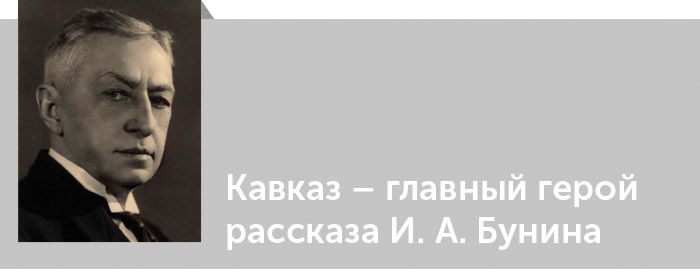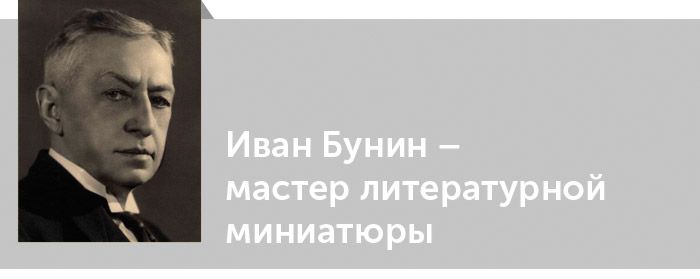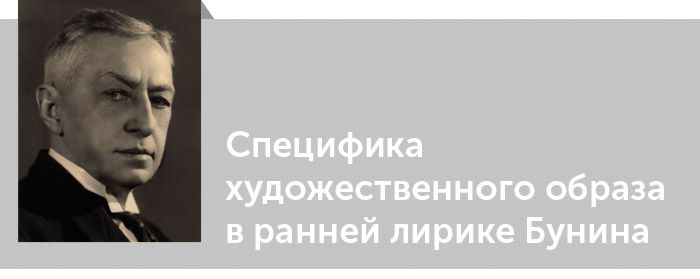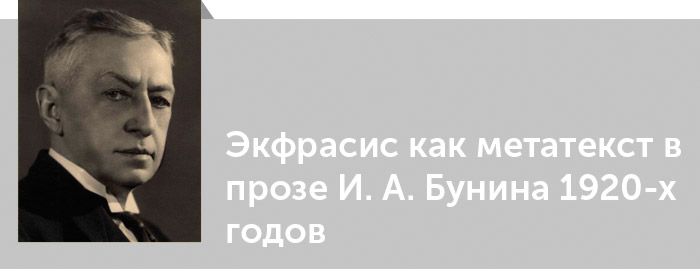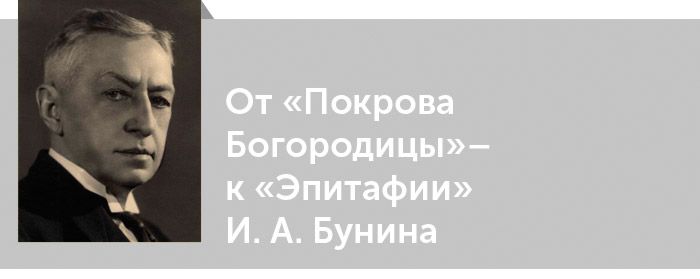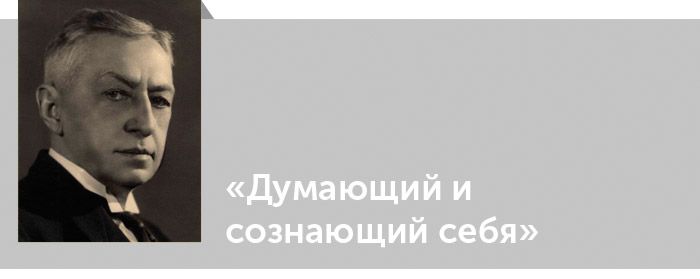О нравственно-философских взглядах И.А. Бунина

Солоухина О.В.
В последнее время в литературоведении, особенно в западном, «узаконилось» восприятие произведения вне исторического и литературного контекста, вне познания авторской концепции, при опоре только на собственные эмоции во время чтения и свободные ассоциации «по поводу».
При таком подходе к художественному произведению каждое прочтение отличается от предыдущего в той же степени, в какой неповторимы индивидуальности читателей и неповторимо время с его иерархией ценностей. В произведении не остается ничего объективного, ничего не зависящего от произвольного толкования читателя, обладающего своими собственными симпатиями, настроениями и пр. Отпадает необходимость изучать «контексты», авторский замысел, реалии, восстанавливать генеалогию произведения. А это означает не что иное, как отказ от культурного наследия — жить сегодняшним днем и слепое упоение этой жизнью.
Для того, чтобы смысл произведения не был размыт, для сохранения исторической и художественной ценности необходимо пытаться приблизиться к авторской программе понимания, которая, безусловно, существует в каждом произведении, но распознается лишь при осознанном стремлении прочесть произведение адекватно замыслу его создателя. Существует прямая связь между авторской концепцией и читательским проникновением в смысл текста. Ориентирами для читателей, среди других составляющих, служат знания об основах мировоззрения автора, той нравственно-философской подоснове, которая скрывается за художественными образами каждого большого произведения. Духовные искания художника диктуются не внешней целью — исследовать тот или иной предмет, а природной предрасположенностью к определенной области мысли. Читатель не должен оставлять без внимания и те стороны в духовном самосознании писателя, которые, с первого взгляда, и не играли основополагающей роли, так как все, в конечном счете, находит свое отражение в творчестве.
Бунин-художник был сформирован русской культурой, народным творчеством, классической литературой, которую он прекрасно знал и которая оставалась для него на протяжении всей его жизни «критерием» ценности. Но исконно национальное видение мира писателем, проникновенное знание русской истории, литературы, фольклора естественно сопостигались с родственным вниманием к философским и этическим системам других народов. Человек широко образованный, Бунин свободно обращался к культурам других стран — и эти обращения оставили свой след в произведениях, повлияли на создание образов, подсказали сюжеты. Особую роль в духовном самосознании писателя играло «органическое, наследственное тяготение к Востоку», которое отметил еще Горький. Несмотря на то, что исследователи творчества не раз упоминали о влиянии на Бунина восточных философско-религиозных систем, в частности буддизма, тема эта остается до сих пор неизученной. А вместе с тем внимание к буддизму сопровождало художника в течение жизни, придавало своеобразные тона его мироощущению, концепции жизни, смерти, развития личности. «Что касается Бунина, — писал Д.В. Иоаннисян, — то увлечение буддийской философией у него не мимолетная прихоть. Он неоднократно возвращается к разработке наиболее близких ему положений этого учения во все последующие годы».
Важно подчеркнуть, что толчком бунинского «пути на Восток» была Россия, стремление понять ее сущность, предугадать ее будущее, соприкоснуться с прошлым. Увлечение буддизмом было вторичным, легло в уже сформированную русской культурной традицией душу, но без ее учета многое в видении мира писателем останется непонятным. При этом необходимо иметь в виду, что философия буддизма влияла на Бунина как в положительном направлении (развитие темы исторической памяти), так и в негативном (идеи фатализма в объяснении поступка человека).
Сразу же встает вопрос: может ли человек с таким чувственным восприятием мира, можно сказать, с таким сладострастным отношение к каждому мигу жизни придерживаться философии, цель которой — избавление человека от страдания путем погашения в себе всех желаний ощущений, привязывающих нас к миру? Нет ли в этом противоречия? Нет, считает Бунин. Более того, в рассказе «Ночь» и в религиозно-философском трактате «Освобождение Толстого» он развивает взгляд, которому истины, высказанные Буддой, могут глубоко почувствовать пережить только люди особого склада — художники, несущие в себе «обостренное ощущение всебытия», к которым Бунин причислял и Толстого, и себя. Чувствование мира и себя в нем так велико, что переполняет личность, раздвигая границы не только пяти чувств, но и своей собственной жизни. «Да, — говорил Бунин, — чувствую в себе всех предков своих... И дальше, дальше чувствую свою связь со „зверем, зверями — и нюх у меня, и глаза, и слух — на все — не просто человеческий, а нутряной — „звериный". Поэтому „по-звериному“ люблю жизнь. Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней».
Личность так велика, что не может вместиться только в себе, ей доступно помнить то, что было раньше рождения, а память мучает своей тайной — собственно, именно эти чувства и прокладывают первый мостик к буддизму с его понятием цепи рождений и смертей. Буддизм Бунин воспринял как нечто давно ожидаемое своим сознанием, как втайне лелеемую память о духовной родине. Поэтому вернее говорить не о влиянии буддизма на его творчество, а о встрече самостоятельно сформировавшихся индивидуальных взглядов художника с некоторыми сторонами учения буддизма, воспринятыми позднее.
В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин показывает, как с «истоков дней» каждое соприкосновение с миром отзывается у Арсеньева ощущением необъятности знания, ему данного. Восприятие жизни настолько обострено, что своей жизни становится как бы мало. Память безгранично стирается, томит смутными воспоминаниями о предшествующих рождениях. Писатель наделяет своего героя ощущением принадлежности миру океанскому, тропическому», о чем он «знал уже в детстве, рассматривая картинки с финиковыми пальмами»: «В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые помнил тридцать лет тому назад!» Многое в восприятии Арсеньева можно назвать буддийским — это отсутствие чувства начала и конца жизни, и «воспоминания» о бестленных предшествующих перерождениях; ощущение единого потока («нет никакой отдельной от нас природы, каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей жизни») и обманчивость земных ланий («вечно манящая и вечно обманывающая нас земля»). Так заждались эти чувства в юном Арсеньеве (а стало быть, мы можем сказать, и в Бунине), чтобы уже в ранних рассказах воплотиться в мучительные поиски целостной философской системы.
Ранний Бунин — это путь к самому себе. Его рассказы довольно велики по объему, в них обилие риторических конструкций, философские вопросы обращены непосредственно к читателю. Движение «к себе» Бунина можно определить как движение от «скуки жизни» к ее самодовлеющей радости, от восприятия мира как данного, устоявшегося бесконечному упоению каждым мигом своего пребывания на земле.
В ранних рассказах заложены все образы, которые будут развиты впоследствии. На раннем этапе невозможность примирения со смертью, познанная тайна жизни, словом, вопросы, которые мучают писателя своей неразгаданностью, носят еще общечеловеческий характер. Но постепенно поиски писателя расширяются, наполняются духом иных философских систем, в особенности буддийского Востока.
В рассказе «Тишина», написанном в 1901 году, развиваются восточные мотивы слияния с миром и обретения в этом спокойствия: «Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у предверия которой мы стоим, и что счастье только в ней». Обретение покоя и счастья в слиянии со всебытием мира характерно для буддизма и других восточных религий — брахмаизма, индуизма. Слова «предвечная тишина» наиболее точно передают понятие об этом покое. Сознавал ли сам Бунин, что многие тона его мироощущения, свойственные, сразу скажем, не только буддизму, но и другим мировоззренческим системам, — чувство в себе всех своих предков, вера в циклы перерождений, жажда слияния со всем миром, понимание трагической зависимости между любовью, желаниями и страданьем, — совпадают идеями проповедей Будды? Да, безусловно, судя по его высказываниям, многочисленным ссылкам на тексты учения, охотным пересказам легенд о жизни Будды. Но встает вопрос: когда же он сознательно обратился к буддизму, какие книги читал, есть ли конкретные подтверждения его интереса?
Вероятно, толчком обращения к буддизму послужило увлечение молодого Бунина толстовством и Толстым, воззрения которого были близки индийской философии. Впервые в творчестве Бунина слова «Будда — учитель человечества» произносит толстовец Каменский, герой раннего рассказа «На даче» (1895). Через сорок с лишним лет в «Освобождении Толстого» Бунин соотнесет свои взгляды на жизнь, смерть, основные моменты бытия с «буддийскими» высказываниями Толстого.
Не последнюю роль сыграло и всеобщее увлечение Востоком, охватившее творческую интеллигенцию на рубеже веков. В те годы интенсивно переводились книги о философиях и религиях Индии (научные труды Макса Мюллера, Г. Ольденберга), публиковались отрывки из Упанишад, изречения Будды и сказания о его жизни. Появилась целая плеяда русских буддологов: Ф. Щербатской, С.Ф. Ольденбург, О.О. Розенберг. В произведениях А. Белого, А. Блока, Д. Мережковского, Вл. Соловьева решался вопрос о судьбе России в зависимости от победы Востока или Запада, которые выступали как нравственно-этические категории, имеющие символическое значение.
Существовали и социальные причины обращения Бунина к буддизму: они в общественных условиях начала XX века. Исследователи не раз писали о трагических настроениях русской интеллигенции в годы реакции после революции 1905 года. Осознание несовершенства сущего, потребность в новом положении вещей и полная невозможность как-то изменить действительность — не этим ли духовным состоянием часть русской интеллигенции можно объяснить влечение к мистицизму, к восточным религиям, которые проповедовали избавление от тягот жизни не путем социальных перемен, а погашением в себе всех стремлений, отречением от всякой деятельности? Настроения эти очень волновали М. Горького, который в статьях 1905-1910 годов горячо призывал избавиться от «азиатского пессимизма», захлестнувшего литературные круги России, и возродить «упрямую веру в правду, вечную жажду справедливости, революционный задор и беспредельную отвагу».
Бунин, как можно судить по произведениям и архивным материалам, воспринимал буддизм со специфически художнической точки зрения, принимая и используя все наиболее близкое его натуре, мировосприятию и не вдаваясь в те сложнейшие умозрительные положения, относительно которых и буддологи, по признанию Ф. Щербатского, «блуждают в потемках».
По цитатам, отголоскам в бунинских произведениях можно определить, что он любил читать больше всего из обширной буддийской литературы. Это книги, с которыми Бунин не расставался: Сутта-Нипата, наиболее древняя часть буддийского канона, и исследование Г. Ольденберга «Будда. Его жизнь, учение и община».
Определяющее значение для формирования взглядов художника сыграло путешествие на Цейлон, длившееся с середины декабря 1910 года до середины апреля 1911 года. Узнавание самого себя, встреча лицом к лицу с философией, к которой был предрасположен с детства, осознание ее значения для своей жизни — вот одновременно и внутренний мотив, подвигнувший Бунина на это путешествие, и результат его.
В Государственном Орловском музее И.С. Тургенева, где хранится большая часть архива Бунина, находятся десятки книг, путеводителей, тетрадей с переводами, сделанными В.Н. Муромцевой-Буниной и племянником писателя Н.А. Пушешниковым. Бунин тщательно готовило к каждому своему путешествию. Его путевые заметки о Цейлоне — сохранилось всего несколько пожелтевших листов — это яркие зрительные впечатления, стремление зафиксировать увиденное объективно, беспристрастно. Правда, писатель не может удержаться, чтобы не послать племяннику лилово-синие лепестки священного цветка с жертвенника Будды с просьбой: «Сохрани».
Изучение географии, истории и литературы стран буддийского Востока быстро отозвалось. Именно после поездки Бунин начал свободно, на память цитировать высказывания Будды. В 1912 году он подписывает одну из своих фотографий словами чуть перефразированной буддийской сутты: «Да будут счастливы все существа, и слабые и сильные, и видимые и невидимые, и родившиеся и не рожденные еще».
Бунин увидел и пережил многое во время путешествия. Письма его с Цейлона были, как никогда прежде, «проникнуты силой и страстью». Всю жизнь он будет помнить эту поездку. Цейлон теперь навсегда войдет в его Произведения — это и город «Царя царей», и «Ночь отречения», и «Готами», и «Соотечественник», и другие рассказы. Через пять лет, в 1915 году, Бунин записывает в дневнике: «Тихий, теплый день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать...»
Во время трехнедельного плавания через Индийский океан к Цейлону Бунин пережил редкие мгновения жизни, когда все незначительное уходит и человек оказывается близок к постижению истины. Духовный переворот Бунина подобен арзамасскому ужасу Толстого. Но у Бунина постижение истины произошло не через ужас, тоску и неимоверный страх, а через радостное причащение.
Герой рассказа «Соотечественник» (1916) Зотов совершил подобное путешествие, и потрясение, которое он испытал, навсегда связало его жизнь с Востоком: «.. .ведь это же мы, арийцы, залезшие после Тибета в тропики, породили это ужасающее в своей непреложной мудрости учение...» И затем горячо начинает уверять, что «„вся сила в том“, что он уже видел, чувствовал индийские тропики, может быть, тысячи лет тому назад, — глазами и душой своего бесконечно давнего предка... он испытал чувства необыкновенные на пути сюда... „Зрелище нового мира, новых небес раскрывалось передо мною, но мне казалось... что я уже видел их когда-то"... доносилось до нас горячечное дыхание нашей страшной Прародины».
Известно, что существовал в жизни реальный прототип Зотова и героя одного из «Невыдуманных рассказов» Вересаева. Но, по замечанию В.Н. Афанасьева, Бунин наделил Зотова чертами, «идущими от мировосприятия, свойственного самому автору». Ромен Роллан, прочитав рассказы «Соотечественник» и «Братья», пишет своей корреспондентке: «Само же его (Бунина, — О.С.) сознание, я чувствую, пронизано (вопреки его собственной воле) духом необъятной, непостижимой Азии».
В 1925-1926 годах Бунин возвращается к лирико-философским новеллам, характерным для начала его пути, и создает два рассказа, навеянные путешествием на Цейлон, — «Воды многие» и «Ночь», в которых выражена наиболее определенно система его философских взглядов, претворенных в художественную форму. «Воды многие» — запись тех мыслей и чувств, которые испытал герой-автор во время трехнедельного плавания через Индийский океан, — Бунин называл одним из своих «самых лучших писаний». Все внимание героя сосредоточено на его внутреннем состоянии: «... казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне». У героя рассказа «Воды многие» раздвигаются границы памяти, он, постигая ту единую жизнь, которая «совершает свое таинственное странствование через тела наши», приобщается к вечной жизни, вечному времени, вернее, даже отсутствию времени, к Всебытию.
Рассказ «Ночь» автобиографичен. Об этом Бунин писал в «Освобождении Толстого». Рассказ этот знаменателен и тем, что показывает постоянство размышлений Бунина, связь его ранних произведений с поздними. Ситуации, воспроизведенные в рассказах «Туман» (1901) и «Ночь» (1925), совпадают во многих деталях. Но в раннем рассказе Бунин ставил вопросы, мучившие его отсутствием ответов, теперь же он стремится до конца разобраться в своем восприятии жизни, в своем мироощущении. Действие (действие мысли) в обоих рассказах происходит глубокой ночью, перед рассветом. Почему состояние, охватившее героев рассказов, возможно только ночью, в предутренние часы? Герой «Тумана» не знает: «Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни». Герой «Ночи» отвечает: «Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение, его земное имя, звание, — и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное „умствование", бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое; непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца».
Не всем, однако, дано прикоснуться к «великой тайне мира». Для этого необходим и определенный душевный настрой — чувство печали и одиночества, — и определенная чувствительность натуры. Герой «Ночи» предельно искренне высказывает свое представление о мире как о бесконечном потоке бытия. Подчеркнем снова, что собственно авторское чувствование мира как бы находит опору в буддийской философии. «Мое рождение никак не есть мое начало», — пишет Бунин, затем цитирует слова Будды: «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И продолжает: «И я сам испытал подобное... Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и наконец передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змей, пауков „безумно", то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру боящегося постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарантула». И добавляет уже вполне определенно: «Мой пращур обитал в Индии» .
Но ведь именно об этом, с мукой недоумения и неверия в свои собственные ощущения, спрашивал себя герой Бунина в ранних рассказах: «Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?
- Нигде, — отвечаю я себе...
- Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое — тоже тайна» («У истока дней»).
Л-ра: Русская литература. – 1984. - № 4. – С. 47-59.