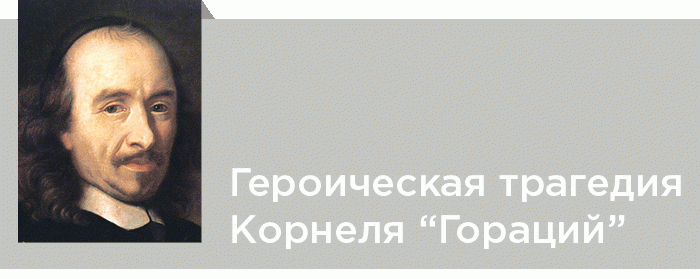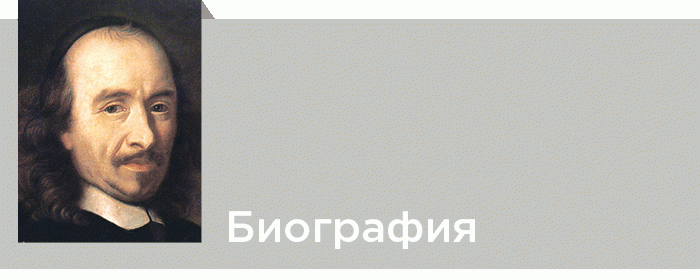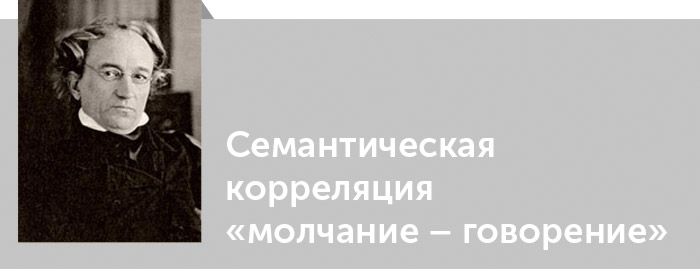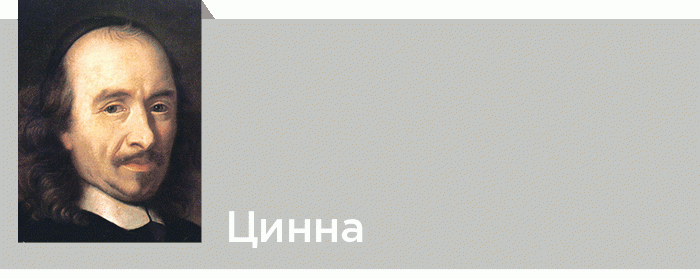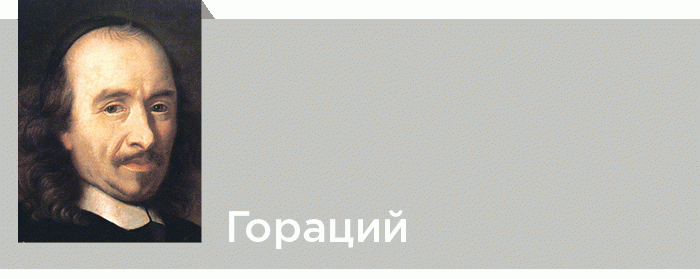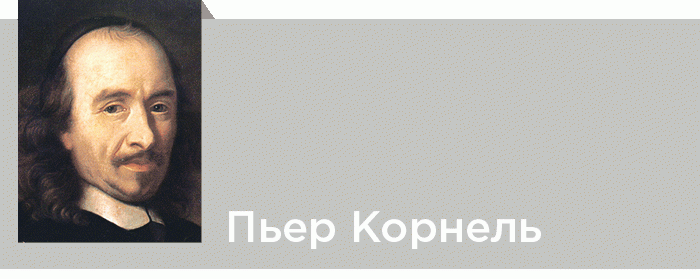Пушкин и Корнель
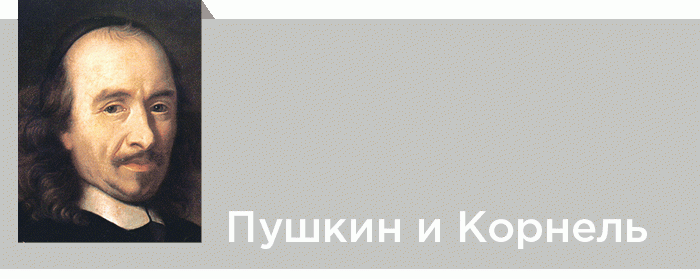
Г.М. Фридлендер
Трагедии великого французского драматурга Пьера Корнеля пользовались большой славой в России конца XVIII — начале XIX в. Уже в
Осуществленные Катениным и его друзьями в 1817-1822 гг. переводы, в которых он стремился воскресить на русской сцене «Корнеля гений величавый», стали важной вехой в развитии русской общественной мысли и русского театра преддекабристской эпохи. И не случайно Пушкин упоминает об этой заслуге своего старшего друга в 18-й строфе первой главы «Евгения Онегина» — в известном лирическом отступлении, посвященном «старым годам» истории русского театра. Герои Корнеля с их высоким чувством долга и величественной гражданской риторикой (как это не раз справедливо отмечалось исследователями Катенина и историками русского театра) были созвучны тому героическому духу, который воодушевлял русскую свободолюбивую молодежь конца 1810-х — начала 1820-х годов.
Однако при воспоминании сегодня о переводах Катенина из Корнеля невольно в голову приходит вопрос, почему, осуществив переводы «Сида» и «Горация» (последний — вместе с ближайшими друзьями), Катенин не осуществил полного перевода «Цинны», ограничившись публикацией из этой трагедии всего лишь одного — хотя и очень важного в идейном отношении — фрагмента. Что побудило Катенина отказаться от плана перевода для русской сцены всей трагедии? Что обстоятельство это не было случайным, свидетельствует статья III позднейших «Размышлений и разборов» Катенина (1830), где автор, говоря о Сенеке, упоминает, что «Корнель уважал Сенеку отменно и учился в его творениях». О том, что Катенин имел в виду в данном случае в первую очередь «Цинну», свидетельствует посвящение, предпосланное Корнелем этой трагедии, которое он сопроводил (уже известным во Франции по переводу Монтеня в XXIV главе 2-й книги «Опытов») отрывком из трактата Сенеки «О милосердии» (Lib. 1. De Clementia. Cap. IX), откуда драматург заимствовал сюжет своей трагедии. Прямой ответ на этот вопрос дает письмо Катенина к актрисе А.М. Колосовой от 12 июля
Почему Катенин не любил «Цинны» и считал эту великую трагедию «подлой»? Догадаться об этом нетрудно, как нетрудно и из анализа содержания трагедии понять, что мнение Катенина о ней, хотя и было обусловлено его идеологической позицией участника «Союза Спасения», автора стихотворения «Отечество наше страдает...», призывавшего к свержению «трона и царей», не учитывало всей ее глубины и сложности, а также и тех важнейших политических уроков, которые она содержала для участников будущего декабристского движения.
Трагедия Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1640) была воспринята уже многими современниками (так же, как позднее Катениным), а нередко воспринимается и до сих пор, как «своеобразная политическая утопия, призванная воссоздать образ идеального монарха». В действительности же дело обстоит гораздо сложнее. Хотя император Август в финале этой трагедии — после ряда колебаний — прощает своего противника Цинну и заключает с ним и его единомышленниками — бывшими заговорщиками — политический союз, подлинная суть трагедии отнюдь не сводится к апологии «милосердия» Августа. Наоборот, Август с самого начала выступает в ней как жестокий, коварный и глубоко расчетливый политический деятель. Для того чтобы достичь абсолютной власти, он без угрызения совести переступил через трупы Марка Антония, своего учителя Торания (отца возлюбленной Цинны — Эмилии) и тысяч других римлян. Но время сделало Августа политически умудренным, зорким и дальновидным политиком. Овладев (благодаря предательству участника заговора Цинны — Максима) планами заговорщиков, Август решает не предавать их казни, а наделяет высокими постами, делая своими ближайшими соратниками.
Уже Наполеон I разобрался в истинном смысле трагедии Корнеля, высказав догадку, что Август, прощая Цинну и предлагая ему свою дружбу, отнюдь не руководствуется искренним чувством, но прибегает к тонкому политическому маневру. Однако дело не только в этом. Для понимания философско-исторического смысла трагедии Корнеля — одной из художественных вершин всего его творчества и вместе с тем своеобразного жизненного итога его долгих и весьма непростых исторических и политических размышлений — важны разворачивающиеся между Цинной, Максимом, Августом и другими действующими лицами трагедии Корнеля идеолого-политические дискуссии. Дискуссии эти затрагивают широкий круг проблем, связанных с темами государственной власти, перспектив направленных против монарха политических восстаний, стремящихся к установлению республиканских форм правления.
Хотя действие «Цинны» приурочено к эпохе Августа, а сведения о личности ее главного героя, равно как и об исходе его борьбы с римским императором, Корнель почерпнул из рассказа Сенеки, проблематика «Цинны» имела для Корнеля и его современников отнюдь не только культурно-исторический интерес. И недаром точно так же оценил смысл этой трагедии Катенин, который воспринял ее как дань Корнеля идее «просвещенного абсолютизма».
Корнель был современником становления и укрепления французского абсолютизма. И в то же время он был современником Тридцатилетней войны (1618-1648), Фронды (1648-1659), английской революции (1642-1660). В его время еще не затихла память о Варфоломеевской ночи, народных мятежах и дворянских заговорах XV-XVI вв., об убийстве в
Трагедия Корнеля построена не вполне обычно. Первые два ее действия имеют как бы свою завязку и развязку, отличную от завязки и развязки трех последних. С самого начала определяется главный политический конфликт, лежащий в основе трагедии, — борьба между заговорщиками, возглавляемыми Цинной и Максимом, и цезарем Октавием-Августом. Хотя и Цинна и Максим воздают должное доблести и разуму Августа, они — так же, как возлюбленная Цинны — Эмилия, признавая, что во вторую половину своего царствования Август значительно изменился к лучшему и во многом загладил память о своих преступлениях, составляют заговор против Августа, считая, что теперешняя его слава не дает Риму права забыть о том, что он был и остается тираном. Однако в начале второго действия Август, призывая Цинну и Максима, сообщает им о своем решении добровольно отказаться от власти, тяжесть которой стала для него непосильной. Насколько искренен при этом Август (то есть хочет ли он действительно оставить власть или хочет всего лишь испытать верность Цинны и Максима), остается под вопросом. Предложение Августа Цинне и Максиму принять из его рук опостылевшее ему бремя власти сначала вызывает удивление обоих его скрытых противников, а затем выливается в сложные политические дебаты. Пораженный неожиданным предложением Августа, Цинна, перед умственным взором которого проносятся мрачные события недавнего прошлого, не без удивления сознает, что отречение Августа не приведет к желанному миру, а неизбежно породит цепь новых кровопролитий:
Envieux l’un de l’autre, il menant tout par brigues,
Que leur ambition tourne en sanglantes ligues.
Ainsi de Marius Sylla devint jalloux;
César, de mon aïeul; Marc-Antoine, de vous:
Ainsi la liberte ne ptux peus etre utile Qu’a former les fureurs d’une guerre civile (...)
Vous le replongerez, en quittant empire,
Dans les maux dont a peine encore elle repire,
Et de ce peu, seignieur, qui le reste de sang,
Une guerre nouvelle {puisera son flanc.
(Терзаясь завистью, питая лишь интриги,
Здесь все в кровавые вступать готовы лиги,—
Так Сулла — Марию, а Цезарю — мой дед,
Тебе, Антоний, все глядели злобно вслед.
Вот почему у нас немыслима свобода —
Гражданских войн она причина для народа (...)
Когда бы крепко власть ты не держал в руках,
Отрекшись от нее, ты Рим, лишенный славы,
Невольно возвратишь к несчастью войн кровавых,
И в жилах у него оставшаяся кровь Начавшейся войной польется вновь и вновь.)
(Перевод Вс.А. Рождественского)
Максим пытается возражать Цинне. Но Август соглашается с Цинной и отказывается от своего намерения.
Во второй половине трагедии действие принимает новый оборот. Максим, возмущенный предательством Цинны, открывает Октавию истинные его намерения: не желая, чтобы Август добровольно отказался от власти, Цинна продолжает готовиться к убийству императора. Отказ же его от предложения Августа был обусловлен лишь тем, что он хотел, чтобы Август своим добровольным отречением от престола не оставил по себе доброй славы, а был повержен всенародно, в сенате, как тиран. В результате Максим, который сам продолжает лелеять мысль об убийстве Октавия, предает заговорщиков, донося Августу на Цинну. Но Август не забыл политического урока, преподанного ему Цинной: доводы, которые Цинна изложил ему, уговаривая сохранить власть, чтобы предупредить борьбу за престол новых претендентов и новую гражданскую войну, он в первом явлении V действия с укором приводит своему противнику:
Quel etoit donc ton but? d’y regner en ma place?
D’un etrange malheur le destin le menace,
Si pour monter au trône et lui donner la loi
Tu ne trouves dans
Mais oses-tu penser que les Serviliens,
Les Cosses, les Metels, les Pauls, les Fabiens,
Et tant d’autres enfin de qui les grands courages,
Des héros de leur sang sont des vives images,
Quittent le noble orgeuil d’un sang si généreux
Jusqu’a pouvoir souffrir que tu régnés sur eux.
Так в чем же цель твоя? Сменить меня? Народу
Опасную тогда приносишь ты свободу.
И странно, что в душе стремленье к ней храня,
Одно препятствие находишь ты — меня! (...)
Ужель Сервилия, Метелла славный род,
Потомки Фабия, которых чтит народ,
Потомки тех мужей, какими Рим гордится,
В чьих жилах пламенных героев кровь струится,
Забудут хоть на миг о прадедах своих
И примирятся с тем, что ты стал выше их? (...)
В результате, руководствуясь тем, что наказание Цинны, Максима и других заговорщиков сделает его вновь в глазах народа тираном и погубит его славу, Октавий решает не казнить их, но простить Максима и Цинну, обеспечив себе в их лице не политических противников, а союзников и новых друзей. Это послужит в глазах потомков прославлению Цезаря, будет способствовать укреплению его власти на ближайшие годы.
Итак, Корнель приходит к исполненному горечи выводу, что новые заговоры и гражданские войны способствовали бы гибели Франции. Поэтому (а не из-за личного благородства Августа и преимуществ абсолютизма) страна, которая все равно не может в сложившихся исторических условиях достичь желанного идеала свободы, вынуждена примириться с режимом абсолютной монархии. Ибо монархия эта, хотя и остается злом (если рассматривать ее с точки зрения желаемого, но недостижимого сегодня идеала), все же является для страны злом меньшим, чём неизбежная иначе цепь мятежей, заговоров и гражданских войн. Любому объективному и вдумчивому читателю очевидно, что вся эта достаточно горестная политическая философия Корнеля, вопреки вышеприведенному утверждению автора статьи о Корнеле в «Истории всемирной литературы» покойного Д.Д. Обломиевского, не имеет ничего общего с «политической утопией» и «воссозданием образа идеального монарха». Корнель ни в одной из своих трагедий не выступает как политический утопист. Наоборот, так же, как Шекспир и Расин, он, хотя и по-своему, относится к реальной монархической власти (в том числе и к образу Октавия-Августа) весьма критически, хотя поневоле мирится с ней, как с исторически неизбежной, по его убеждению, для современной ему Франции формой политического правления, но лишь потому, что любая другая, республиканская или демократическая фронда, привели бы Францию, по его мнению, к еще более печальным историческим судьбам (какие представляют, с точки зрения драматурга, борьба политических честолюбий и опасность новой гражданской войны).
От этих поневоле конспективных рассуждений о Корнеле и его трагедии «Цинна» обратимся к Пушкину и к вопросу о том, какую роль эта великая трагедия могла сыграть в его жизни.
К сожалению, вопрос об отношении Пушкина к Корнелю в научной литературе разработан слабо. В книге Б.В. Томашевского «Пушкин и Франция» вопросу этому фактически посвящено всего около полутора страниц, причем из трагедий Корнеля здесь упоминается только «Сид» как якобы единственная из трагедий Корнеля, которую Пушкин ценил. Однако из того, что Пушкин в письме к Катенину
При этом думается, что на воображение поэта (хотя это всего лишь гипотеза) не мог не воздействовать тот спор об императорской власти к борьбе вокруг нее, который составляет главное содержание дискуссии между Октавием-Августом и обоими заговорщиками в трагедии Корнеля. Спор этот мог легко вспомниться Пушкину и в момент восстания декабристов, и в те минуты, которые он провел в Москве и разговоре с Николаем I, когда был доставлен к нему в
Более того, можно полагать, что те доводы, которые Корнель вложил в уста Цинны и его антагониста о предпочтительности сохранения в стране устойчивого (хотя и несовершенного) режима личной власти не прошли мимо внимания Пушкина. Поэт не мог не задумываться о стабильности монархии по сравнению с теми непредсказуемыми, а быть может, и роковыми для судеб России последствиями, какие могло иметь восстание декабристов, если бы оно привело страну к кровопролитию и борьбе за власть людей, хотя и исполненных благородных гражданских идей, но достаточно различных по своим политическим амбициям, симпатиям и взглядам. Ведь уже в «Борисе Годунове» Пушкин выразил историческое убеждение в том, что захват царского престола одним узурпатором — хотя бы столь дальновидным и умным, как Годунов, — неизбежно открывает дорогу к власти другим, если найдется новый, столь же смелый искатель приключений, как Лжедимитрий, а воцарение Лжедимитрия столь же неизбежно повлечет за собой цепь новых смут и кровавых преступлений в борьбе за престол. И во всяком случае близость к ряду мест из монологов Цинны и Августа можно проследить в творчестве поэта от его знаменитых «Стансов» вплоть до стихотворения «Из Пиндемонти» и «Капитанской дочки». Так — под знаком театральной эстетики и политической философии Корнеля — рисуется нам один из основных определяющих мотивов политической биографии и философии Пушкина конца 20-х и 30-х годов.
Л-ра: Известия АН. Серия: литература и язык. – 1992. – № 5. – С. 3-8.
Произведения
Критика