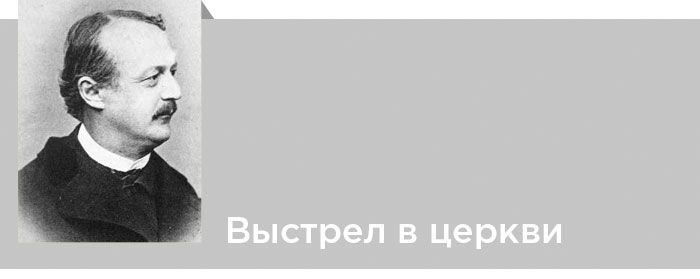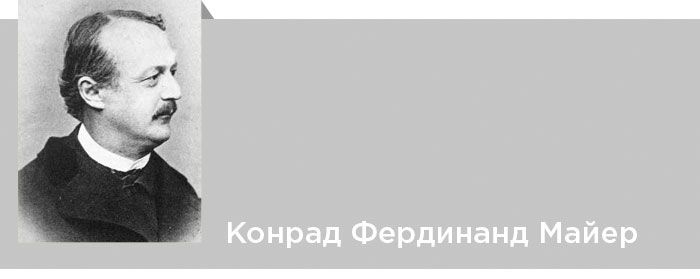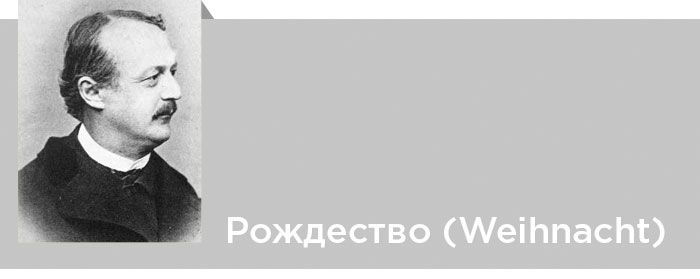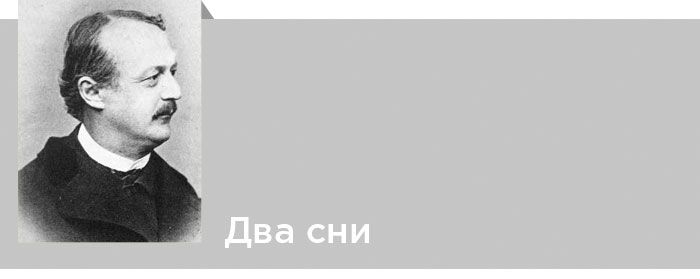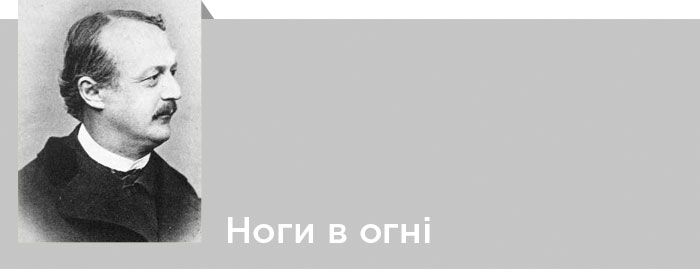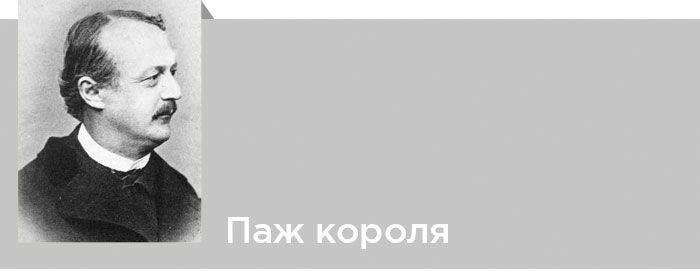Конрад Фердинанд Мейер. Месть иезуитов
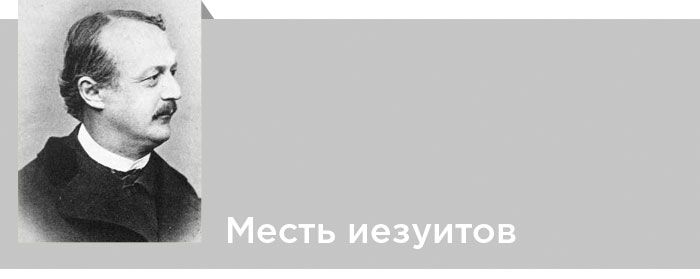
Король, войдя в комнату госпожи Ментенон, властным движением руки распахнул окно — ему всегда не хватало свежего воздуха. В комнату ворвался сырой осенний воздух, и нежная женщина поплотнее закуталась в свои одежды.
С некоторых пор Людовик XIV подолгу сидел у женщины, которая стала предметом его старческого увлечения. Часто он появлялся у нее еще до наступления вечера и оставался, пока не накрывали к ужину. И если он при этом не работал с министрами подле своей скромной подруги, которая оставалась внимательной и молчаливой слушательницей, если погода не позволяла ему совершить прогулку или выехать на охоту, если концерты слишком приедались, то нелегко было придумать, чем занимать и развлекать монарха в течение нескольких часов. Дерзкая муза Мольера, нежности и обмороки госпожи Лавальер, смелое поведение и оригинальные остроты госпожи Монтеспан и многое другое отжило свой срок и утратило для Людовика привлекательность. Король стал воздержанным, почти скромным и теперь любил проводить время с женщиной, которая любила сдержанность и полумрак.
Услужливая, льстивая, она сумела стать ему необходимой; к тому же, несмотря на свои годы, она была еще полна изящества. Правда, у нее была в характере свойственная гувернантке склонность вмешиваться в личные дела других людей, находившая выражение в Сен-Сире, среди благородных девиц, которых она там воспитывала. Но в присутствии повелителя она скромно подчинялась его мудрости, так что если Людовик молчал, то и она не произносила ни слова, особенно в такие дни, как сегодня, когда почему-то отсутствовала молодая жена внука короля, забавнейшее существо на свете, которое вносило всюду оживление и смех своими детскими выходками и нежным голоском.
Ввиду всех этих обстоятельств госпожа Ментенон не без некоторой тревоги прислушивалась к приближающимся шагам короля. Но она успокоилась, когда по хорошо знакомым ей чертам лица заметила, что король, по-видимому, пребывает в приподнятом настроении. Очевидно, Людовик сам собирался рассказать ей что-то, и притом забавное.
Наконец король закрыл окно и уселся в кресло.
— Сударыня, — начал он, — сегодня днем отец Лашез привел ко мне отца Телье, своего преемника.
Отец Лашез был в течение многих лет духовником короля. Людовик не соглашался отпустить престарелого иезуита, невзирая на его глухоту и дряхлость. Как это ни странно, но в силу каких-то неопределенных опасений король не решался взять духовника из другого ордена, кроме иезуитского, а потому охотнее держал подле себя этого дряхлого, но все же почтенного человека, чем молодого и более честолюбивого члена ордена Иисуса. Однако все имеет свои пределы: отец Лашез явно быстрыми шагами приближался к могиле, и Людовик все же не хотел стать виновником смерти своего духовного отца.
— Сударыня, — продолжал король, — мой новый духовник не обладает ни красотой, ни осанкой. Лицом он похож на волка. Вид у него, конечно, отталкивающий, но мне его рекомендовали как человека строгого по отношению к себе и другим, так что ему можно доверить свою совесть. А ведь это самое главное.
Маркиза не любила иезуитов, которые мешали ее браку с его величеством и которые, пользуясь своей растяжимой моралью, заявляли, что в данном случае для сожительства с королем не нужно никакого таинства. И потому она охотно доставляла неприятности благочестивым отцам, если могла их чем-нибудь уколоть. Теперь она молчала, и ее глаза с грустью были устремлены на супруга, пока она внимательно выслушивала его рассказ.
Король скрестил ноги и, рассматривая игру бриллианта на пряжке одного из своих башмаков, небрежно сказал:
— Этот Фагон! Он становится невыносимым! Бог знает, что он себе позволяет!
Фагон был престарелым лейб-медиком короля и пользовался покровительством маркизы. Оба весь день проводили в его обществе и на случай, если король умрет раньше них, уже выбрали себе убежище. Она — Сен-Сир, он — ботанический сад. Здесь они решили похоронить себя после смерти своего повелителя.
— Фагон чрезвычайно привязан к вам, — сказала маркиза.
— Не спорю, однако он все-таки слишком много себе позволяет, — ответил король, наморщив лоб.
— Что же случилось?
Король стал рассказывать. Сегодня на аудиенции он спросил своего нового духовника Телье, находится ли он в родстве с семьей канцлера Телье. Смиренный отец ответил отрицательно и откровенно признался, что он сын крестьянина из нижней Нормандии. Фагон стоял недалеко от них, у окна, оперев подбородок на свою бамбуковую трость. Оттуда, за согнутой спиной иезуита, он вполголоса, но достаточно явственно прошептал: «Скверный!»
— Я погрозил Фагону пальцем, — сказал король.
— За такой честный ответ Фагон не стал бы бранить патера. Очевидно, у него были другие причины, — благоразумно заметила маркиза.
— Пусть даже так, сударыня, но все-таки это было непозволительно. Добрый отец Лашез, уже окончательно оглохший, ничего, правда, не слышал, но я уловил вполне отчетливо то слово, которое прошептал Фагон.
Маркиза с улыбкой заключила, что Фагон употребил выражение более сильное. Король тоже улыбался. Он с ранних лет взял за правило, которое соблюдал до конца своей жизни, будучи, впрочем, склонен к этому и по натуре, — никогда, даже в рассказе, не употреблять грубых, недостойных короля выражений.
В высокой комнате стало темно. Когда лакей поставил на стол два подсвечника и удалился, то вдруг оказалось, что тут есть еще кто-то: тихо вошедший человечек с очень странной внешностью, уродливый и в то же время внушающий почтение. Это был маленький старик с горбатым искривленным телом. Высохшими руками и подбородком он опирался на длинную бамбуковую трость с золотым набалдашником. Своим бледным лицом с голубыми глазами он напоминал привидение. Это был Фагон.
— Государь, я попросту назвал его мерзавцем и негодяем, и это чистейшая правда, — сказал он слабым, дрожащим от волнения голосом, почтительно поклонился королю и отвесил галантный поклон маркизе. — Государь, если я так обошелся в вашем присутствии с духовным лицом, то либо я не могу сдержать возмущения, когда сталкиваюсь с подлостью, либо почтенный возраст позволяет мне говорить правду. Вы думаете, что меня возмутили только эти ужимки Телье, когда он заискивал и извивался перед вами, государь, и на ваш милостивый вопрос о его родне в чванном самоуничижении подчеркнул свое ничтожество? «Что вы, ваше величество! — передразнил Фагон патера. — Я в родне с таким знатным господином? Куда мне! Я сын совершенно простого человека, мужика из нижней Нормандии. Совсем простого мужика!..» Уже эти недостойные слова о собственном отце, это льстивое, притворное, насквозь лживое смирение, эта глубокая фальшь — всего это было вполне достаточно, чтобы назвать его негодяем. Но тут было еще нечто другое, отвратительное и гадкое, за что я отомстил. К сожалению, только словами. Я мстил за злодеяние, за преступление, которое вследствие неожиданной встречи с этим коварным волком снова встало у меня перед глазами. Государь, этот злодей убил благородного мальчика!
— Оставь, Фагон, — сказал король, — что за сказка!
— Ну, скажем, он вогнал его в могилу, — иронически смягчил медик свое обвинение.
— Какого мальчика? — спросил Людовик.
— Буфлера, сына маршала от первого брака, — с грустью ответил Фагон.
— Жюльена Буфлера? Но ведь он умер, если не ошибаюсь, — стал припоминать король, — в семнадцать лет… в иезуитском колледже от воспаления мозга, которое могло быть вызвано переутомлением, а так как отец Телье в те годы мог быть там руководителем занятий, то, конечно, если выражаться образно, — пошутил король, — можно сказать, что он вогнал в гроб неспособного, но усердного в науках мальчика. Мальчик переутомился, как мне рассказывал сам маршал, его отец.
Людовик пожал плечами. Он ожидал чего-нибудь более интересного.
— Неспособного мальчика… — задумчиво повторил врач.
— Да, Фагон, — заметил король. — Чрезвычайно неспособного и притом робкого и нерешительного. Однажды на приеме в замке Марли маршал представил мне своего старшего сына, которому я предоставил право занять в будущем пост маршала. Я видел, как изящный, стройный юноша, на губах которого уже появился первый пушок, был взволнован. Он хотел меня поблагодарить, но стал так заикаться и краснеть, что я, желая его успокоить или по крайней мере оставить в покое, отвернулся со словами: «Ну хорошо» — и сделал это раньше, чем хотел бы из внимания к отцу.
— Я тоже припоминаю тот вечер, — добавила маркиза. — Покойная мать мальчика была моей приятельницей, и я подозвала его после этой неудачи к себе. Он был скромен и печален, но любезен, выражал благодарность и внешне, по крайней мере, не показывал, что его глубоко задела эта неудача. Потом даже приободрился и стал говорить о повседневных вещах очень подкупающим тоном, и ему завидовали, что он находится около меня. Этот прием был плохим днем для мальчика. При дворе все, кто не носит имя Людовика, имеют прозвища. И вот скромному мальчику дали одно из тех опасных прозвищ, которые могут отравить жизнь и которые я строго-настрого запрещала моим девочкам в Сен-Сире. Прозвище это переходило из уст в уста. Оно срывалось даже с невинных девичьих губ, которые несколько лет спустя не отказали бы красивому юноше в поцелуе.
— Какое же это прозвище? — с любопытством спросил Фагон.
— Идиот-красавчик. И дрогнувшая пара высокомерных бровей открыла мне, кто его выдумал.
— Лозен? — попытался отгадать король.
— Сен-Симон, — поправила маркиза. — Он ведь при нашем дворе все высматривает, за всеми нами наблюдает и по ночам взаперти рисует на бумаге карикатуры. Государь, этот благородный герцог не побрезгал заклеймить невиннейшего мальчика только потому, что я, кого он ненавидит, проявила легкую благосклонность к ребенку и сказала ему несколько ласковых слов.
— Идиот-красавчик, — медленно повторил Фагон. — Недурно сказано. Но если бы герцог, у которого кроме плохих есть еще и кое-какие хорошие качества, знал мальчика так, как я его знал и каким он навсегда остался в моей памяти, то, клянусь честью, желчный Сен-Симон почувствовал бы раскаяние. А если бы он подобно мне присутствовал при кончине этого ребенка, когда тот в бреду рвался в неприятельский огонь с именем своего короля на устах, то я думаю, что тайный судья нашего времени — если только легенда о нем верна, потому что никто не видел его за письменным столом, — пришел бы в изумление и пролил бы слезу над могилой мальчика.
— Пожалуйста, Фагон, не говори больше о Сен-Симоне, — сказал король, хмурясь. — Пусть себе записывает все, что считает правдой. Не стану же я рыться в письменных столах. Великая история тоже ведет свои записи и даст мне должную оценку в пределах моей эпохи. Ни слова о нем больше. Но расскажи мне все, что ты знаешь о молодом Буфлере. Быть может, он действительно был хорошим мальчиком. Садись и рассказывай! — И король милостиво указал ему на стул.
— Рассказывай обстоятельно и спокойно, Фагон, — попросила маркиза, взглянув на стрелки настенных часов.
— Слушаюсь, государь, — сказал Фагон, — но обращаюсь с просьбой: сегодня, дурно обошедшись с отцом Телье в вашем присутствии, я позволил себе недопустимую вольность, а по опыту я знаю, что если уже попаду на этот путь, то легко могу повторить подобное преступление в тот же день. Когда госпожа Саблиер разыскала доброго, а может, и не доброго, Лафонтена, вырыла это «древо басен», как она его называла, из плохой почвы и пересадила в хорошее общество, то баснописец согласился вернуться в среду приличных людей только с условием, что ему разрешали каждый вечер по меньшей мере три вольности. Подобного же разрешения, хотя и не совсем в том же смысле, прошу и я. Если желаете, чтобы я рассказал свою историю, разрешите мне три вольности.
— Разрешаю, — сказал король.
Три собеседника придвинулись ближе друг к другу, врач, король и его жена с тонким профилем, высоким лбом и слегка намечающимся двойным подбородком.
— В те дни, когда у вашего величества еще был великий поэт, — начал медик, — но когда в его грудь уже вцепилась смерть, он забавлялся тем, что пародировал смерть на сцене. Тогда здесь, в Версале, была поставлена перед вашим величеством пьеса «Мнимый больной», и я присутствовал на представлении, где могло быть высмеяно мое сословие, а быть может, — кто знает! — и я сам со своим костылем.
Он поднял свою трость, на которую продолжал опираться даже сидя.
— Впрочем, этого не было. Но если бы Мольер увековечил меня в одной из своих комедий, я не стал бы сердиться на него, потому что он сумел высмеять даже свои собственные страдания. Нет ничего лучше этих последних пьес Мольера. Это царственная комедия, которая высмеивает не только нелепое, но и с жестоким наслаждением издевается даже над человечным. Разве не простительно то, что отец бывает чересчур высокого мнения о своем ребенке, гордится его достоинствами и несколько слеп к его слабостям? Конечно, это забавно и вызывает насмешки, и вот в «Мнимом больном» вздорный Диафуарюс хвалит своего еще более вздорного сына Фому, круглого дурака. Но его величество помнит эту сцену.
— Сделай мне удовольствие, Фагон, продекламируй ее, — сказал король, который воздерживался от общения с комической музой, с тех пор как семейные утраты и тяжкие государственные неудачи омрачили его жизнь. Но он невольно улыбнулся при воспоминании о поэте, которого он когда-то любил видеть около себя.
— «Не потому, — начал Фагон, который, как неожиданно оказалось, знал наизусть роль доктора Диафуарюса, — не потому, что я отец, говорю я это, а потому что у меня действительно есть основания быть довольным моим сыном. Все, кто его знают, говорят о нем как о юноше без всякой фальши. Он никогда не обладал особенно деятельным воображением и тем огнем, который свойствен другим. Будучи маленьким ребенком, он никогда не отличался так называемой смышленостью и шаловливостью. Всегда был кроток, миролюбив и молчалив. Он не произносил ни слова, не принимал участия в мальчишеских играх. С трудом его научили читать, и в девять лет он еще не знал азбуки. Но я сказал себе: „Поздно распускающиеся деревья дают самые лучшие плоды; резец оставляет в мраморе более прочный след, чем в песке…“ — и так далее».
Насмешка превращалась на сцене в форменное издевательство благодаря невыразимо нелепому лицу того, кому доставались эти комплименты. Зрители хохотали. Среди них я увидел белокурую женщину трогательной красоты. Я обратил внимание на то, как менялось выражение ее лица. Сначала на нем была написана радость, что заслуженно хвалят ребенка, который учится, хотя и с трудом, но прилежно, и это выражение оставалось, несмотря на то, что юноша на сцене производил невыгодное впечатление. Но потом оно сменилось выражением грустного разочарования, так как зрительница, еще не вполне понимая, успела уже почувствовать, что поэт, в простых словах которого сначала не чувствовалось насмешки, в сущности, высмеивал отцовскую слепоту. Правда, Мольер, великий насмешник, изобразил все так правдиво и естественно, что нельзя было на него сердиться. Но по нежной щеке огорченной женщины скатилась долго, с трудом сдерживаемая слеза. Я понял, что она была матерью неспособного сына. Это вытекало из всего, что я видел и наблюдал. То была первая жена маршала Буфлера.
— Если бы ты даже не назвал ее, Фагон, я по твоему описанию узнала бы эту милую блондинку, — вздохнула маркиза. — Она была чудом невинности и чистосердечия. Она даже не знала, что такое хитрость и ложь.
Дружба, которая связывала женщин и которая оставила у маркизы такое трогательное воспоминание, была искренней и благодетельной для обеих сторон. В трудные годы, когда госпожа Ментенон делала свою карьеру, когда эта тихая честолюбивая женщина с неослабевающей гибкостью и бесконечным терпением, всегда веселая, всегда готовая к услугам, завоевывала сердце короля, она среди прочих придворных дам, относившихся к ней недоброжелательно, привязала к себе благородную чистосердечную женщину несколькими добрыми словами и предупредительно оказанной услугой. Они стали выручать друг друга, помогая одна своим происхождением, другая умом.
— Супруга маршала была глупа, — коротко добавил Фагон. — Но если бы я, калека, любил какую-нибудь женщину, кроме моей благодетельницы, — он почтительно поклонился в сторону маркизы, — и согласился бы пожертвовать своей жизнью ради женщины, то я бы сделал это для первой жены герцога Буфлера. Вскоре я ближе познакомился с ней, к сожалению, в качестве врача, так как здоровье ее было неустойчиво и она внезапно угасла, как потухшая свеча. За несколько дней до своей кончины она пригласила меня к себе и просто сказала, что скоро умрет. Она чутьем понимала свое состояние, в котором не могла разобраться моя наука. Она сказала, что покоряется судьбе, но ее мучит только одна забота: о ее мальчике. «Он хороший ребенок, но совершенно не одарен, так же как я сама, — с грустью, но без малейшего стеснения пожаловалась она. — Мне жилось легко, оставалось только повиноваться маршалу, который любит все решать сам и потому не позволил бы мне распоряжаться самостоятельно, даже если бы я была умной женщиной. Он предоставлял мне только заботы о хозяйстве. Ведь ты знаешь его, Фагон. Он педантичен и любит сам всем управлять. Когда я молчала в обществе или говорила только о самых простых вещах, чтобы не обнаружить невежества, то он был доволен, так как остроумная или блестящая женщина причинила бы ему одно только беспокойство. А потому мне жилось превосходно. Но что будет с ребенком? Жюльен, как сын своего отца, должен занять определенное положение в свете. Но сможет ли он? Учение дается ему с чрезвычайным трудом. Правда, в прилежании у него нет недостатка, он старательный мальчик… Маршал снова женится, и другая жена, более умная, родит ему более способных сыновей. Я совсем не хочу, чтобы Жюльен стал кем-нибудь выдающимся, да это и невозможно. Мне бы не хотелось только, чтобы он терпел слишком большие унижения, если будет отставать от своих братьев. Вот это я поручаю тебе, Фагон. Следи также за тем, чтобы и физически его не переутомили. Не спускай с него глаз, прошу тебя, потому что маршал за этим не уследит. Ты ведь его знаешь: у него в голове война, крепости… Даже за обедом он занят своими делами. Он то вдруг требует, чтобы ему принесли карту, или сам бежит за ней, то сердится по поводу замеченной им утром небрежности кого-нибудь из его подчиненных, которым ничего нельзя доверить. А если при всем этом случайно разобьется чашка или блюдце, то легко раздражающийся маршал даже начинает браниться. Обычно он сидит за столом молча, нахмурившись и не обращая внимания на ребенка. Он не справляется о его успехах, он уверен, что всякий Буфлер и без того исполняет свой долг. Жюльен будет напрягать свои силы до предела… Фагон, следи за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Позаботься о нем, пока он не вырастет. Не стесняйся вмешиваться в его дела. Маршал считается с тобой, и твои советы не пропадут даром. Он называет тебя самым честным человеком во Франции… Ты, я знаю, сдержишь свое слово и сделаешь больше, чем я прошу».
Я дал обещание супруге маршала, и она умерла с облегченной душой. У постели, на которой она лежала, я наблюдал за вверенным мне мальчиком. Он обливался слезами, он порывисто дышал, но не бросился с отчаянием к покойнице, а опустился перед ней на колени, взял ее руку и поцеловал, как делал обычно. Скорбь его была глубока, но целомудренна и сдержанна. Из этого я заключил, что у него мужской характер и недюжинное самообладание. Я не ошибся. Вообще Жюльен был в то время хорошеньким мальчиком лет тринадцати, с выразительными глазами своей матери, симпатичными чертами лица и маленьким лбом под шапкой курчавых белокурых волос. Сложен он был безукоризненно и отличался ловкостью во всех физических упражнениях.
Маршал похоронил подругу своей молодости и через год снова обвенчался с младшей дочерью маршала Грамона, которую мы все знаем как женщину живую, весьма неглупую, обладающую оливковой кожей и поразительной худобой. После своей женитьбы он по собственному побуждению стал советоваться со мной, в какую школу отправить Жюльена, ибо оставаться теперь в доме отца ему было нельзя. Я переговорил со священником, который был у них домашним учителем и занимался воспитанием и обучением мальчика. Он показал мне его тетрадки, которые свидетельствовали о трогательном прилежании и настойчивом терпении, но в то же время о чрезвычайно посредственных способностях, полном отсутствии сообразительности и остроумия. Всякая игра ума и воображения была ему чужда. Он располагал только самыми элементарными понятиями, самыми скудными словами. Лишь изредка какое-нибудь выражение могло понравиться своей чистотой или заставляло улыбнуться своей наивностью. Как это ни странно и ни печально, домашний священник говорил о своем ученике, сам того не ведая, словами Мольера: «Это мальчик без всякой фальши, он всему верит, он лишен огня и воображения, кроток, миролюбив, молчалив и… — прибавлял от себя, — обладает прекрасным сердцем».
Большого выбора у нас не было, маршал и я не нашли для мальчика лучшей школы, чем иезуитский колледж. А если так, то, конечно, не было причин отказываться от школы парижской, ибо зачем же разлучать Жюльена со сверстниками его круга? Следует отдать должное отцам иезуитам: они не педанты, умеют приятно преподавать и ласково обращаются с учениками. При этом я, конечно, исходил из предположения, что маршал никогда не наносил обиды благочестивым отцам. Для подобных опасений не было основания, ибо маршал не интересовался церковными спорами и как человек военный относился даже с некоторой симпатией к дисциплине, которая строго соблюдается в этом ордене.
Но как мог обиженный природой мальчик идти в ногу со своим классом? Здесь маршал и я рассчитывали на содействие совершенно разных вещей. Маршал возлагал свои надежды на чувство долга и самолюбие у ребенка. Он сам, хотя и обладал средними дарованиями, достиг значительных успехов в своей области. Но это далось ему не благодаря гениальным задаткам, а вследствие его моральных качеств. И вот, не зная или не желая знать, что у Жюльена не было даже той средней одаренности, которую сам он сумел использовать при помощи прилежания, он полагал, что для человека с волей нет ничего невозможного и что можно подчинить себе даже природу. Недаром его кавалеристы утверждали, что он считает нарушением субординации, если на параде у кого-нибудь на лбу появляются капли пота, — на том основании, что сам он никогда не потеет.
Я со своей стороны рассчитывал на общее человеколюбие иезуитов, на их привычку считаться с качествами и положением человека. Я побеседовал с некоторыми из них и обратил их внимание на особенности мальчика. Также я указал на положение, которое занимает его отец, но тут же убедился, что этому они не придают никакого значения. Маршал интересуется только военными делами, при этом он добродетелен, не любит интриг, и честь следует за ним по пятам, словно тень. А потому отцам в отношении него не на что было надеяться и нечего было опасаться. При таких условиях я считал нужным снабдить Жюльена более веской рекомендацией и дал благочестивым отцам одно указание…
Здесь рассказчик остановился.
— Ты о чем-то умалчиваешь, Фагон? — спросил король.
— Я к этому еще вернусь, — пробормотал Фагон смущенно. — И тогда тебе, государь, придется простить мне одну вольность. Ну, словом, мое средство подействовало. Отцы старались облегчить ребенку усвоение науки. Он чувствовал себя окруженным теплотой, его оцепенение проходило, скудные дарования развивались, мужество его росло, и ему жилось хорошо. Но все внезапно изменилось.
Приблизительно через полгода после вступления Жюльена в иезуитский колледж произошла неприятная история в Орлеане, где отцы имели недвижимость и школу. Четверо братьев из мелко-поместной семьи владели там имением, которое граничило с недвижимостью иезуитов и в котором они вели общее хозяйство. Все четверо служили в вашей армии, государь, и, как обычно бывает, растратили на свое военное снаряжение, а еще больше в компании богатых товарищей все небольшие наличные средства и заложили свои земли. Случилось так, что иезуиты, скупив все закладные, оказались единственными кредиторами четырех дворян и предложили им еще сверх того кругленькую сумму в долг сроком сначала на три года, после чего, в случае непродления договора, деньги надлежало уплатить через год. При этом отцы-иезуиты дали дворянам устное обязательство оставить всю сумму на имении в виде закладной. Они ссылались на то, что только по формальным правилам своего ордена не могут выдавать деньги сроком дольше, чем на три года.
Но случилось так, что иезуиты этой общины неожиданно в полном составе были посланы на край света, чуть ли не в Японию, а те, которые заступили на их место, разумеется, ничего не знали об устном обещании своих предшественников. Прошло три года. Новые отцы потребовали долг, через год дворяне не смогли уплатить, и против них был возбужден процесс.
Благочестивая община уже завладела их землями, но тут поднялся шум. Храбрые братья стали стучаться во все двери, в том числе и к маршалу Буфлеру, который их знал как хороших солдат. Он расследовал сделку со свойственной ему серьезностью и основательностью. Решающим моментом было утверждение братьев, что они получили от благочестивых отцов не только устные заверения, но также и целый ряд писем соответствующего содержания, вследствие чего они считали себя вполне застрахованными. Но эти письма каким-то непонятным образом исчезли. Правда, сохранились бумаги, сложенные в виде писем, со сломанными обветрившимися печатями, которые были поразительно похожи на письма отцов. Но на этих бумагах ничего не было написано.
Однажды, зайдя в кабинет маршала, я увидел, как он с обычной для него старательностью вертит в руках эти белые бумажные листки и рассматривает их под лупой с обеих сторон. Я предложил ему доверить мне на час эти листки. Он дал свое согласие, сопровождая его серьезным взглядом.
Государь, вы подарили науке и мне ботанический сад, который делает вам честь. Там среди зелени построили вы мне тихое обиталище на старость лет. Недалеко от этого дома я построил просторную химическую лабораторию. Там я подверг эти бумажки действию соответствующих, ученым отцам, может быть, еще неизвестных средств. И вот выцветшие чернила снова появились на свет божий и обнаружили проделку отцов-иезуитов. Маршал поспешил с уличающими бумагами прямо к вашему величеству.
Король Людовик потирал лоб.
— У вас он застал отца Лашеза, который был чрезвычайно смущен проступком своих провинциальных братьев по ордену, но тут же указал вашему величеству, сколь вопиюще несправедливо было бы заставить страдать за легкомыслие немногих лиц или одного человека такое благодетельное и высоконравственное общество. Тем более что этот единственный виновник, бывший настоятель той общины, как было известно отцу Лашезу из достоверных источников, недавно мученически окончил свою жизнь в Японии, среди язычников, где был посажен на кол. Выгоднее всего такой оборот дела был для четырех дворян. Половину долга им простили смущенные отцы, другая половина была погашена из средств великодушной особы.
Король, который был, очевидно, этой особой, сохранял невозмутимый вид.
— Отец Лашез после выразил маршалу особую благодарность за то, что тот установил истину в таком трудном деле. А затем он попросил его как дворянин дворянина сохранить прежнюю благосклонность к отцам и не выдавать их тайны.
Маршал, польщенный, пообещал, но почему-то и слышать не хотел о том, чтобы выдать или уничтожить уличающие документы. Отец Лашез сначала прибегал к тонким намекам, потом надоедал настойчивыми требованиями, но ничто не помогало. Не то чтобы маршал намеревался воспользоваться этими опасными письмами против благочестивых отцов, но он их уже присоединил к своим бумагам, на раскладывание которых у него уходит третья часть его времени. В этом «архиве», как он его называет, оставалось зарытым все, что туда когда-либо попадало. Таким образом, из-за любви к порядку и педантических привычек маршала над орденом висела постоянная угроза, которой монахи не прощали ее неосторожному виновнику. Маршал об этом не имел никакого представления и полагал, что у него самые лучшие отношения с отцами.
Я был другого мнения и не скупился на убеждения. Я настойчиво требовал, чтобы он немедленно забрал мальчика от иезуитов, ибо затаенная ненависть и скрытая злоба должны были распространиться по всему ордену, ища себе жертву, и легко могли найти ее в лице невинного мальчика. Маршал с изумлением смотрел на меня, словно я сошел с ума. Откровенно говоря, маршал либо недалекий человек, либо он хотел сдержать свое слово, пусть даже пожертвовав своим ребенком.
— Послушайте, Фагон, — заявил он мне. — Какое отношение имеет Жюльен к этой истории, случившейся в провинции? Разве есть тут хоть какая-нибудь связь? Впрочем, если отцы будут несколько строже с ним, это не повредит. Вы сильно его избаловали. Забирать теперь мальчика от иезуитов будет неблагородно. Начнутся разговоры, станут доискиваться причин, может быть, раскопают всю историю, и я окажусь в положении человека, нарушившего свое слово.
Маршал видел только свою честь, не думая о ребенке, которого он при жизни, может быть, ни разу не удостоил нежного взгляда. Мне хотелось отколотить его этим костылем за его благородство.
Случилось то, что должно было случиться. Незаметно, не сразу, отцы-профессора стали прижимать мальчика, которого ненавидели как сына человека, оскорбившего орден. Не все они знали эту грязную историю и лучшим из них она меньше всего была известна, но все знали одно: маршал Буфлер оскорбил их, нанес им вред — и все его ненавидели.
По отношению к Жюльену исчезла не только всякая предупредительность, но и простое внимание, которого требовала справедливость. Ребенок страдал. Каждый день и каждый час его унижали. Не открытым порицанием и уж конечно не руганью. Они делали свое дело тонко: просто перестали дружески поддерживать Жюльена. Подталкиваемый честолюбием, отчаявшийся ребенок стал меньше спать и губил свое здоровье. Мне не хочется говорить об этом. Это меня слишком возмущает…
Фагон сделал паузу и вздохнул. Король воспользовался перерывом и спокойно заметил:
— Фагон, мне представляется сомнительным, чтобы все это соответствовало действительности. Молчаливый заговор ученых и разумных людей против ребенка, злобная ненависть целого общества против такого, в сущности, безопасного человека, каким является маршал, который к тому же рыцарски обошелся с обществом… Тебе все это мерещится, Фагон. Кто знает, может быть, у тебя, кроме унаследованного предрассудка против ордена, имеется к нему еще и личная вражда.
— Кто знает… — пробормотал Фагон.
Он побледнел, насколько еще мог бледнеть, и глаза его вспыхнули. Маркиза испугалась и тихонько толкнула старика в локоть, но он не почувствовал ее прикосновения. Госпожа Ментенон знала, что старик, когда он раздражен, совершенно выходит из себя и говорит невероятные вещи даже самому королю, который, правда, прощал врачу то, чего никогда не простил бы кому-нибудь другому.
Фагон дрожал, он бормотал бессвязные фразы, и слова его стремительно обгоняли друг друга, как воины, бегущие за оружием.
— Ты не веришь, государь, ты, знаток сердец человеческих, не веришь, что отцы-иезуиты в ненависти своей готовы уничтожить всякого, кто сознательно или бессознательно оскорбил их. Ты не веришь, что для этих отцов не существует ни истины, ни лжи, ни добра, ни зла, ничего, кроме их ордена. Ты не хочешь этому верить, государь. Скажи же мне, король, так хорошо знающий действительность, — продолжал бушевать Фагон, уклоняясь от темы, — раз уж зашла речь о достоверности: ты, может быть, не веришь, что в твоем королевстве при обращении протестантов применяется сила?
— Вопрос этот, — ответил король очень серьезно, — будет первой из дозволенных тебе сегодня трех вольностей. Я отвечу тебе на него. Нет, Фагон, за исключением ничтожного числа случаев, при обращении протестантов не применяется насилие, ибо я раз и навсегда категорически запретил это, и мои приказы исполняются. Никакого принуждения совести нет. Истинная религия в настоящее время одерживает во Франции победы над сотнями тысяч людей силой внутреннего убеждения.
— Благодаря проповедям отца Бурдалу? — резко и насмешливо спросил Фагон.
Затем он умолк. С выражением ужаса в глазах взирал он на эту непреодолимую стену предрассудков, это полное отрицание истины.
— Государь, — сказал Фагон, — не подумай, что я являюсь здесь заинтересованной стороной и что во мне говорит кровь моих протестантских предков. Я порвал с почтенной церковью. Почему? Потому что, за исключением Бога, с которым я не расстаюсь и которого прошу не покидать меня на старости лет, я в отношении всех религий и вероисповеданий придерживаюсь мнения, выраженного в стихе Лукреция…
Ни король, ни госпожа Ментенон не знали этого стиха, но они догадывались, что там были высказаны не особенно благочестивые мысли.
— Знаете, государь, отчего умер мой отец? — тихо спросил Фагон. — Это осталось тайной, но вам я ее доверю. Он был кротким человеком и скудно, но честно кормил себя, жену и детей — из которых я, калека, был шестым — тем, что продавал в Оксере свои снадобья. В Оксере здоровый климат и масса аптек. Местные жители, ревностные католики, любили моего отца, желали ему всяческого блага и жаждали вернуть его в лоно церкви, но не насильно, ибо ведь, как вы сказали, государь, нельзя насиловать совесть. А потому они сговорились ничего не покупать в кальвинистской аптеке. Отец мой лишился хлеба, и мы голодали. Отцы-иезуиты проявляли при этом, как и всегда, наибольшее старание. Тогда у него начался внутренний разлад. Он отрекся от кальвинизма, но так как резкие догматы учения Кальвина не так-то легко выходят из головы, в которой они засели с детства, то бедняга скоро стал считать себя Иудой, предавшим своего Господа, и покончил с собой по его примеру.
— Фагон, — с достоинством сказал король, — ты бранил бедного патера Телье за бестактную речь о его отце, а теперь ты сам говоришь так же цинично о своем собственном. Не нужно срывать покровы с печальных явлений.
— Государь, — возразил врач, — вы правы, но в этом мире лжи можно поддаться настроению и со злости нечаянно сорвать покров с кровавого события… Но, государь, я слишком рано воспользовался первой своей вольностью, и, право, мне хочется сейчас же воспользоваться и второй.
По изменившимся чертам врача маркиза поняла, что гнев его прошел и что после такой вспышки в этот вечер уже не стоит опасаться повторения.
— Государь, — почти легкомысленно сказал Фагон, — знали ли вы когда-нибудь вашего подданного, художника Мутона, рисующего зверей? Вы отрицательно качаете головой, так разрешите же мне представить вам этого художника, который не годился в придворные, но которого нельзя выкинуть из моей истории. Правда, я его представлю не собственной персоной, с дырявой шляпой, обломанной трубкой в зубах — я и сейчас чувствую запах его скверного табака, — в одной жилетке и в чулках, опустившихся за отсутствием подвязок. Это и невозможно, ибо он уже в могиле. Государь, вы не любите голландских мастеров, не любите их полотен, не любите и их самих с их необузданностью. Так знайте же, ваше величество, у вас был художник из Пикардии, который по правдивости своей кисти и непринужденности своих манер был больше голландцем, чем сами голландцы.
Этот Мутон, государь, жил среди нас, рисовал своих пасущихся коров и овец, окутанных облаком пыли, не имея никакого представления обо всем великом и возвышенном, что создано твоим веком. Он не знал твоих поэтов, не знал даже по имени твоих епископов и проповедников, оставался в стороне от всего. О твоих государственных деятелях — Кольбере, Лионне и других — Мутон не имел представления. Из твоих полководцев — Конде с птичьим лицом, Тюренна, Люксанбура и внука прекрасной Габриэли — Мутон знал только последнего, потому что в замке Анэ размалевал по его заказу залу картинами, изображающими охоту на оленей. Вандом любил Мутона, а тот, когда хотел похвалить своего благодетеля герцога, называл его — извините — скотиной. Знал ли Мутон того, кто является солнцем нашего времени, знал ли он о твоем существовании? Трудно поверить, но, быть может, он не знал даже твоего имени, хотя изредка ему попадались в руки монеты с твоим изображением. Но Мутон не умел читать, так же как не умел его любимец, другой Мутон.
Этот второй Мутон, умный пудель с чрезвычайно сообразительными глазами, над которыми пучками свисали со лба черные косматые волосы, был, несомненно, в пределах своей натуры самым одаренным из троих моих гостей. Дело в том, что Жюльен Буфлер, о котором я рассказываю, Мутон-человек и пудель Мутон часто и с удовольствием просиживали у меня часами напролет.
Вы знаете, государь, что отцы-иезуиты не скупятся на каникулы, потому что учеников их, которые принадлежат к знатным и даже высокопоставленным кругам, часто приглашают на охоту, представления и другие забавы. Правда, не всех. Поэтому я иногда приглашал Жюльена, которого отец его, маршал, редко звал домой. Я зазывал мальчика в ваш ботанический сад, где меня часто навещал Мутон, который любил находиться среди зверей и растений. Он рисовал какую-нибудь ученую сову или забавную обезьяну, лошадей или коров. Я дал Мутону ключ от мансарды и от ближайшей калитки в заборе, чтобы предоставить бродяге угол, где он мог бы пристроить свой мольберт и папки. Он, бывало, появлялся у меня и исчезал, когда ему вздумается. Однажды в один из прохладных дождливых летних дней я сидел в своей библиотеке, смотрел поверх очков и раскрытой книги в высокое окно на расположенную напротив мансарды пристройку, где находилось жилище Мутона. Там я увидел белокурую голову мальчика, в радостном напряжении наклонившуюся над мольбертом, а за ней — голову Мутона. Рука художника направляла тонкую руку юноши. Вне всякого сомнения, то был урок живописи. Пудель Мутон сидел рядом на высоком стуле и смотрел на эту забаву умными глазами, как бы одобряя происходящее. Я положил закладку в книгу и отправился в мансарду.
Из-за моих войлочных туфель веселые рисовальщики не слышали, как я вошел, и только пудель Мутон заметил меня, но, не сходя со стула, ограничился вилянием хвоста. Я тихо опустился в кресло и услышал самую странную беседу, которая когда-либо велась в нашем ботаническом саду. Но сначала я из своего угла взглянул на картину, стоявшую на мольберте и распространявшую запах свежих масляных красок. Что было изображено на этой картине? Ничего: вечернее настроение, тихая речка, в которой отражались клочья розовых облаков, и мост, обросший мхом. В реке стояли две коровы, одна пила, а другая пребывала в созерцательном настроении, и вода стекала у нее с морды. Разумеется, главными своими достоинствами картина была обязана Мутону. Но мальчик уже обнаруживал умение владеть кистью — это могло быть результатом только уроков, взятых у Мутона без моего ведома. Велики или малы были усвоенные им познания, но уже одна иллюзия успеха, участие в работе гения, в смелом и произвольном творчестве — то, о чем раньше этот мальчик, лишенный фантазии, не имел никакого представления и что ему казалось чудом, — все это после стольких ударов по самолюбию приводило его в блаженство. Кровь играла на его целомудренных щеках, и старание окрыляло эту руку. Нельзя было представить себе ничего более трогательного, и я испытывал истинную отеческую радость.
Тем временем Мутон объяснял мальчику широкие формы и неуклюжие движения пасущейся коровы и закончил свои объяснения, заявив, что ее превосходит в совершенстве только фигура быка. Это высшее, что создал Творец. Собственно говоря, он сказал «природа», а не «Творец», ибо о последнем он не имел никакого представления, так как был лишен воспитания.
Небольшой радости уже было достаточно, чтобы врожденная веселость забила ключом в мальчике. Почтительный отзыв Мутона о рогатом скоте показался ему смешным, и Жюльен невинно поведал:
— Сегодня утром отец Амиель говорил нам на уроке, что древние египтяне воздавали божеские почести быку. По-моему, это смешно.
— Черт побери, — воскликнул художник, — они были правы. Умные люди эти скоты. Не правда ли, Мутон? Что? Нет, ты мне скажи, Жюльен, разве бычья голова по своей мощи и грозному величию не производит впечатления более божественного — если уж употреблять это глупое слово, — чем треугольник, или голубь, или пошлое человеческое лицо? Не правда ли, Мутон? Ты это и сам сознаешь, Жюльен. Если я говорю «пошлое человеческое лицо», то я, конечно, не имею в виду носа отца Амиеля. К нему я испытываю полное уважение.
И Мутон нарисовал, впрочем без всякой насмешки, одним движением кисти на еловой доске мольберта нос, но такой чудовищный и огромный, что он невольно вызывал смех.
— Это показывает, — продолжал он совершенно серьезно, — что природа не стоит на месте. Ей доставляет удовольствие творить иногда что-нибудь новое.
— Отец Амиель вряд ли будет благодарен природе за свой нос. Он делает его смешным и заставляет терпеть насмешки от моих товарищей, — робко заметил мальчик.
— Они еще мальчишки, — великодушно заметил Мутон, — им еще недоступно величественное. Да, кстати, скажи, Жюльен, почему это, когда я недавно навестил тебя в школе, чтобы передать рисунки, я нашел тебя в обществе малышей, мальчиков лет тринадцати-четырнадцати? Разве это дело, когда у тебя уже растет пушок на губах и имеется возлюбленная?
Этот неожиданный вопрос вызвал на лице юноши борьбу двух чувств — стыдливо скрываемого счастья и глубокого горя, причем преобладало последнее. Жюльен вздохнул.
— Я отстал, — пробормотал он, невольно употребив выражение, которое имело двоякий смысл.
— Глупости, — бросил Мутон. — В чем отстал? Разве ты для твоих лет не обладаешь хорошим ростом, стройностью, красотой? Если тебе не по душе науки, это свидетельствует только о твоем здравом смысле. Клянусь честью, будь у меня борода или даже хоть пушок на губах, я не стал бы сидеть с мальчишками, а просто взял бы да сбежал.
— Но мой отец, маршал, потребовал, чтобы я просидел еще год с малышами. Он просил, чтобы я сделал это для него.
Мальчик произнес эти слова с выражением покорности и почтительной любви. Я был тронут этим, хотя вместе с тем сердился на маршала, злоупотреблявшего обожанием своего ребенка, и, кроме того, был чрезвычайно недоволен тем, что Жюльен, такой молчаливый со мной и со всеми другими, оказывал доверие Мутону и раскрывал все свои тайны ему. Я был неправ: ведь и мы, взрослые, рассказываем верному животному, которое кладет нам свои лапы на колени, про наше горе, и вполне естественно, что все обиженные природой ищут себе общества среди низших, а не среди равных себе, со стороны которых они чувствуют пренебрежение и сострадание.
— Знаешь что, — продолжал Мутон, помолчав немного, причем другой Мутон навострил уши. — Ты уже теперь неплохо рисуешь скотину и каждый день делаешь успехи. Я возьму тебя с собой на юг в качестве подмастерья. У меня есть заказ в замке Гриньян. Поезжай со мной, будешь жить на свободе, как пташка небесная, не заглядывать в книги и тетрадки и оставишь своего маршала в покое. Твоя холодная голубоглазая подруга тоже тут останется, или ты думаешь, шельмец, я не видел три дня назад, когда наш старикашка лекарь был в Версале, как ты стоял у обезьян вместе с этой старушенцией и высокой голубоглазой куклой? Мы уж ее там заменим чем-нибудь загорелым.
Последние слова, которые звучали еще циничнее, возмутили меня, хотя я знал, что этому мальчику они не могли причинить вреда. Я сильно кашлянул. Жюльен почтительно поднялся, чтобы поклониться мне, а Мутон, нисколько не обнаруживая смущения, пробормотал в бороду:
— А, этот!
Мутон был совершенно неблагодарным человеком. Он продолжил рисовать, а я вывел мальчика с собой в сад и спросил, действительно ли этот циник навестил его в колледже, что мне по вполне понятным причинам было неприятно. Жюльен подтвердил и признался, что ему досталось от товарищей за то, что он при них пожал руку Мутону, у которого из дырявых рукавов высовывались локти, а из сапог торчали пальцы.
— Но я все-таки сделал это и проводил его до улицы, — сказал Жюльен, — потому что я должен быть ему благодарен за уроки. Я очень люблю Мутона, несмотря на его нечистоплотность.
Так говорил мальчик, не придавая этому никакого значения, и я вспомнил сцену, которую наблюдал недавно с балкона колледжа, выходящего во двор, когда меня позвали туда к больному ученику. Я долго не мог оторваться от этой сцены. Внизу проходил урок фехтования, и преподаватель, старый сержант со шрамами на лице, много лет служивший под командованием маршала, обращался с сыном своего полководца — который только что еще сидел на школьной скамейке рядом с детьми — с такой чрезвычайной почтительностью, словно он ожидал от него приказаний, а не собирался приказывать ему.
Жюльен дрался на рапирах превосходно — можно сказать, благородно дрался. В долгие часы учебы мальчик привык механически вертеть кистью руки, благодаря чему она стала чрезвычайно гибкой. К тому же у него был меткий глаз и уверенный удар. Поэтому он стал первоклассным фехтовальщиком. Верхом он тоже ездил очень хорошо. Мальчик, которого всюду унижали, мог дать почувствовать товарищам свое единственное преимущество, чтобы таким образом завоевать авторитет. Но он пренебрегал такими средствами. С одинаково рыцарской вежливостью обращался он во время этих упражнений с ловкими и неловкими фехтовальщиками. С первыми никогда не вступал в серьезное соревнование, а над вторыми никогда не издевался и порой даже великодушно позволял уколоть себя рапирой, чтобы приободрить. Таким образом он незаметно и деликатно установил на уроках фехтования то равенство, которого сам был лишен на уроках. Среди товарищей он не пользовался уважением, завоеванным при помощи силы, но зато к нему проявляли почтительность, связанную с робостью и вызываемую его необъяснимой добротой, причем, правда, сюда еще присоединялось сострадание по поводу его слабых успехов во всем остальном. Несчастья, которые многих ожесточают, только воспитали и облагородили его душу.
Прогуливаясь с Жюльеном по вашему саду, государь, я подошел к клеткам, где за решетками сидят дикие звери. Только что туда загнали волка, который, сверкая глазами, порывисто и неуклюже метался по своей тюрьме. Я указал на него мальчику, но тот, бросив беглый взгляд на беспокойное животное, вздрогнул и отвернулся. Плоский череп, лживые глаза, отвратительная морда и коварно сжатые зубы могли испугать человека. Но мальчик, побывавший не раз на охоте, был не из пугливых.
— Что с тобой, Жюльен? — с улыбкой спросил я.
Он смущенно начал:
— Это животное напоминает мне кое-кого… — но прервал свою речь, так как на небольшом расстоянии от себя мы увидели двух знатных дам, привлекших наше внимание: чрезвычайно подвижную старушку и с ней молодую девушку.
Старушка была графиня Мимер, вы помните ее, государь, хотя она уже несколько десятков лет избегает появляться при дворе — не по нерадению, ибо она бесконечно обожает вас, а потому, что, как она выражается, не хочет своими морщинами оскорблять ваше художественное чувство. Уродливая и остроумная, как я, с костылем, эта оригинальная женщина всегда внушала мне симпатию.
— Здравствуй, Фагон, — поприветствовала она меня, — пришла посмотреть на твои травы и попросить у тебя несколько кустов ревеня для моего сада. Ты ведь знаешь, я тоже немного занимаюсь врачеванием. — И она взяла меня под руку. — Поздоровайтесь, дети. Что вы притворяетесь, будто никогда не видели друг друга?
Робкий Жюльен без смущения поприветствовал девушку, которая подала ему руку. Меня это удивило и порадовало.
— Мирабелла Мирамион, — назвала мне ее графиня, — не правда ли, великолепное имя, Фагон?
Я посмотрел на хорошенькую девушку и сразу вспомнил о той голубоглазой возлюбленной, которой Мутон поддразнивал мальчика. Действительно, у нее были большие голубые умоляющие глаза и еще не вполне развившаяся фигура. Детским серебристым голосом, который проникал в самую душу, она поприветствовала меня следующими словами:
— О первый из врачей и естествоиспытателей, кланяюсь вам в этом всемирно известном саду, который в знак милости могущественнейшего повелителя, именем коего называется наше столетие, вы получили в его многолюдной и замечательной столице.
Я был так огорошен этой устаревшей риторикой, исходившей из маленьких, свежих, как весна, уст, что позволил вмешаться старушке, которая добродушно начала бранить девушку:
— Оставь, дитя мое. Тут мы среди друзей, ибо Фагон принадлежит к их числу и не станет издеваться. Но ведь сколько раз я тебе говорила за эти три недели, что ты находишься у меня, чтобы ты оставила эту проклятую провинциальную манеру выражаться пышными фразами. Так не говорят. Здесь перед тобой не первый из врачей, а просто господин Фагон, ботанический сад — просто ботанический сад, или сад с лечебными травами, или королевский сад. Париж — просто Париж, а не столица, а король довольствуется тем, что его называют королем. Запомни это.
Рот девушки болезненно скривился, и слезинка скатилась по ее цветущей щеке. Но тут, к моему изумлению, Жюльен в крайнем возбуждении обратился к старухе.
— Простите, графиня, — сказал он смело и резко, — риторика — обязательный предмет и очень трудный. Я изумлен, как пышно выражается мадемуазель Мирамион, и если бы ее слышал отец Амиель…
— Отец Амиель! — И графиня так расхохоталась, что у меня заныло ухо. — У отца Амиеля нос, и какой нос! Ты представь себе, Фагон, нос, перед которым пасует сам аббат Жене. Спросишь, зачем я была в колледже? Я увозила оттуда моего племянника. Ты ведь знаешь, Фагон, на моем попечении дети двух скончавшихся сестер. Так вот, я приехала за племянником Гонтраном — бедным мальчиком. И в ожидании отца Телье, начальника колледжа, меня провели в класс риторики к отцу Амиелю. О, боже мой, боже мой, — графиня держалась за свой живот, — вот натерпелась я, пытаясь сдержаться и не расхохотаться! Сначала он изображал римскую женщину, решившую покончить с собой. Патер заколол себя линейкой, потом сложил рот сердечком и прошептал: «Нет, это не больно». Но это еще были пустяки по сравнению со сценой, изображавшей Клеопатру, умирающую от укуса змеи. Отец приставил линейку к левой груди и закатил глазки. Это надо было видеть, Фагон… Ой! — внезапно вскрикнула она так пронзительно, что я вздрогнул. — Да ведь это отец Телье! — И она указала на волка, который находился от нас в двадцати шагах. — Право, это отец Телье как живой. Уйдем от противных зверей, Фагон. Дай мне руку, Жюльен.
— Простите, графиня, — спросил он, — почему вы назвали Гонтрана бедным мальчиком? Ведь он теперь в армии и, может быть, уже удостоился чести носить знамя короля.
Ах! — простонала графиня с внезапно изменившимся лицом, и слезы горя заменили слезы, выступившие раньше от хохота. — Почему я назвала Гонтрана бедным мальчиком? Потому что нет его больше в живых, Жюльен. Сдуло его. За этим я и пришла в сад. Я рассчитывала найти тебя здесь и сказать, что Гонтран пал в бою. И ты подумай только: на следующий же день после его приезда в армию. Ему дали назначение, и он повел патруль с такой отвагой и так бестолково, что его разорвало ядро, совсем как недавно маршала Тюренна. Ты только подумай, Фагон: мальчику не минуло еще шестнадцати лет, но его тянуло прочь из колледжа, где он так хорошо учился. Он во сне и наяву мечтал о ружье. А при этом он был так близорук, Фагон, что ты не можешь себе даже представить. Так близорук, что на двадцать шагов впереди перед ним все расплывалось в тумане. Разумеется, я и все благоразумные люди советовали ему не идти на военную службу. Но это не помогало, потому что у него на редкость упрямая голова. Я, как мать, ссорилась с мальчиком, но в один прекрасный день он сбежал от меня и помчался к твоему отцу, Жюльен. Он в это время как раз садился в коляску, чтобы отправиться к своей армии, которой он командовал на голландской границе. Он спросил мальчика — как он мне сам об этом теперь написал, — есть ли у него отец. А когда мальчик сказал, что нет, то маршал разрешил ему поехать с его свитой. Ну а теперь смелый мальчишка гниет там, — она указала рукой на север, — в какой-нибудь бельгийской деревушке. Зато скудные доли в наследстве его пяти сестер несколько увеличились.
По лицу Жюльена я видел, какие глубокие и разнородные чувства волновали его в связи со смертью товарища. Маршал взял его с собой на войну, а собственного сына заставлял сидеть на противной школьной скамье. Но мальчик так слепо верил в справедливость отца, даже когда не понимал ее, что это облако на его лице быстро сменилось выражением радости.
— Ты улыбаешься, Жюльен! — с ужасом воскликнула старуха.
— Я полагаю, — задумчиво произнес он, — что смерть за короля есть счастье.
Это рыцарское изречение не свидетельствовало о жизнерадостности, а неестественно блаженный тон, которым мальчик произнес свои слова, произвел тяжелое впечатление на добрую графиню. С подавленным вздохом она показала, что понимает страдания мальчика, у которого так мучительно сложилась жизнь.
— Погуляйте немного с Мирабеллой, Жюльен, — сказала она, — отойдите вперед, туда, к пальмам, не слишком близко, потому что мне нужно поговорить с Фагоном, и не слишком далеко, чтобы я могла вас видеть.
— Как красиво они идут, — прошептала старуха вслед уходящим. — Адам и Ева. Не смейся, Фагон. Они шествуют точно в раю. К тому же они невинны, потому что у обоих юные годы были полны страданий, что позволяет им испытывать чувство чистой любви без ее терний. Мне даже не бросается в глаза, что девушка немного старше и выше юноши, хотя обыкновенно мне это не нравится. Если не они созданы друг для друга, то кто же еще?.. С этой девушкой вышла очень смешная история, Фагон. Я видела, как ты был ошеломлен, когда милое дитя обратилось к тебе с такой безвкусной речью. Моя сестра виконтесса, помяни Господи ее душу, была жеманницей, которая запоздала с появлением на свет на пятьдесят лет. Она воспитывала свою девочку в Дижоне, где муж ее был председателем парламента, а она сама управляла «поэтическим садом», где в моде было красноречие в стиле покойной девицы Скюдери. Она сумела основательно испортить вкус бедному послушному ребенку. Держу пари, — она указала костылем на парочку, — держу пари, что она сейчас совершенно непринужденно беседует с мальчиком, потому что у нее простая душа и целомудренная натура. Воздух, который она выдыхает, чище того, который она вдыхает. Но если она отправляется со мной в большое общество и оказывается за столом рядом с каким-нибудь крупным зверем, вроде архиепископа или герцога, тогда ее охватывает смертельный страх, что она покажется пустой и ничтожной, и вот из страха она закутывает себя во всякое фразистое тряпье и от этого кажется в нашей среде, где все говорят ясно и коротко, как раз именно такой, какой боится показаться, — комичной. Прямо беда, и мне придется немало потрудиться, прежде чем я внушу ей правильные понятия. А этот глупец Жюльен еще поддерживает ее! Ох! — вздохнула графиня.
Ей трудно было ходить, опираясь на костыль, и она грузно опустилась на каменную скамейку в беседке, украшенной миртами и лаврами, где стоит ваш бюст, государь.
— Кстати, Фагон, о юноше, — снова начала она, — ты должен немедленно забрать его со школьной скамьи. Это было возмутительно, понимаешь, возмутительно, когда я застала его там среди мальчиков. Педант маршал будет его держать у иезуитов, пока он не заплесневеет, чтобы он только окончил курс! Ты подумай, Фагон: у иезуитов! Я осторожно завела об этом разговор с отцом Амиелем. Сделала комплимент его мимике. Он тщеславный, но добрый человек. Он пожалел Жюльена и заметил, хотя очень осторожно, но все же достаточно ясно, что мальчику плохо у отцов иезуитов. Они, как он сказал, конечно, прекрасные люди, но несколько самолюбивы, и их нельзя дразнить, а маршал перешел им дорогу. Новый начальник, по словам Амиеля, не любит шуток, когда дело касается чести ордена, и мальчику, по его словам, приходится отвечать за грехи отца. Потом он сам испугался своей откровенности, стал озираться вокруг и попросил меня молчать.
Я забрала с собой мальчиков: Гонтрана, нашего Жюльена, у которого была с ним какая-то общая тайна, и еще третьего приятеля — Виктора Аржансона. Этого уже для моего собственного развлечения, потому что у него очень задорный, веселый характер. В тот вечер он особенно неистовствовал. Вместе с Гонтраном они совсем затравили Мирабеллу, которую я еще днем ругала за невероятно длинную фразу. «Прекрасно сказано, мадемуазель Мираболлант, — издевались они, — но все-таки еще недостаточно красиво! Еще немного напыщеннее!» И так без конца. Жюльен защищал девушку по мере сил, но этим вызывал только еще более громкий смех. Вдруг обиженная залилась слезами. Тогда я выгнала мальчишек в большой зал и начала с ними играть в мяч, а через некоторое время, когда я пошла искать Жюльена и Мирабеллу, я нашла их в саду, где они сидели на укромной скамеечке. Они покраснели при моем появлении.
Так смотри же, Фагон, я считаю Жюльена теперь своим приемышем, и если ты его не освободишь от отцов иезуитов и не создашь ему достойных условий жизни, то — клянусь честью! — я отправлюсь на этих костылях в Версаль и, несмотря на свои морщины, доберусь со своим ходатайством до него! — И она указала, государь, на твой бюст, украшенный лавровым венком.
Старуха наговорила мне еще много всякой всячины, а я тем временем принял решение, как только распрощаюсь с ней, серьезно побеседовать с мальчиком. Он вскоре вернулся вместе с девушкой, у обоих были сияющие лица. Коляска графини была подана, Жюльен проводил дам до ворот, а я уселся на своей любимой скамейке перед оранжереей и наслаждался ароматом цветов. Мутон, дымя табаком, прошел мимо меня, не поклонившись и заложив руки в карманы. Он обычно заканчивал свои вечера в каком-нибудь кабачке. Зато пудель Мутон усиленным вилянием хвоста выразил мне свое почтение. Я уверен, что умное животное понимало, что я с радостью готов был спасти его хозяина от гибели, ибо Мутон-человек очень много пил, о чем я забыл сообщить вашему величеству.
Мальчик вернулся, мечтательно настроенный и счастливый.
— Покажи-ка мне свои рисунки, — сказал я. — Ведь, наверное, все лежит в комнате у Мутона.
Он согласился и принес мне целую пачку рисунков. Я стал их рассматривать. Странное зрелище представляло это сочетание двух неодинаковых рук. Дерзкие наброски Мутона, повторенные скромной рукой юноши и слегка облагороженные им! Я долго рассматривал синий лист, на котором Жюльен с невероятной тщательностью воспроизвел при помощи лупы несколько пчел, нарисованных Мутоном в различных позах. Видно было, что мальчик полюбил этих маленьких насекомых. Кто мог предположить, что именно рисунок пчелы погубит его!
На дне пачки лежал еще какой-то лоскут, на котором Мутон изобразил нечто, привлекшее мое внимание.
— Это не мое, — сказал Жюльен. — Это случайно попало.
Я рассматривал рисунок, изображавший причудливую пародию на сцену из Овидия, ту, где Пентей мчится, преследуемый менадами, а Вакх, желая погубить бегущего, воздвигает перед ним отвесную гору. По всей вероятности, Мутон случайно присутствовал при том, когда Жюльен, иногда делавший свои уроки у него в комнате, переводил Овидия, и оттуда заимствовал сюжет для своего рисунка. Юноша, несомненно Жюльен, бежал, повернув голову назад с выражением смертельного ужаса, а за ним гнались призраки. То были фигуры неопределенного возраста, какие-то воплощения страха и мучительных мыслей. У одного из этих чудовищ была длинная иезуитская шляпа на бритой голове, а в руках книга. И тут же эта отвесная скала, дикая, неприступная, которая, казалось, вырастала у вас на глазах подобно мрачному року!
Я взглянул на мальчика. Жюльен смотрел на рисунок без отвращения и, по-видимому, не понимая, какое значение он может иметь. Пожалуй, и Мутон не сознавал, какое ужасное предсказание он бессознательно набросал на бумаге. Я невольно запрятал этот рисунок между другими, прежде чем вложить их все в папку.
— Жюльен, — начал я дружеским тоном, — я обижен, что ты предпочел мне Мутона и сделал его доверенным своих тайн, между тем как со мной ты молчишь, хотя и знаешь, что я хорошо отношусь к тебе. Неужели ты боишься рассказать мне о своем несчастье только потому, что я в состоянии правильно его оценить? Неужели вместо этого ты предпочитаешь расходовать свои силы на безнадежные думы? Ведь это свидетельствует о недостатке мужества.
У Жюльена болезненно исказилось лицо, но еще раз луч испытанного сегодня блаженства озарил его.
— Господин Фагон, — сказал он, слегка улыбаясь, — в сущности, я рассказал о своем горе только Мутону-пуделю.
Такого изящного замечания я никак не ожидал от него. На моем лице выразилось изумление, но мальчик этого не понял, и ему показалось, что он неудачно выразился.
— Спрашивайте, господин Фагон. Я расскажу вам всю правду.
— Тебе плохо живется?
— Да, господин Фагон.
— Тебя считают ограниченным, и это правда, но только не в том смысле, как думают окружающие.
Жестокое слово было произнесено. Мальчик опустил белокурую голову на руки и тихо заплакал. Я заметил это, только когда увидел, что слезы текут у него между пальцами. Но все-таки плотина была прорвана.
— Я расскажу вам о, своем горе, господин Фагон, — всхлипнул он, поднимая лицо.
— Сделай это и будь уверен, что теперь, когда мы стали друзьями, я буду защищать тебя, как самого себя. Никто больше не посмеет тебя обидеть. Ты снова будешь радоваться жизни, и тебе никого не придется бояться.
Мальчик поверил мне. В его глазах загорелась надежда, и он стал рассказывать:
— У меня был один очень плохой день. Впрочем, другие были не намного лучше… Это случилось осенью, когда я отправился с Гонтраном к его дяде, магистру ордена, в Компьень. Мы собирались там поупражняться в стрельбе. Так мы хотели развлечься и в то же время проверить свое зрение.
У нас была легкая коляска. Мы ехали среди облаков пыли, и Гонтран излагал мне свои планы на будущее. Его привлекала только военная карьера, и ничто другое. Магистр принял нас радушно. Наконец мы с Гонтраном отправились на стрельбище. Там он ни разу не попал в цель из-за своей страшной близорукости. Он кусал себе губы, ужасно волновался, но от этого рука его становилась все менее твердой, между тем как я попадал в черный кружок, потому что ясно видел и спокойно целился. Магистра зачем-то позвали, и Гонтран послал лакея за вином. Он опрокинул несколько стаканов, и рука у него стала дрожать. С выпученными глазами и искаженным лицом он бросил пистолет на траву, потом снова поднял его, зарядил свой и мой и отправился со мной в гущу парка. Там на полянке он взял один пистолет себе, а другой предложил мне. «Я хочу покончить с собой! — вскричал он в отчаянии. — Я слеп, а слепые не годятся для военной службы. Но если я не гожусь, то не хочу жить! Ты должен сопровождать меня! Ты тоже не годишься для жизни, хотя и великолепно стреляешь. Но ты самый большой дурак на свете, всеобщее посмешище!» — «А что скажет Бог?» — спросил я. «Хорош этот Бог! — презрительно рассмеялся он, погрозив кулаком небу. — Меня он наделил охотой к военной службе и слепотой, тебя наградил телом и не дал ума!» Мы стали бороться. Я обезоружил его, и он бросился в кусты.
С тех пор я стал несчастным человеком, ибо Гонтран высказал то, что я знал, но скрывал от самого себя. Мне стало постоянно казаться, что сзади меня кто-то произносит слово «дурак». На улице, в школе. Возможно, мои товарищи, на которых вообще у меня нет оснований жаловаться, называли меня так только для краткости, когда думали, что я их не слышу. Даже женщина, продающая булки, которая торгует у нашего колледжа, старается надуть меня, и зачастую чрезвычайно грубо. А все потому, что она слышит, как меня называют дураком. А между тем на стене в колледже висит распятие Спасителя, который пришел к нам проповедовать справедливость по отношению ко всем людям и милосердие к слабым.
Жюльен умолк и, по-видимому, задумался. Потом он продолжил:
— Я не хочу выставлять себя лучше, чем я есть на самом деле, господин Фагон. У меня тоже бывают дурные мысли, но я никогда не позволил бы себе в какой-нибудь игре несправедливо распределить свет и тень. Как же может Бог привязать гири к ногам человеку, бегущими с другими наперегонки, и сказать ему: «Беги с ними вместе!» Часто, господин Фагон, я перед сном страстно умолял Господа, чтобы то, что я с трудом только что выучил, укрепилось за ночь в моей голове. Другим это дается от природы, я же просыпался и ничего не помнил. Может быть, — робко прошептал он, — я не прав по отношению к Господу Богу. Может быть, в доброте своей он охотно помог бы мне, но он не всегда в силах это сделать. Возможно ли это, господин Фагон? Когда мне приходилось очень плохо, меня во сне посещала мать и говорила: «Держись, Жюльен! Тебе еще будет хорошо!»
Эти невероятно наивные мысли и детские противоречия вызвали на моем лице улыбку, должно быть, похожую на гримасу. Мальчик испугался. По-видимому, уверенность покинула его во время рассказа. Как бы чувствуя, что он слишком долго говорил, он резко и не без некоторой горечи заметил:
— Теперь всякий знает, что я глуп, даже сам король. А от него мне очень хотелось это скрыть. Один только мой отец не хочет этому поверить.
— Сын мой, — сказал я и положил руку на его стройное плечо. — Я не буду с тобой философствовать, но если ты согласишься довериться мне, то я помогу тебе преодолеть все житейские трудности. Правда, ты, несмотря на свое знатное имя, не будешь командовать ни армией, ни флотом, но зато и не навредишь королю и отечеству легкомысленно проигранным сражением. Имя твое не будет стоять в анналах нашей истории подобно имени твоего отца, но оно будет внесено в книгу праведников. Ты ведь знаешь слова Евангелия: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».
Теперь слушай! Во-первых, ты отправишься в армию и будешь бороться в наших рядах за короля и за Францию, которая находится в тяжелом положении. Под градом пуль ты узнаешь, суждено ли тебе жить. Я позабочусь о том, чтобы ты скорее попал в армию. Там ты останешься или вернешься с самоуверенностью отважного человека. Мужчина должен обладать уверенностью в себе! Никто не посмеет смеяться над тобой. Затем ты станешь простым слугой своего короля и будешь добросовестным образом исполнять свой долг, так как это тебе свойственно. Ты честен и предан, а подобные люди нужны его величеству. Среди тех, кто его окружает, таких не много. Конюшня, охота, сторожевая служба — что-нибудь для тебя да найдется. Твое происхождение будет отличать тебя от других независимо от твоих заслуг. Пусть это сделает тебя скромным. Его величество, после того как он устает на совещаниях, любит иногда свободно побеседовать с молчаливым и безусловно преданным слугой. Ты слишком прост, чтобы вмешиваться в интриги, но зато тебя они не погубят. Как принято в этом свете, за твоей спиной будут издеваться и насмехаться, но ты не оборачивайся. Будь добр и справедлив со своими слугами и не заканчивай дня, не сделав доброго дела. От остального откажись!
Мальчик смотрел на меня широко открытыми глазами.
— Это слова Евангелия, — сказал он.
— Разве не приходится всем отказываться от чего-нибудь, — пошутил я, — даже твоей благодетельнице госпоже Ментенон, даже королю приходится отказываться от какой-нибудь драгоценности или провинции. Разве мне, Фагону, не пришлось — по-своему, конечно, — тоже примириться со многими, быть может, еще более ужасными лишениями, чем тебе? Я рос сиротой, калекой, в нищете. Как раз в твои годы тело мое с каждым днем становилось уродливее. Но я выбрал себе строгую музу — науку. Неужели ты думаешь, что у меня не было сердца и чувств? Было нежное сердечко, Жюльен! И пришлось раз и навсегда отказаться от самого заманчивого в нашей жизни — от любви, от того, что твоей стройной фигуре и пустой белокурой голове предлагают на каждом шагу!
Я проводил Жюльена до ворот и заговорил о Мирабелле.
— Все само так сложилось, — сказал мальчик. — Ее мучили, она заплакала, и это придало мне смелости. К тому же она похожа на мою мать.
Напевая единственную знакомую мне арию из какой-то забытой оперы, которую я слышал в молодости, я вернулся на свою скамейку перед оранжереей. «Ему надо немедленно отправиться в армию», — сказал я себе. Я почти готов был предложить ему тут же оседлать какую-нибудь из моих лошадей и мчаться прямо к границе. Но такое своеволие могло навредить мальчику. К тому же было известно, что маршал старался только обезопасить границу и привести в порядок крепости во Фландрии, а затем собирался перед решительным сражением вернуться еще в Версаль и получить от тебя, государь, последние указания. Здесь я и собирался поговорить с ним.
Когда я еще раз открыл оставшуюся на скамейке папку с рисунками и стал их перебирать, оказалось, что Пентей лежал наверху, а между тем я готов был поклясться, что убрал его в середину!..
Вскоре после этого случилось, что пудель Мутон, разыскивая в сутолоке улицы Сент-Оноре своего хозяина, попал под телегу. Он покоится в твоем саду, государь, где Мутон-человек зарыл его под деревом, на коре которого перочинным ножом вырезал: «Два Мутона». И действительно, вскоре он уже лежал рядом со своим пуделем. Пьянство расшатало его здоровье, и он был не в себе. Я иногда наблюдал за ним из окна библиотеки и видел, как он сидел в своей комнате перед мольбертом и не только громко беседовал с духом своего пуделя, но и так же зевал, как собака, и ртом, по-собачьи, ловил мух. Совсем как его покойный приятель. Он быстро угасал, и когда однажды я подошел к его постели с ложкой лекарства, он повернулся ко мне, своему благодетелю, спиной, пробормотал неприличное слово, уперся лицом в стену и скончался.
Тем временем маршал вернулся с фронта в Версаль. Так как он не собирался долго здесь оставаться, то я заторопился. Я решил прийти к нему вместе с Жюльеном и сказать ему всю правду. Я поехал к иезуитам. У главных ворот стояла коляска маршала, запряженная четырьмя горячими лошадьми, которых слуги едва могли сдержать. Она ожидала Жюльена, чтобы быстро доставить его в Версаль. Калитка иезуитского здания открылась, и оттуда вышел Жюльен. Но в каком состоянии! Голова у него была опущена, спина согнута, вся фигура как-то сдавлена, походка неуверенная, потухшие глаза, между тем как у Виктора Аржансона, который вел своего приятеля, глаза сверкали, точно факелы. Ошеломленные слуги, одетые в богатые ливреи, поторопились осторожно усадить своего молодого господина в коляску. Я выскочил из своей коляски, полагая, что мальчик заболел какой-нибудь опасной болезнью.
— Боже мой, что с тобой, Жюльен? — воскликнул я.
Никакого ответа. Мальчик смотрел на меня бессмысленным взором, по-видимому, он меня не узнавал. Я понял, что теперь этот и без того молчаливый юноша ничего не скажет, а так как конюший торопил меня: «Влезайте, сударь, или сойдите!» — потому что нетерпеливые кони становились на дыбы, то я отпустил мальчика, решив поехать сейчас же вслед за ним в Версаль. Перед колледжем иезуитов уже собралась толпа. Я желал избежать ее любопытства и, увидев Виктора, который кричал вслед своему быстро уезжавшему товарищу: «Держись, Жюльен! Я отомщу за тебя!» — я втолкнул мальчика в свою коляску и уселся вместе с ним.
— Куда прикажете, сударь? — спросил меня кучер.
Но прежде чем я успел ответить, находчивый мальчик крикнул:
— В монастырь, в предместье Сент-Антуан!
В этом монастыре, как вам известно, государь, ваш идеальный министр полиции устроил себе тихий утолок, где ему не мешают и где он в тишине может заботиться об общественной безопасности Парижа.
— Виктор, — спросил я сквозь шум колес, — что такое? Что случилось?
— Ужасная несправедливость, — вскричал мальчик, — отец Телье, этот волк, наказал Жюльена плетью, между тем он не виноват! Я зачинщик! Я это сделал! Но я добьюсь справедливости для Жюльена, я вызову патера на дуэль!
Эта нелепость, в связи с признанием Виктора, что он виновник несчастья, так меня взволновала, что я, недолго думая, наградил его увесистой пощечиной.
— Очень хорошо! — сказал он. — Кучер, ты ползешь как черепаха! — Он сунул ему наполненный деньгами кошелек. — Скорей! Гони! Господин Фагон, будьте уверены, что мой отец добьется справедливости для Жюльена! О, он знает иезуитов, этих негодяев, этих мошенников, знает их грязные дела! А они его боятся, как дьявола!
Я счел ненужным расспрашивать подробнее возбужденного мальчика, так как он должен был во всем признаться отцу, а между тем кони уже мчались по мостовой предместья. Мы приехали и были немедленно впущены.
Аржансон пересматривал пачку бумаг.
— Простите, что врываемся к вам, Аржансон! — извинился я.
— Нет, нет, Фагон, — ответил он, пожимая мне руку, и подвинул стул. — Но что с мальчиком? Он весь горит!
— Отец… Молчи! Не мешай говорить господину Фагону!
— Аржансон, — начал я, — произошел несчастный случай, может быть, даже большое несчастье. Жюльен Буфлер… — при этом я вопросительно взглянул на министра.
— Я знаю этого бедного мальчика, — сказал он.
— Он был побит иезуитами и отправился в Версаль в таком состоянии, которое, если только я не ошибся, является началом опасной болезни. Виктор знает, как было дело.
— Расскажи! — приказал отец. — Ясно, спокойно, обстоятельно. Каждая мелочь важна. И не ври!
— Врать? — воскликнул возмущенно мальчик. — Стану я врать, когда тут только правда поможет делу! Эти мерзкие иезуиты…
— Только факты, — приказал министр с бесстрастной миной.
Виктор овладел собой и стал рассказывать:
— Это было перед уроком риторики у отца Амиеля. Мы шептались, какую бы штуку проделать на этот раз с носатым. «Нужно что-нибудь новое! — кричали со всех сторон. — Что-нибудь такое, чего еще не было! Какое-нибудь изобретение!» Тут нам пришло в голову…
— «Пришло мне в голову», — прибавил отец.
— Да, мне пришло в голову попросить Жюльена, который так хорошо рисует, нарисовать что-нибудь мелом на доске. Он сидел на своей скамейке, уткнувшись в книгу, и зубрил урок. Я подошел к нему, обнял его и стал упрашивать: «Нарисуй нам что-нибудь! Ну нарисуй носорога!» Но он покачал головой: «Я вижу, вы хотите этим поддразнить бедного патера. Этого я не стану делать. Это жестоко. Я не стану вам рисовать нос!» — «Ну так нарисуй клюв, нарисуй сову. Ты так смешно рисуешь сов». — «И сов не стану рисовать, Виктор». Тогда я немного подумал, и мне пришла в голову одна шутка.
Министр сдвинул свои черные как смоль брови. Виктор храбро продолжал:
— «Нарисуй нам пчелу, Жюльен, — сказал я, — ты ведь это так мило рисуешь!» — «Пожалуйста», — с готовностью ответил он и нарисовал на доске пчелку. «И напиши что-нибудь!» — попросил я. «Если хочешь», — сказал он и написал мелом: «Abeille — пчела». — «Ах, у тебя нет никакого воображения, Жюльен! Это так сухо!» — «Что же мне написать, Виктор?» — «Ну напиши по крайней мере „bête à miel“ — медовый зверек».
Министр сразу понял глупую игру слов: «Bête à miel» и «bête Amiel» — «глупый Амиель».
— Вот тебе за это! — с возмущением воскликнул он и дал изобретателю каламбура пощечину, по сравнению с которой моя была лаской.
— Очень хорошо, — сказал мальчик, хотя у него в ухе показалась кровь.
— Ну, дальше! И покороче, — приказал отец. — А потом убирайся с глаз моих!
— В этот момент вошел отец Амиель, походил взад-вперед, взглянул на доску, понял, что на ней написано, но сделал вид, что не понимает. Тогда с парт ему стали кричать: «Bête Amiel!» — «Глупый Амиель!» Сначала в одиночку, потом несколько человек сразу и наконец весь класс: «Bête Amiel!» Вдруг — о ужас! — дверь отворилась, и ворвался отец Телье. Он шпионил в коридоре. «Кто это нарисовал?» — спросил он. «Я», — твердо ответил Жюльен. Он сидел, закрыв уши, продолжая заучивать урок и не понимал ничего, что происходит вокруг. Он ведь вообще туго соображает. «Кто это написал?» — «Я», — сказал Жюльен. Телье бросился к нему, вытащил его, схватил ремень и…
Мальчик не мог продолжать.
— И ты молчал, жалкий трус? — загремел министр. — Я презираю тебя! Ты негодяй!
— Я вопил, точно меня зарезали, — возбужденно воскликнул мальчик. — Кричал, что это я сделал! Отец Амиель тоже уцепился за волка, уверяя его, что Жюльен не виноват. Телье это, несомненно, слышал! Но он меня не тронул, потому что я твой сын, а иезуиты боятся тебя и уважают. Маршала же они ненавидят и не боятся. Поэтому Жюльену и пришлось отвечать. Но я воткну Телье нож в ребра, если он…
Строгий отец схватил сына за шиворот, потащил к двери, открыл ее и, выбросив его вон, запер дверь на задвижку, В следующий же миг снаружи послышались стуки кулаком, и мальчик кричал:
— Я тоже отправлюсь к отцу Телье! Я выступлю в качестве свидетеля и скажу ему, что он негодяй!
— В сущности говоря, Фагон, — хладнокровно обратился ко мне министр, не отвечая на стук, — мальчик прав. Нам обоим следует немедленно отправиться к патеру, рассказать ему правду и заставить его пойти вместе с нами к Жюльену сегодня же, немедленно и в нашем присутствии попросить у него прощения. — Он взглянул на стенные часы. — Сейчас половина двенадцатого. Отец Телье твердо держится своих привычек и обедает ровно в полдень. Мы застанем его.
Мы сели в коляску и поехали.
— Я знаю этого мальчика, — повторил министр, — но только одно мне непонятно в истории с ним — это то, что первоначально отцы-иезуиты баловали его. Его товарищи, в том числе мой негодник, часто говорили об этом. Я понимаю, что отцы, как это им свойственно, ненавидят ребенка с тех пор, как маршал имел несчастье разоблачить их. Но почему в то время, когда маршал был им безразличен, они считали для себя выгодным оказывать мальчику покровительство в размерах, выходящих за пределы того, что полагается слабым ученикам, — вот этого я не понимаю.
— Гм… — пробормотал я.
— А как раз это мне нужно знать, Фагон.
— Ну хорошо, Аржансон, — начал я свою исповедь. Она предназначается и тебе, государь, потому что тебя я больше всего здесь оскорбил. Так как я хотел во что бы то ни стало уютно устроить Жюльена у отцов-иезуитов и не знал, какой бы внушительной рекомендацией снабдить его, то однажды в случайном разговоре я рассказал двум отцам, которых встретил в дамском обществе, что ты, государь, был расположен к матери Жюльена. Это чистейшая правда, и больше я не сказал ни слова, Аржансон, клянусь честью! — Аржансон криво усмехнулся. Ты, государь, хмуришься, но разве я виноват, если отцы-иезуиты в своем воображении превращают самое чистое в двусмысленное? — Когда потом, — продолжал я, — они возненавидели маршала, то произвели свое расследование и не узнали ничего, кроме того, что мать Жюльена была одним из чистейших созданий на земле, пока не превратилась в ангела, который с улыбкой глядит теперь на нас с небес. К сожалению, отцы убедились в своей ошибке именно тогда, когда эта ошибка больше всего нужна была мальчику. Аржансон кивнул.
— Фагон, — сказал король почти строгим тоном. — Это была третья и самая большая вольность с твоей стороны. Если ты так легкомысленно играл моим именем и репутацией женщины, которую ты обожал, то тебе следовало по крайней мере скрыть от меня это святотатство, даже если бы твоя история стала вследствие этого не вполне понятной. Скажи мне, Фагон, разве ты в данном случае не следовал порицаемому правилу, что цель оправдывает средства? Что же, и ты записался в орден?
— Все мы этим грешим, ваше величество, — улыбнулся Фагон и продолжал: — По пути мы встретили отца Амиеля, который бродил совершенно несчастным и, увидев мою коляску, стал делать такие отчаянные жесты, что я велел остановиться. Его моментально окружила толпа хохотавших уличных ребятишек. Я велел ему сесть в коляску.
— Слава богу, что я встретил вас, господин Фагон. С Жюльеном, которому вы покровительствуете, случилось несчастье, но он невиновен! — прогнусавил носатый патер. — О, если бы вы, господин Фагон, видели, как взглянул мальчик на своего палача. Сколько в этом взгляде было ужаса и смертельного испуга! — Отец Амиель перевел дух. — Меня всегда будет преследовать этот взгляд. Даже если я запрусь в темной башне, он проникнет сквозь стены…
— Не нужно запираться в башне, профессор, — прервал его министр. — Теперь надо сказать отцу Телье правду в глаза! Мы едем к нему, и вы поезжайте с нами. Хватит у вас смелости?
— Конечно, конечно, — уверял отец Амиель, но сильно побледнел при этом и задрожал всем телом: отца Телье боятся даже в его ордене как человека грубого и склонного к насилию.
Когда мы остановились у дома настоятеля, Виктор соскочил с запяток, где он стоя ехал рядом с лакеем.
— Я пойду с вами, — заявил он.
Аржансон нахмурился, но позволил и, в сущности, был доволен, что у него есть еще один свидетель. Отец Телье не отказался принять нас. Аржансон приказал патеру и мальчику остаться в передней. Они повиновались, первый с чувством облегчения, второй нехотя. Телье жил в маленькой, можно сказать даже бедной, комнате, подобно тому как днем и ночью носил одну и ту же истрепанную сутану. Он принял нас, заискивающе кланяясь и лживо улыбаясь.
— Чем могу служить, господа?
— Ваше преподобие, — начал Аржансон, отказавшись от сломанного стула. — Речь идет о жизни и смерти человека. Надо поторопиться спасти его. Сегодня в колледже был подвергнут телесному наказанию молодой Буфлер. По ошибке. Озорник заставил глуповатого мальчика нарисовать и написать на классной доске нечто такое, вследствие чего вышла глупая шутка над отцом Амиелем. Жюльен Буфлер не имел ни малейшего представления о том, что его заставили сделать. Нетрудно будет доказать, что он был единственным в своем классе, осуждавшим такие затеи и по возможности предупреждавшим их. Если бы он сам выдумал эту штуку, то, конечно, заслужил бы наказание, но в действительности получилась страшная несправедливость, которую нужно искупить как можно скорее. К этому еще присоединяется другое, весьма тягостное обстоятельство. Ошибочно подвергшийся наказанию является ребенком по уму, но обладает душой взрослого мужчины. Хотели наказать мальчика и оскорбили дворянина.
— Что вы, что вы! — сделал изумленную физиономию патер. — Что вы говорите, ваше превосходительство! Как можно так сильно запутать в сущности простое дело! Я проходил по коридору и услышал шум в классе риторики. Отец Амиель, как ученый, является украшением ордена, но он не умеет внушить к себе почтения. Наши отцы не любят прибегать к телесным наказаниям, но так не могло продолжаться дальше. Нужно было преподать урок. Я вошел, увидел дерзость, написанную на доске. Расследовал дело. Буфлер сознался. Остальное понятно. Вы говорите, он мало одарен? Ограничен? Наоборот, он хитер! В тихом омуте черти водятся. Чего ему действительно не хватает, так это искренности. Он притворщик! Больно ему было? Ах, нежное создание! Дворянин? Очень жаль. Для нас, иезуитов, все одинаковы. К тому же сам маршал просил не баловать его сына. Я был старше него, когда меня в семинарии наказывали в последний раз, и больнее, чем всегда. Сорок розог без одной, как апостолу Павлу, который ведь тоже был дворянином. Разве я тогда погиб от этого? Я потер, с позволения сказать, то место и чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было. А я был невиновен. Между тем в невинности этого преступного юноши меня никто не убедит!
— Может быть, нам все-таки удастся, ваше преподобие! — сказал Аржансон и позвал обоих ожидавших нас спутников.
— Виктор, — заблеял иезуит, обращаясь к подошедшему мальчику. — Не ты ведь это сделал! За тебя я ручаюсь. Ты примерный ученик. Глупо было бы признаваться, когда тебя никто не обвиняет!
Виктор, подошедший с упрямым видом, смело взглянул Телье в лицо, но опешил. Сердце у него застучало при виде искаженных черт этого человека и его сверкающих волчьих глаз. Он сказал коротко:
— Я подговорил Жюльена, который ничего не понимал. Я кричал вам это над самым ухом, но вы не хотели слышать, потому что вы злодей!
— Довольно! — сказал Аржансон и указал ему на дверь.
Мальчик ушел не без удовольствия, потому что начал уже бояться отца Телье.
— Отец Амиель, — обратился теперь министр к священнику. — Скажите честно, мог ли Жюльен придумать такую игру слов?
Патер молчал в нерешительности и трусливо поглядывал на ректора.
— Смелее, патер, — шепнул я ему. — Ведь вы честный человек.
— Никак не мог, ваше превосходительство! — торжественно заявил отец Амиель. — Жюльен невинен, как Спаситель!
Лицо ректора перекосилось от злобы. Он привык встречать слепое повиновение и не выносил, когда ему противоречат.
— Вы позволяете себе критиковать, брат? — вскипел он. — Так критикуйте сначала свою глупую мимику, которая делает вас посмешищем даже среди дураков! Я справедливо поступил с ним!
Такой отзыв о его мимических талантах вывел патера из себя и заставил на минуту забыть всякий страх.
— Справедливо?! — вскипел он. — Боже милосердный! Сколько раз я просил вас считаться с плохими способностями мальчика и не губить его! А вы мне отвечали: «Так пускай себе пропадает!» Разве вы это не говорили?
— Бесстыдно лжешь! — завопил Телье.
— Ты лжешь еще бесстыднее, почтенный патер! — старался перекричать его носатый, дрожа всем телом.
— Вон! — крикнул Телье, указывая пальцем на дверь, и маленький патер поспешил убраться.
Когда мы остались снова втроем, министр сказал:
— Ваше преподобие, вас упрекнули в том, что вы ненавидите мальчика. Это тяжкое обвинение! Вы можете его опровергнуть тем, что отправитесь с нами и попросите прощения у Жюльена. Никто при этом не будет присутствовать, кроме нас обоих. — Он указал на меня. — Этого достаточно. Этот господин — лейб-медик короля и весьма озабочен здоровьем мальчика. Вы побледнели? Так подумайте же. Следует исправить несправедливость!
Исправить несправедливость! Иезуит заскрежетал зубами от злости.
— Какое мне дело до мальчика? Не его я ненавижу, а его отца, который оклеветал нас! Да, оклеветал! Подло оклеветал!
— Не маршал, — сказал я смущенно. — Оклеветала отцов моя лаборатория.
— Подлог! — неистовствовал ректор. — Эти расписки никогда не были написаны. Обманщик подсунул их! — И он бросил на меня убийственный взгляд.
Признаться, я был смущен такой способностью превращать истину в ложь и ложь в истину. Отец Телье потер лоб, потом лицо его внезапно приняло другое выражение. Он поклонился министру не то льстиво, не то насмешливо и сказал:
— Ваше превосходительство, я к вашим услугам. Но вы понимаете, я не могу так унизить орден, чтобы просить прощения у мальчика.
Аржансон не менее ловко переменил тон. Он стал подле Телье с незаметной презрительной улыбкой в уголках рта. Патер наклонил к нему свое ухо.
— Вы уверены, — прошептал министр, — что вы наказали сына маршала, а не благороднейшего отпрыска Франции?
Патер вздрогнул.
— Ничего подобного, — прошептал он в ответ. — Вы меня обманываете, Аржансон.
— У меня нет уверенности, в таких случаях ее не бывает, но уже одна возможность этого сделала бы… невозможным ваше назначение… вы понимаете, о чем я?
Мне казалось, государь, что я видел, как высокомерие и честолюбие боролись на мрачном лице вашего духовника. Но я не мог угадать, что победит.
— Я думаю пойти с вами, господа! — сказал отец Телье.
— Пойдемте, патер! — И министр протянул ему руку.
— Сначала мне нужно надеть другую сутану. Вы видите, эта в заплатках, а в Версале я могу неожиданно встретиться с его величеством.
Он открыл дверь в соседнюю комнату. Аржансон взглянул ему через плечо и увидел низенькую каморку со скамьей и шкафом.
— Вы разрешите, господа, — пробормотал иезуит. — Я никогда еще не переодевался перед мирянами.
— А вы сдержите свое слово? — спросил Аржансон.
Отец Телье поклялся, что сдержит, и исчез, закрыв за собой дверь, так что осталась только маленькая щель, которую Аржансон не дал закрыть, просунув туда носок сапога. Мы слышали, как отворяется и закрывается шкаф. Прошло две минуты. Аржансон открыл дверь. Отца Телье уже не было. Он воспользовался случаем, чтобы убежать от нас. Вероятно, не поверил Аржансону? Или поверил, но один демон восторжествовал над другим демоном, то есть гордость над честолюбием? Кто разберется в потемках этой мрачной души?
— Клятвопреступник! — выругался министр, открыл шкаф, увидел за ним лестницу и бросился по ней вниз.
Я споткнулся и покатился вниз за ним вместе со своим костылем. Внизу мы увидели послушника с аристократической внешностью, который с изумлением выслушал наш вопрос о патере и скромно ответил, что, насколько ему известно, тот четверть часа тому назад уехал по делам в Руан.
Аржансон отказался от всякого преследования.
— Легче вытащить дьявола из берлоги, чем доставить это чудовище в Версаль!.. К тому же где мы найдем его, когда у иезуитов имеется сотня укромных мест и убежищ? Смените лошадей, Фагон, и поспешите в Версаль. Расскажите все его величеству. Он подаст руку Жюльену и скажет ему: «Король тебя уважает. С тобой поступили несправедливо!» И наказание как рукой снимет. Я согласился с ним. Это было единственное, что могло помочь, но было уже поздно.
Фагон смотрел на короля из-под своих седых косматых бровей и пытался определить, какое впечатление произвел на него только что нарисованный образ его духовника. Он не тешил себя надеждой, что Людовик откажется от его назначения, но все-таки хотел предостеречь короля от этого человека, который должен был бросить тень на блестящее царствование Людовика. Но в чертах монарха Фагон не прочел ничего, кроме сострадания к сыну женщины, которая как-то мельком понравилась повелителю, и кроме удовольствия от рассказа, все перипетии которого, как дороги в заколдованном саду, вели к одному центру — к королю.
— Продолжай, Фагон, — попросил Людовик.
Тот послушался, слегка раздраженный:
— Так как лошади не могли быть поданы раньше чем через четверть часа, то я зашел к цирюльнику, жившему напротив дома иезуитов, моему пациенту, и заказал себе теплую ванну, потому что я почувствовал себя плохо. Пока вода освежала меня, я жестоко упрекал себя, что недосмотрел за вверенным мне мальчиком и слишком затянул с его освобождением. Вскоре мне помешал слишком громкий разговор, доносившийся через тонкую стенку. Две девушки из низшего городского сословия купались в соседней комнате. «Я так несчастна», — пожаловалась одна и рассказала какую-то глупую любовную историю. Через минуту обе уже хихикали. Пока я упрекал себя за небрежность и страдал от тяжелого груза на своей совести, рядом со мной шалили и брызгались две легкомысленные нимфы… В Версале…
Людовик обратился к Дюбуа, камердинеру маркизы, который тихо вошел и прошептал:
— Стол накрыт, ваше величество.
— Ты мешаешь, Дюбуа, — сказал ему король.
И старый слуга попятился назад с легким выражением изумления на вышколенном лице.
— В Версале, — повторил Фагон, — я нашел маршала за столом с некоторыми его товарищами. Там был Виллар — говорят, герой, чего я не отрицаю, но бесстыдный хвастун. Там был Виллеруа, мастер проигрывать сражения, ничтожнейший из смертных, живущий крохами, падающими со стола твоей милости. Там был Грамон, с его лицом и осанкой аристократа. Вчера, государь, он надул меня в твоем зале за твоим игорным столом при помощи крапленых карт. Там был Лозен, под внешней кротостью которого скрываются злоба и раздражение. Прости мне, что такими я видел твоих придворных, — мой страх, моя душевная боль выставляли все в резком свете. Графиня Мимер тоже была приглашена туда вместе с Мирабеллой, которая сидела рядом с Виллеруа; семидесятилетний франт пугал и смущал бедную девочку своими ужимками.
Жюльен был позван отцом к столу. Он был бледен как смерть. Я видел, как его трясла лихорадка, и со священным ужасом взирал на эту жертву. Разговор шел… Может быть, существуют демоны, которые ускоряют события: стремительно поднимают того, кто идет вверх, и жестоко спихивают в пропасть поскользнувшегося?.. — Разговор шел о наказаниях в армии. Мнения разделились. Спорили, следует ли вообще подвергать телесному наказанию, а если следует, то какому именно — палкой, ремнем или саблей плашмя. Маршал с обычным человеколюбием высказался против всякого телесного наказания, кроме как за бесчестные поступки. А Грамон, шулер Грамон, согласился с ним, ибо честь, по словам Буало, это остров с неприступными берегами, к которым нельзя пристать, если их однажды покинешь. Виллар вел себя, с позволения сказать, почти как шут и рассказывал, что один из его гренадеров застрелился, должно быть, потому, что его несправедливо наказали. Тогда он, маршал Виллар, опубликовал в приказе: «У Лафлера была честь, хоть и на свой манер». Мальчик следил за разговором с безумными глазами. Слова «розги», «честь», «удары» сыпались со всех сторон. Я шепнул маршалу на ухо:
— Жюльен болен, ему надо лечь в постель.
— Жюльен возьмет себя в руки, — ответил он. — К тому же обед скоро кончится.
В это время галантный Виллеруа обратился к своей робкой соседке:
— Сударыня, — сказал он важно в нос, — скажите ваше мнение, и мы будем внимать ему.
Мирабелла, и без того сидевшая как на угольях, разумеется, последовала своей привычке и ответила высокопарно:
— Ни один подданный самого гордого из королей не стерпит насилия. Кто так заклеймен, тот покончит с собой!
Виллеруа зааплодировал. Я поднялся, взял Жюльена и увел его. Наш уход остался почти незамеченным. Маршал, вероятно, извинился за нас перед гостями.
Пока я раздевал мальчика — самостоятельно он уже не мог снять одежду, — он сказал мне:
— Господин Фагон, у меня странное состояние. В голове все путается. Я вижу перед собой какие-то образы… Должно быть, я болен. Если я умру… — При этом он улыбнулся — Вы знаете, господин Фагон, что случилось сегодня у иезуитов? Так никогда не рассказывайте об этом отцу, никогда, никогда. Это убьет его!
Я пообещал ему и сдержал свое слово, хотя это далось мне непросто. Маршал до сих пор ничего об этом не знает.
Уже лежа в постели, Жюльен протянул мне горячую руку.
— Благодарю вас, господин Фагон… за все… Я не такой неблагодарный, как Мутон.
Было уже лишним беспокоить ваше величество. Через четверть часа Жюльен начал бредить. Жар был очень силен, сердце билось учащенно. Я велел поставить в той же комнате походную постель и оставался на своем посту. Маршал распорядился, чтобы в соседнюю комнату перенесли его бумаги и карты. Каждый час он отходил от рабочего стола, чтобы взглянуть на мальчика, который его не узнавал. Я злобно смотрел на него.
— Что ты имеешь против меня, Фагон? — спросил он.
Мне не хотелось ему отвечать. Мальчик сильно бредил, но перед его пылающим взором вставали только приятные ему образы уже ушедших из жизни людей. Появился Мутон, прыгнул на постель Мутон-пудель, а на третий день Жюльен видел около себя свою мать.
Три посетителя навестили его. Виктор потихоньку постучался в двери и, когда я его впустил, так отчаянно разрыдался, что я вынужден был его увести. Потом постучала Мирабелла. Она подошла к постели Жюльена, который лежал в полудремоте, и взглянула на него. Она не плакала, а только горячо поцеловала его в высохшие уста. Жюльен не заметил ни друга, ни возлюбленной. Неожиданно появился также отец Амиель, которого я тоже принял. Так как больной недоумевающими глазами смотрел на него, то он стал забавно прыгать перед кроватью, восклицая:
— Ты не узнаешь меня, Жюльен? Не узнаешь, мальчик, своего отца Амиеля, маленького Амиеля, носатого Амиеля? Скажи мне хоть одно слово, скажи, что ты меня любишь.
Мальчик остался равнодушным. Если существуют Елисейские поля, то я надеюсь встретить там отца Амиеля без длинной шляпы, с правильным носом. Там он будет прохаживаться под руку с Жюльеном по небесным садам.
На четвертый день вечером сердце у мальчика билось так бешено, что каждую минуту можно было ожидать кровоизлияния в мозг. Я прошел к маршалу.
— Как дела?
— Плохо.
— Выживет ли Жюльен?
— Нет. Мальчик слишком сильно переутомился.
— Это удивляет меня, — вздохнул маршал, — я этого не знал.
И я действительно думаю, что он не знал. Но терпение мое иссякло. Я сказал ему всю правду без всякой пощады, упрекнул его в невнимании к мальчику и в том, что он способствовал его смерти. О происшествии у иезуитов я умолчал. Маршал слушал меня молча, слегка склонив голову. Ресницы его дрожали, и я увидел слезы на его глазах. Наконец он признался, что был неправ. Но оправился и вошел в комнату больного. Отец сел около сына, которого теперь мучили ужасные видения.
— Я, по крайней мере, облегчу ему смерть, поскольку это от меня зависит, — пробормотал маршал. — Жюльен, — сказал он своим решительным тоном.
Мальчик узнал его.
— Жюльен, тебе придется прервать школьные занятия. Мы с тобой вместе отправимся в армию. Король понес большие потери на границе, и теперь даже самые молодые должны исполнить свой долг!
Эти слова вызвали у умирающего желание поскорее отправиться в путь… Он грезил о покупке лошадей, отъезде, прибытии в лагерь, появлении на фронте… Глаза у него сверкали, но в груди уже слышалось хрипение.
— Агония! — шепнул я маршалу.
— Видишь, вон английское знамя, возьми же его, — приказал отец.
Умирающий мальчик схватил рукой воздух, крикнул: «Слава королю!» — и упал на постель, словно сраженный пулей.
Фагон окончил свой рассказ и встал. Маркиза казалась растроганной.
— Бедный ребенок! — вздохнул король, тоже поднявшись с места.
— Почему бедный? — улыбнулся Фагон. — Ведь он умер как настоящий герой.