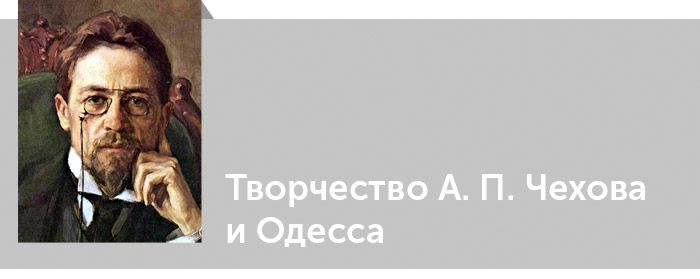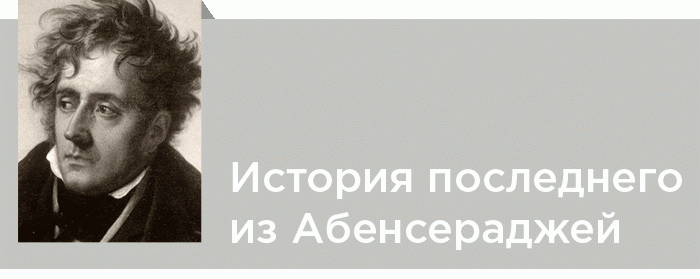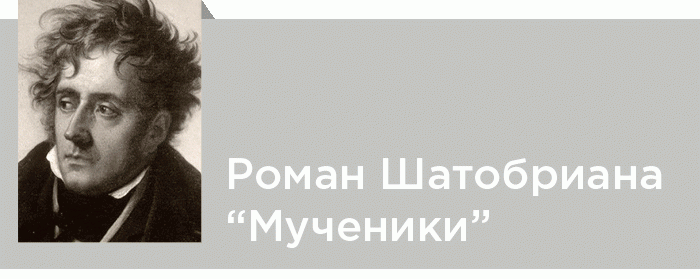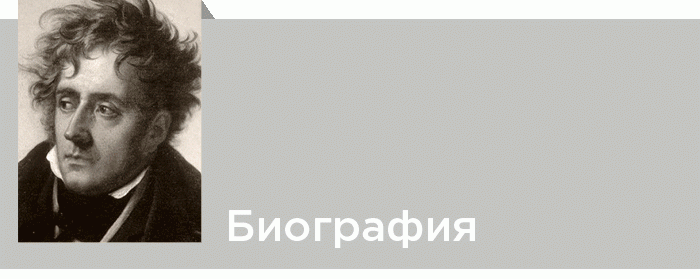Франсуа Рене де Шатобриан. Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне

(Отрывок)
Пролог
Некогда Франция владела в Северной Америке огромными землями: они простирались от Лабрадора до Флориды, от побережья Атлантического океана до озер, затерянных в полярных широтах Канады.
Необозримые эти просторы рассечены четырьмя многоводными реками, которые берут начало в горах: река Святого Лаврентия, впадающая в одноименный залив; Западная, несущая свои волны к неведомым морям; река Бурбон, стремящаяся с юга на север, в Гудзонов залив; Месшасебе, проложившая себе путь с севера на юг, к Мексиканскому заливу.
Последняя из помянутых рек, длиною более тысячи лье, омывает край поистине восхитительный; жители Соединенных штатов называют его Новым Эдемом, но за ним сохранилось присвоенное ему французами сладостное имя Луизиана. Множество рек, притоков Месшасебе — Миссури, Иллинойс, Арканзас, Огайо, Уобаш, Тенесси, — удобряют его своим илом, оплодотворяют своими водами. В пору зимних дождей эти реки выходят из берегов, меж тем как буйные ветры безжалостно валят прибрежные леса. Вырванные с корнем деревья погружаются в воду, где их быстро скрепит друг с другом тина, оплетут лианы, а укоренившиеся в них растения довершат дело, сплотив в единое целое. Под напором пенистых валов поплывут они в Месшасебе, и река завладеет ими, помчит к Мексиканскому заливу, будет выбрасывать на песчаные отмели, умножая и умножая свои рукава. Порою, в горных ущельях, река начинает оглушительно грохотать, потом вздыбленные валы опадают, окружая колоннады лесов и пирамиды индейских гробниц; Месшасебе — это Нил девственных земель Америки. Но величавые картины природы там неизменно соседствуют с картинами, исполненными тихой прелести: меж тем как стремнина увлекает в море трупы дубов и сосен, течение несет вдоль берегов плавучие островки пистий и кувшинок, чьи желтые чашечки подобны маленьким беседкам. Зеленые змеи, голубые цапли, розовые фламинго, недавно вылупившиеся крокодилы пускаются в путь, словно пассажиры, на этих цветочных судах, которые, распустив по ветру золотистые паруса, доберутся вместе со всем своим дремлющим населением до какой-нибудь укромной бухты.
Берега Месшасебе представляют собой зрелище поистине поразительное. На западном берегу, куда ни поглядишь, простирается саванна; волны зелени, удаляясь, как бы неспешно восходят к лазурному небосводу и в нем растворяются. По этим степным просторам, которым нет ни конца ни края, бродят на воле многотысячные стада диких буйволов. Случается, отяжелевший от старости бизон подплывет, рассекая волны, к какому-нибудь острову на Месшасебе и ляжет в густую траву. Его лоб увенчан загнутыми рогами, стариковская борода облеплена тиной, он подобен речному богу, довольно озирающему величие своих водных владений и плодородных берегов.
Такую картину являет нам природа на западном берегу, но противоположный берег ничуть не похож на него, и каждый восхитительно оттеняет своеобразие другого. То склонившись над бегучей волной, то собравшись в купы на скалах и горах, то поодиночке разбредясь в долинах, деревья самых разных форм и оттенков, источающие самые несхожие ароматы, соседствуют, теснятся, вздымаются так высоко, что их верхи пропадают из глаз. Дикий виноград, бигнонии, колоцинты сплетаются у их подножия, ползут по стволам, свешиваются с ветвей, перекидываются с клена на тюльпановое дерево, с него на штокрозу, образуя бессчетные гроты, своды, портики. Нередко лианы, блуждая от дерева к дереву, перебираются через речные протоки и повисают над ними, словно цветочные мосты. Из глубины этих зарослей возносятся недвижные конусы магнолий; усыпанные белыми чашечками цветов, они господствуют над лесом, и нет у них соперников, кроме пальм, что легко колеблют рядом с ними зеленые веера листьев.
Бесчисленные твари, волею Создателя населяющие эти укромные пристанища, наполняют их очарованием и жизнью. Там, в просветах между деревьев, можно порою увидеть медведя, который, опьянев от виноградного сока, пошатывается на суку вяза; в озерах купаются карибу; черные белки резвятся в гуще листвы; пересмешники и маленькие, величиной с воробья, виргинские голуби пасутся на прогалинах, рдеющих земляникой; изумрудные попугаи с желтыми головками, зеленые, отливающие пурпуром дятлы, прыгая по стволам кипарисов, добираются до самых вершин; колибри искрятся на кустах флоридского жасмина; змеи-птицеловы свистят, прицепившись к веткам, и раскачиваются, как лианы.
Если в саванне, на другом берегу, все застыло в оцепенелом покое, здесь, напротив, царство движения и звуков: клювы стучат по коре дубов; животные, шурша, снуют взад и вперед, щиплют траву, размалывают зубами плодовые косточки; плеск воды, тихие вскрики, глухое мычание, воркующие призывы полнят эти уединенные, девственные края нежной и дикой гармонией. Но когда в них вторгается ветер, когда он начинает раскачивать эти колеблющиеся тела и смешивать белые, лазоревые, зеленые, розовые пятна, и сливать воедино все цвета, все шорохи и шелесты — тогда из глуби лесов доносятся такие гулы, глазам открываются такие картины, что напрасно я стал бы описывать их людям, которые никогда не бывали в первобытных обиталищах природы.
После того как преподобный отец Маркет и несчастный Ласаль открыли Месшасебе, первые французские поселенцы, основав колонии Билокси и Новый Орлеан, заключили союз с натчезами, могущественным индейским племенем, державшим в повиновении весь край. Распри и корыстные вожделения залили впоследствии кровью эти гостеприимные земли. Среди сынов девственного края особым почетом и любовью пользовался старый индеец Шактас, славный среди них преклонными годами, мудростью и опытом в житейских делах. Подобно всем людям, он обрел добродетель ценою несчастья. Беды были уделом Шактаса не только в лесах Нового Света, но настигли его и на берегах Франции. В Марселе жестокая несправедливость обрекла Шактаса на галеры, потом он был освобожден, представлен Людовику XIV, беседовал со многими знаменитостями того века, присутствовал на празднествах в Версале, смотрел трагедии Расина, слушал надгробные речи Боссюэ — короче говоря, дикарь лицезрел цивилизованное общество в пору самого пышного его расцвета.
Несколько лет назад Шактас вернулся в отчизну и теперь наслаждался покоем. Но и за этот свой дар небеса взяли с него немалый выкуп: старец ослеп. Юная девушка неотступно сопровождала его на берегах Месшасебе, как Антигона — Эдипа на Кифероне, как Мальвина — Оссиана на скалах Морвена.
Много несправедливостей претерпел Шактас от французов, и все-таки он их любил. Он не уставал вспоминать Фенелона, в чьем доме ему случилось гостить, и жаждал хоть чем-нибудь услужить соотечественникам этого добродетельного человека. Вскоре ему представился благоприятный случай. В 1725 году в Луизиане появился, гонимый страстями и несчастьями, некий француз по имени Рене. Он поднялся по Месшасебе до края, где обитали натчезы, и попросил принять его воином племени. Шактас долго расспрашивал Рене и, убедившись, что решение юноши неколебимо, усыновил его и женил на индианке Селуте. Вскоре после того, как был заключен их брак, племя стало готовиться к охоте на бобров.
Шактас пользовался таким уважением, что совет сахемов поставил его, слепого старца, во главе отряда охотников. И вот молитвы перемежаются постами, жрецы толкуют сны, испрашивают дозволения у маниту, возлагают на алтари листья табака, жарят ломтики лосиных языков и следят, станут ли они потрескивать на огне, выражая этим волю богов, потом все вкушают мясо священной собаки и наконец трогаются в путь. Искусно пользуясь противными течениями, индейцы в пирогах поднимаются по Месшасебе и входят в устье Огайо. Уже наступила осень. Перед восхищенными взорами юного француза распахиваются величавые кентуккийские просторы. Однажды лунной ночью, когда натчезы уснули в пирогах и эти индейские суденышки, под парусами из звериных шкур скользили по волнам, подгоняемые легким ветром, Рене, оставшись наедине с Шактасом, попросил старца рассказать историю его жизни. Тот соглашается и, расположившись вместе с французом на корме пироги, начинает повествование.
Рассказ
Охотники
Как, сын мой, не подивиться судьбе, скрестившей ныне наши пути? Вот я гляжу на тебя и вижу цивилизованного человека, пожелавшего стать дикарем; вот ты глядишь на меня я видишь дикаря, который волею Верховного Существа во имя каких-то неведомых целей приобщился к цивилизации. Начала наших жизненных дорог лежали в разных концах земли, но ты пришел искать покоя в моем родном краю, а я некогда вкусил отдых на твоей родине: значит, мы с тобой на все должны были бы глядеть по-разному. Кто из нас больше выиграл, кто больше потерял от перемены природного своего состояния? Это ведомо только духам, ибо самый несведущий из них наделен большей мудростью, чем все люди, вместе взятые.
Когда настанет луна цветов, исполнится семижды десять снегов и еще три снега в придачу с тех пор, как на берегах Месшасебе мать произвела меня на свет. Незадолго до того испанцы утвердились в Пенсакольской бухте, но в Луизиане белых еще не было. Я видел всего лишь семнадцать листопадов, когда мой отец, воин Уталисси, взял меня с собой в поход против мускогульгов, могучего племени из Флориды. Вместе с испанцами, нашими союзниками, мы дали им бой на берегу одного из рукавов реки Мобиль. Но Арескуи и маниту были нам неблагоприятны. Враги взяли верх, отец мой пал сраженный, а я, защищая его, дважды был ранен. О, почему я тогда не сошел в обитель душ! Я избегнул бы горестей, ожидавших меня на земле. Но духи уготовили мне другое: бежавшие с поля сражения захватили меня с собой и доставили в Сент-Огюстен.
Там, в этом городе, только что выстроенном испанцами, меня чуть было не отправили в мексиканские рудники, но старый кастилец по имени Лопес, тронутый моей юностью и простодушием, дал мне приют в своем доме, где он жил холостяком вдвоем со своей сестрой.
Оба они прониклись ко мне самой теплой приязнью, усердно меня воспитывали, наняли учителей. Но прошло тридцать лун, и я сочувствовал неодолимое отвращение к городской жизни. Я на глазах угасал, часами недвижно сидел, глядя на верхи далеких лесов, или уходил на берег и горестно следил за течением реки. В воображении моем вставали деревья, склоненные над ее волнами, и душа томилась по девственному безлюдью.
Однажды утром, чувствуя, что не в силах одолеть этой жажды вернуться в мой пустынный край, я пришел к Лопесу в уборе дикаря, держа в одной руке лук со стрелами, а в другой — европейскую одежду. Упав на колени перед моим великодушным покровителем и обливаясь слезами, я положил эту одежду к его ногам. Коря себя за неблагодарность, понося последними словами, я воскликнул: «Но что тут поделать, отец мой, ты видишь сам, я умру, если не вернусь к прежней моей жизни среди индейцев».
Лопес, пораженный таким решением, на все лады стал меня отговаривать. Он твердил, что мой замысел опасен, что я могу снова попасть в руки к мускогульгам. Потом, увидев, что я готов к любым превратностям, он крепко обнял меня и сказал сквозь слезы: «Иди, дитя природы, и вновь обрети мужественную независимость, Лопес не станет тебе препятствовать. Когда бы не преклонные годы, я вместе с тобой ушел бы в тот девственный край, с которым и у меня связаны сладостные воспоминания, я сам возвратил бы тебя объятиям матери. В родных своих лесах вспоминай порою о старом испанце, который оказал тебе гостеприимство, и, дабы навеки сохранить любовь к людям, не забывай, что первый твой опыт был, в пользу человеческого сердца». Затем Лопес вознес молитву христианскому Богу (сам я креститься отказался), и, горько плача, мы распростились.
Кара за неблагодарность не заставила себя ждать. По неопытности заблудившись в лесу, я, как и предсказывал Лопес, попал в плен к отрядам мускогульгов и семинолов. Увидев мою одежду и пернатый головной убор, они сразу признали во мне натчеза. Меня связали, но некрепко, снисходя к моей юности. Симаган, вождь отряда, спросил, как меня зовут, и я ответил: «Мое имя Шактас, я сын Уталисси, сына Миску, которые сняли сотню с лишним скальпов с мускогульских воинов-героев». Тогда Симаган сказал: «Возрадуйся, Шактас, сын Уталисси, сына Миску: мы сожжем тебя в самом большом нашем селении». — «Да будет так!» — воскликнул я и затянул песнь смерти.
Я был пленником и все-таки с первых дней не мог не восхищаться своими врагами. Мускогульги и особенно их союзники семинолы всегда веселы, благожелательны, довольны жизнью. Поступь их легка, они прямодушны и обходительны. Очень речисты, язык у них плавный и гармоничный. Даже и дряхлые сахемы не утрачивают бесхитростной жизнерадостности: так старые птицы наших лесов сливают старинные свои напевы с новыми песнями потомков.
В женщинах, сопровождавших отряд, моя юность будила нежное сострадание и ласковое любопытство. Они расспрашивали меня о младенческих моих годах, о матери, даже о том, подвешивала ли она мою мшистую колыбель к цветущей кленовой ветви и укачивал ли меня ветерок подле гнезда с птенцами. Потом сыпались вопросы о моих сердечных делах: им надо было знать, видел ли я во сне белую косулю и нашептывала ли мне древесная листва в сокровенной долине, что пришла пора любить. Я с равным чистосердечием отвечал и родительницам, и дочерям, и женам воинов, я им говорил: «Вы сочетаете в себе все обольщения дня, и ночь любуется вами, словно каплями росы. Мужчина рождается из вашего лона, дабы пить молоко ваших сосцов и поцелуи ваших уст; вам ведомы магические слова, исцеляющие всякую горесть. Так говорила та, что даровала мне жизнь и уже вовеки не увидит меня. И еще она говорила, что девственница — это таинственный цветок, который произрастает в заповедных местах».
Эти хвалебные речи нравились женщинам, они осыпали меня дарами, приносили кокосовое молоко, кленовый сахар, сагамите, медвежьи окорока, бобровые шкуры, украшения из раковин, мшистые подстилки. Они пели и смеялись со мной, а потом плакали при мысли, что меня сожгут на костре.
Однажды вечером я сидел вместе с приставленным ко мне стражем у Костра войны на опушке леса, где мускогульги разбили стоянку. Внезапно я услышал шуршание одежды, шелест травы, и у костра рядом со мной села женщина в небрежно накинутом покрывале. По ее щекам катились слезы, на груди поблескивал золотой крестик. В лице, правильном и прекрасном, было что-то неизъяснимо чистое и вместе пылкое, мгновенно пленявшее душу. При этом все в ней дышало прелестью, в глазах светилась живая чувствительность, смешанная с глубокой печалью, улыбку нельзя было назвать иначе, как небесной.
Я подумал, что она Дева последней любви — дева, которую посылают пленному воину, дабы усладить его предсмертные часы. Убежденный, что так оно и есть, я обратился к ней, запинаясь от волнения, идущего, однако, совсем из иного источника, нежели страх перед сожжением: «Дева, ты достойна первой любви и не создана для последней. Чувства, населяющие сердце, которое скоро перестанет биться, слишком непохожи на твои. Возможно ли сочетать жизнь и смерть? Ты лишь заставишь меня тщетно сожалеть о скоротечности моих дней. Пусть другой будет счастливее, чем я, пусть долгим окажется объятие, которое соединит дуб и лиану».
И вот что я услышал в ответ; «Но я вовсе не Дева последней любви. Скажи, ты христианин?» Я ответил ей, что не предал богов родного очага. «Как мне жаль, что ты жалкий язычник! — воскликнула она. — Моя мать крестила меня, мое имя Атала, я дочь Симагана с золотыми браслетами, вождя этого отряда. Мы идем в Апалачиколу, там тебя сожгут». И с этими словами Атала встала и ушла.
Тут Шактасу пришлось прервать рассказ. Воспоминания толпой обступили его, из потухших глаз по морщинистым щекам потекли слезы — так два источника, соседствующих в непроглядном подземном мраке, изливаются в струях, что сочатся меж скалистых утесов.
— Видишь, сын мой, — заговорил он наконец, — как далека от Шактаса мудрость, а ведь он слывет мудрецом. Увы, дорогое чадо, даже и незрячие глаза все еще способны проливать слезы. Прошло несколько дней, и что ни вечер дочь сахема приходила побеседовать со мной. Сон уже не смежал мне веки, образ Атала стал так же неразлучен со мной, как память о земле, где погребены мои предки.
Приближалась пора, когда поденки вылетают из речной волны, и вот, на семнадцатые сутки похода, мы подошли к саванне Алачуа. Вкруг нее уступами вздымаются к небесам горы, поросшие лесом, где копаловые деревья соседствуют с лимонами, магнолии с каменными дубами. Прозвучал клич вождя, возвещающий о привале, и племя разбило стоянку у подножия холма. Мне отвели место поодаль, на берегу одного из тех природных водоемов, которыми так богата Флорида. Сторожил меня, привязанного к дереву, воин, изнывавший от скуки. Не прошло и нескольких мгновений, как под бальзамическими деревьями у водоема появилась Атала. «Охотник — молвила она воинственному мускогульгу, — если хочешь пострелять косуль, иди, я постерегу пленника». Тот подскочил от радости, услышав такие слова от дочери вождя, и устремился с пригорка в долину.
Как противоречиво человеческое сердце! Я, жаждавший сказать сокровенные слова той, что была уже мною любима, как свет солнца, я теперь, смущенный и оробевший, предпочел бы, кажется, чтобы меня бросили на съедение крокодилам, обитавшим в водоеме, нежели остаться с нею наедине. Индианка была не менее взволнована, чем ее пленник, мы оба молчали, духи любви замкнули нам уста. Наконец, овладев собою, Атала заговорила: «Воин, ты связан только для виду, тебе ничего не стоит бежать». Эти слова вернули мне мужество. «Связан только для виду, о женщина?..» — произнес я, но тут голос мой пресекся. Поколебавшись, Атала промолвила: «Беги!» Она отвязала веревку от дерева. Я схватил эту веревку, вложил в руки иноплеменке и насильно сжал ее нежные пальцы. «Держи, держи меня!» — вскричал я. «Ты лишился ума, — в смятении проговорила Атала, — тебя сожгут на костре, ты ведь это знаешь! На что же ты надеешься? Вспомни, я дочь грозного сахема!» — «Было время, — ответил я, и глаза мои увлажнились, — когда и меня мать носила на спине в мешке из бобровой шкуры. И у моего отца была красивая хижина; косули в его владениях ходили на водопой к бессчетным источникам; а сейчас дни мои влачатся вдали от родины. Когда я расстанусь с жизнью, не найдется дружественной руки, чтобы травой прикрыть от мух мое тело. Тело злосчастного чужеземца ни в ком не рождает сострадания».
Мои слова растрогали Атала. Проливая слезы, она склонилась над водоемом. «О, если бы твое сердце было полно тем же Чувством; что мое! — продолжал я. — Разве нет свободы в этом пустынном краю? Нет. укромных, убежищ в этих лесах? Много ли нужно для счастья рожденным в индейских хижинах? О дева, еще более сладостная, чем первый сон новобрачного, о моя возлюбленная, решись и следуй за мной!» Такие слова сказал я ей. «Юный мой друг, ты перенял язык белых людей, а индейскую девушку нетрудно обмануть», — ответила она, и в голосе ее звучала нежность. «Ты назвала меня своим юным другом! — воскликнул я. — Подтверди же бедному невольнику…» — «Что я должна подтвердить, бедному невольнику?» — молвила она, приблизив ко мне лицо. «Подтверди поцелуем, что это правда!» — с жаром вскричал я. Атала не отвергла моего моления. Как детеныш лани на скалистом склоне, бережно проникая языком в цветы розовых лиан, словно прилепляется к ним, так я прилепился к губам моей возлюбленной.
Увы, сын мой, горе идет по пятам за радостью. Кто бы поверил, что то самое мгновение, которое принесло мне первый залог любви Атала, положит конец всем моим надеждам? Как потрясен был Шактас, ныне убеленный сединами, когда услышал от дочери сахема такие слова: «Прекрасный пленник, я безрассудно уступила твоему желанию, но куда завлечет нас эта страсть? Мы с тобой навеки разделены моей верой. О моя мать, что ты наделала!..» Атала внезапно умолкла, словно воспрещая какой-то роковой тайне слететь со своих губ. Мною овладело отчаянье. «Ну что ж, — воскликнул я, — жестокостью отвечу на жестокость и откажусь от бегства! Ты увидишь меня, окруженного языками пламени, услышишь стенания моей плоти и возрадуешься». Атала сжала мои руки в своих. «О юноша, несчастный язычник, как мне больно за тебя! Неужели ты хочешь, чтобы сердце мое разорвалось от жалости? Почему, почему мне нельзя бежать с тобой? Не в добрый час мать произвела тебя на свет, Атала! Не лучше ли тебе броситься сейчас в воду и стать пищей крокодилов!»
В эту самую минуту крокодилы, почуяв, что солнце уже на закате, начали реветь в водоеме. «Уйдем отсюда», — шепнула Атала. Схватив за руку дочь Симагана, я сбежал с нею к подножию холмов, которые, точно зеленые мысы, врезаются в море саванны. Пустынный край был величав и безмолвен. Щелкал клювом аист в гнезде, ржали кони на стоянке семинолов, мычали бизоны, лес оглашался однообразными криками перепелов, посвистыванием попугайчиков.
Мы шли в нерушимом молчании. Я шагал рядом с Атала, и она, по моему настоянию, придерживала меня за веревку. Порою мы роняли слезы, порою пытались улыбаться. Взор, то поднятый к небу, то потупленный ниц; слух, внемлющий пению птах; жест, указующий на заходящее солнце; нежное пожатие руки; дыхание, то прерывистое, то спокойное; шепотом произнесенные имена Шактаса и Атала… О первая прогулка любящих, как, должно быть, глубоко ты врезалась в память, если после стольких горестных лет все еще волнуешь сердце старого Шактаса!
Как все же непостижимы люди, одержимые страстями! Совсем недавно я ушел от великодушного Лопеса, бросил вызов любым опасностям, только бы стать свободным, и вот и единый миг взор женщины переменил все мои склонности, намерения, помыслы! Я забыл отчий край, мать, родной очаг, грозящую мне жестокую смерть, на свете существовала для меня одна лишь Атала. Не в силах возвыситься до мужественного здравомыслия, я вдруг как будто впал в младенчество и, неспособный предотвратить надвигающиеся беды, вновь, можно сказать, нуждался в том, чтобы меня баюкали и кормили.
И, разумеется, когда после блужданий по саванне мы вернулись и Атала, упав на колени, опять попросила меня отказаться от нее, я не внял этой мольбе. Я заявил, что немедля пойду на стоянку, если она откажется привязать меня к дереву. Атала смирилась, но продолжала уповать, что в следующий раз уговорит меня.
Этот день решил мою судьбу. Назавтра индейцы сделали привал в долине близ Кусковиллы, самого большого селения семинолов. Войдя в союз с дружественными им мускогульгами, они назвали его Союзом ручьев. Дочь страны пальм пришла ко мне глухой ночью. Она увела меня в глубь леса и снова начала убеждать спастись бегством. Я молча схватил ее за руку и увлек за собой эту истомленную жаждой лань. Ночь была восхитительная. Дух воздуха отряхивал смолистый бальзам с лазоревых своих волос; крокодилы, лежавшие на берегах под тамариндами, источали слабый запах амбры. Посреди чистейшей сини сверкала луна, и неясные верхи сосен купались в ее жемчужном сиянии. Все замерло, и только из лесной чащи доносились тихие гармоничные звуки, словно над всей ширью пустынного края вздыхала душа одиночества.
Сквозь деревья мы увидели юношу с факелом в руках! мнилось, дух весны обходит леса и возрождает к жизни природу. То был влюбленный, спешивший к хижине избранницы, дабы узнать свой жребий.
Если дева задует факел, значит, она согласна дать обет любви; если, не задув, опустит на лицо покрывало, значит, она отвергает юношу.
Неслышно скользя во тьме, воин напевал вполголоса: «Я опережу вступление денницы на горные вершины, ибо ищу среди лесных дубов одинокую мою голубку.
Я надел ей на шею ожерелье из фарфоровок — три красных в знак любви, три фиолетовых в знак тревожного ожидания, три голубых в знак надежды.
У Милы глаза как у горностая, волосы пушисты, как рисовые колосья, уста — розовая раковина, где сверкают два ряда жемчужин, груди — белоснежные ягнята-двойняшки.
Пусть Мила задует этот факел! Пусть дыханием своим изольет на него сладостную тень! Я оплодотворю ей лоно, будущий оплот отчизны припадет к ее брызжущему молоком сосцу, а я у колыбели сына закурю Трубку мира.
Дайте же мне опередить денницу на горных вершинах, дайте отыскать среди лесных дубов одинокую мою голубку»
Так много вложил юноша в свою песню, что сердце мое затрепетало и Атала переменилась в лице. Наши соединенные руки задрожали. Но тут глазам нашим предстала картина не менее для нас опасная.
Мы прошли мимо могилы ребенка, погребенного на границе владений обоих племен, у самой тропы, ведущей к водоему: считается, что душа невинного младенца изберет обителью грудь какой-нибудь молодой женщины, идущей по воду, и снова вернется в земную отчизну. Вот и в ту ночь там собрались юные жены, жаждущие утех материнства. Они надеялись, что в их приоткрытые губы скользнет детская душа, порхающая, мнилось им, среди цветов. Пришла туда и осиротелая мать и возложила на могилку сына маисовые колосья и белые лилии. Опрыскав землю молоком из своей груди, она села на увлажненную траву и нежно заговорила с отлетевшим от нее ребенком:
«Зачем мне оплакивать тебя, мой новорожденный, кому земля стала колыбелью? Когда птенец оперяется, ему приходится искать себе пропитание, и как часто находит он в пустынном краю одни лишь горькие зерна! А тебе не придется проливать слезы, тебя не отравит тлетворное дыхание людей. Когда, не раскрывшись, увядает бутон, он уносит с собой весь свой нерастраченный аромат; так вот и ты, мой сын, унес всю незапятнанную свою невинность. Счастливы умершие в колыбели: они познали только материнские поцелуи, только материнские улыбки».
Мы и без того были во власти наших сердец, а эти воплощения любви и материнства, словно преследующие нас среди зачарованного уединения, довершили дело. Я на руках унес Атала в лесную чащобу, я нашептывал ей слова, которые нынче тщетно пытались бы произнести мои губы. Знай, милый сын мой, что южный ветер хладеет, пролетая над снежными горами. Любовные воспоминания в старческом сердце подобны отражению пылающих дневных лучей в бесстрастном круге луны, когда солнце уже закатилось и тишина плывет над хижинами индейцев.
Что могло бы спасти Атала, помешать ей сдаться природе? Только чудо — и чудо свершилось. Дочь Симагана воззвала к богу христиан; она пала на колени и начала горячо молиться, обращаясь к своей матери и к Царице Небесной, покровительнице девственниц. В этот миг, Рене, я преисполнился глубокого почтения к этой вере, которая в глуши лесов, среди тяжких житейских лишений, оделяет обездоленных бессчетными дарами и, преградив путь потоку страстей, собственной своей силой побеждает их, хотя у них в пособниках и потаенность лесных убежищ, и безлюдье, и надежность тенистого полумрака. Какой дивной казалась она мне тогда, это простая индианка, невежественная Атала, которая на коленях перед старой поверженной сосной, словно перед алтарем, давала богу обеты, дабы он снизошел к любимому ею язычнику! Глаза ее, поднятые к ночному светилу, щеки, на которых сверкали слезы благочестия и любви, были прекрасны неземной красотой. Порою мне казалось, что она вот-вот улетит на небо, порою чудился в древесных кронах шепот спустившихся на лунных лучах духов, которых Бог христиан посылает к отшельникам, обитающим в расселинах скал, когда он хочет призвать их к себе. Мне пришла в голову страшная мысль, что Атала скоро покинет землю, и я глубоко опечалился.
Она меж тем так плакала, так непритворно страдала, что я; может быть, согласился бы бежать, но в этот миг лес огласился кликами, всегда предвещавшими смерть. Четыре вооруженных индейца схватили меня: наше исчезновение было обнаружено, и вождь послал за нами погоню.
Величавая, точно королева, Атала не удостоила воинов ни единым словом. Бросив на них надменный взгляд, она отправилась к Симагану.
Но просьбы ее были тщетны. Стражу мою удвоили, меня накрепко, связали, возлюбленную разлучили со мной. Протекло пять ночей, и вот показалась Апалачикола, раскинувшаяся на берегу Чаттахучи. Меня увенчивают цветами, раскрашивают лицо лазурью и киноварью, в нос и в уши вдевают жемчуг, в руки вкладывают чичикуе.
Разубранный для жертвоприношения, под немолчные крики толпы я вступаю в Апалачиколу. Еще немного — и жизнь моя пришла бы к концу, но тут раздались удары по раковине: это означало, что мико, вождь племени, созывает совет.
Тебе ведомо, сын мой, каким мучениям подвергают дикари плененных врагов. Движимые не знающим устали милосердием, рискуя жизнью, христианские миссионеры добились того, что некоторые племена заменили ужасы сожжения сносным рабством. Мускогульги пока что не переняли этого обычая, но немало голосов уже раздавалось в его пользу. Для решения столь важного дела мико и призывал сахемов. Меня тоже привели на сборище.
Неподалеку от Апалачиколы на одиноком пригорке высилось красивое строение, в котором собирался совет старейшин. Три круга стройных колонн заменяли ему стены. По мере приближения к центру эти полированные, покрытые резьбой кипарисовые колонны, уменьшаясь в числе, становились все выше и толще; середину отмечал один-единственный столп. Полосы коры, укрепленные на нем, были перекинуты через верха всех колонн, прозрачным веером накрывая строение.
И вот совет собирается. На скамьях — вернее, ступенях, расположенных тройным полукругом, — восседают лицом к входу пятьдесят старцев в плащах из бобровых шкур. Посредине вождь племени, в руке у него Трубка мира, наполовину выкрашенная в цвета войны. Справа от старцев пятьдесят почтенных матерей семейств в одеждах из лебяжьих перьев, слева военачальники, все они держат томагавки, головы их увенчаны перьями, грудь и руки выкрашены кровью.
У подножия столпа пылает костер совета. Окруженный восьмью прислужниками, главный жрец в длинном одеянии, с чучелом совы на голове, льет копал в огонь и приносит жертву богу солнца. Эти три ряда старцев, матерей, семейств, воинов, эти жрецы, эти волны благовоний, это жертвоприношение придает совету особую торжественность.
Крепко связанный, я стоял перед собранием. Когда жертва была принесена, мико простыми словами рассказал о том деле, которое должен решить совет. В знак того, что его речь была окончена, он бросил наземь голубое ожерелье.
И тогда поднимается сахем из племени Орла, и вот что он говорит:
«Отец мой мико, сахемы, матери семейств, воины племен Орла, Бобра, Черепахи и Змеи, будем во всем следовать обычаям предков, сожжем пленника, не позволим изнежиться нашему мужеству. Вам предлагают перенять обычай белых, но он для нас вредоносен. Кто согласен со мною, пусть бросит красное ожерелье. Я сказал».
И он бросает красное ожерелье.
Тогда встает мать семейства и говорит:
«Отец мой Орел, ты хитроумен, как лис, ты осторожно медлителен, как черепаха. Я хочу неустанно обновлять с тобою цепь дружбы, и мы вместе посадим Дерево мира. Но не будет следовать тем обычаям предков, которые для нас пагубны. Пусть рабы обрабатывают наши поля, пусть не раздаются больше вопли пленников, от которых скисает молоко в груди кормящих матерей. Я сказала».
Как в бурю разбиваются о берег морские валы, как осенний ветер кружит иссохшие листья, как в нежданное половодье сгибаются и вновь распрямляются тростники Месшасебе, как в лесной чащобе трубят, сбившись в многоголовое стадо, олени, так бурлило и рокотало сборище племен. Сахемы, воины, матери семейств говорили то порознь, то все разом. Желания не совпадали, мнения сталкивались, совет готов был распасться, но под конец приверженность древнему обычаю взяла верх, я был обречен костру.
Случилось так, что исполнение приговора пришлось отсрочить: совет совпал с Празднеством мертвых, или, иначе, Пиршеством душ. Считается, что в дни, посвященные этим торжествам, нельзя убивать пленных. Меня неусыпно сторожили; дочь Симагана сахемы, очевидно, куда-то отправили, потому что ко мне она больше не приходила.
Меж тем на Пиршество душ собрались племена со всей округи — иным для этого пришлось проделать не менее трехсот лье. В уединенном месте построили очень длинную хижину. Когда пришел назначенный день, каждая семья выкопала из могил останки праотцев и, по старшинству и родству, развесила скелеты на стенах Общей обители предков. В это время разразилась буря и, пока старейшины племен заключали союзы мира и дружбы и клялись костями праотцев в верности, снаружи ревели ветры, леса, водопады.
Потом начались погребальные игры — бега, мяч, бабки. Две девственницы стараются вырвать друг у друга тополевую ветку. Их руки, высоко воздевающие ветвь, порхают, пытаясь перетянуть ее на свою сторону, груди прижаты к грудям, стройные босые ноги переплетены, губы касаются губ, дыхание слито воедино. Они клонятся из стороны в сторону, перепутывая волосы, поглядывают на своих матерей и краснеют, зрители рукоплещут им. Жрец призывает духа вод Мишабу. Он повествует о битвах Великого Зайца с духом зла Машиманиту. Он говорит о первом человеке и об Атаенсик, первой женщине, сброшенных с неба, ибо они утратили невинность неведения; о том, как земля обагрилась братней кровью, как нечестивый Жускека убил праведного Тахуистсарона; о потопе, залившем землю по приказу Верховного Существа, и о Массу — единственном, кто спасся, не считая ворона, посланного им разведать, нет ли где твердой земли; он говорит о прекрасной Эндаэ, которую песни ее мужа вернули из края душ на землю.
После игр и песнопений начинаются приготовления к вечному преданию земле праха предков.
На берегу реки Чаттахучи росла фиговая пальма, почитаемая в народе священной. Девы имели обыкновение стирать там свою одежду из древесной коры, а затем развешивать на суках этой вековой пальмы, подставляя дыханию ветров пустыни. В этом месте вырыли огромную могилу. И вот, затянув песнь смерти, шествуют все собравшиеся из Обители предков, и каждое семейство несет священные останки. Они подходят к могиле, и опускают туда кости, и раскладывают рядами, перемежая шкурами бобров и медведей, и холм все растет, и наконец его увенчивают Древом плачь и отдохновения.
Преисполнимся жалости к человеческой природе, сын мой! Те самые индейцы, чьи обряды так трогательны, те самые женщины, которые так нежно заботились обо мне, теперь громогласно требуют моего сожжения, и целые племена откладывают возвращение домой, только чтобы полюбоваться на чудовищные мучения юнца!
В долине к северу от Апалачиколы темнела роща из кипарисов и сосен — ее называли Рощей крови. Дорога к ней шла через развалины какого-то неведомого сооружения, возведенного народом, ныне исчезнувшим. Посреди рощи была расчищена площадка — там-то и приносили в жертву воинов, захваченных в плен. Под клики торжества меня приводят туда. Приготовления к моей смерти в разгаре: уже вкопан столб Арескуи; падают под ударами топора сосны, вязы, кипарисы; начинают складывать костер; зрители устраивают полукруги сидений из древесных стволов и ветвей. Каждый старается перещеголять другого, изобретая пытку для меня: лот предлагает снять скальп, тот — выжечь глаза каленым железом. Я затягиваю песнь смерти:
«Меня не страшат пытки, о мускогульги! Я исполнен мужества, я бросаю вам вызов, я презираю вас больше, чем женщин! Мой отец Уталисси, сын Миску, пил из черепов ваших прославленных воителей, и вам не вырвать из моей груди ни единого стона!».
Воин, уязвленный моей песней, пронзил мне руку стрелой, и я сказал ему: «Спасибо, брат».
Как ни спешили палачи, им не удалось закончить приготовления к казни до захода солнца. Обратились к жрецу, и он воспретил тревожить духов тьмы; еще раз моя смерть была отсрочена, ее отложили до утра. Но индейцам так не терпелось насладиться зрелищем сожжения, они так боялись пропустить первый луч зари, что не ушли из Рощи крови, разожгли костры, принялись пировать и плясать.
Меня меж тем уложили на спину, опутали веревками шею, руки, ноги и привязали к кольям, вбитым в землю. На веревки легли воины, чтобы чувствовать малейшее мое движение. А ночная мгла все сгущается, постепенно стихают песни и пляски, в последних красноватых отблесках костров еще мелькают одинокие тени индейцев, но вот все засыпают; чем тише человеческие голоса, тем внятнее голоса пустынного края, и беспорядочный гул людского скопища сменяется жалобами ветра в листве. Наступила та глухая пора ночи, когда молодые индианки, недавно ставшие матерями, вздрогнув, просыпаются, ибо сквозь сон они слышат плач своих первенцев, требующих сладостной пищи. Я глядел в небо, где среди облаков блуждал тонкий серп луны, и размышлял о своей судьбе. Атала казалась мне чудовищем неблагодарности. Покинуть меня, когда я вот-вот взойду на костер, меня, который пламя костра предпочел разлуке с нею! И все-таки я по-прежнему ее любил и с радостью готов был умереть за нее.
Даже в самом полном блаженстве всегда скрыто жало тревоги, которое побуждает нас не упускать ни единого быстролетного мига счастья; тяжелая скорбь, напротив, бременем своим усыпляет: глаза, утомленные слезами, невольно смыкаются, а это означает, что и в несчастье мы не оставлены милостью провидения. Я невольно погрузился в тот глубокий сон, который порою нисходит на обездоленных. Мне снилось, что с меня сняли путы, и я испытывал облегчение, знакомое тому, кого милосердная рука освободила от долгого гнета оков.
Ощущение было столь явственное, что я открыл глаза. В луче луны, пробившейся сквозь облака, я различил склоненную надо мной высокую белую фигуру; она безмолвно развязывала веревки на мне. Я вскрикнул бы, когда бы такая знакомая рука не зажала мне рот! Оставалась всего одна веревка, но к ней, казалось, нельзя прикоснуться, не разбудив воина, налегшего на нее всем телом. Атала все же начинает развязывать веревку, воин, не совсем еще проснувшись, приподнимается. Атала застывает на месте и в упор смотрит на него. Индеец решает, что перед ним дух развалин, он снова ложится и, зажмурившись, взывает к маниту. Веревка развязана, я встаю и иду за своей освободительницей, которая, сжимая один конец лука, протягивает мне другой. Но сколько опасностей нас подстерегает! То мы чуть не наступаем на уснувших дикарей, то нас окликает дозорный, и Атала отвечает ему, изменив голос. Плачут дети, лают собаки. Едва мы выходим из опасных пределов, как лес оглашается воплями. Индейцы просыпаются, мелькает множество огней, мечутся воины с факелами в руках; мы бежим все быстрее. Когда над Апалачами занялась заря, мы были уже далеко. Какое счастье переполнило меня, когда я вновь оказался наедине с нею, с Атала, моей спасительницей, с нею, навеки мне предавшейся! Сперва я не мог найти слов, а потом, упав на колени перед дочерью Симагана, произнес: «Люди вообще мало что значат, а когда к ним нисходят духи, они превращаются в ничто. Ты дух, ты снизошла ко мне, и я не смею говорить с тобой». Улыбнувшись, Атала протянула мне руку. «Что мне остается, как не следовать за тобой, раз ты отказался бежать без меня? Нынче вечером я подкупила жреца подарками, напоила твоих мучителей огненной водой, рискнула жизнью ради тебя, потому что ты готов был отдать свою ради меня, — сказала она. — Но, юный язычник, жертва будет обоюдной», — добавила Атала таким тоном, что мне стало не по себе.
Она передала мне оружие, которое предусмотрительно захватила с собой, затем занялась моей раной. Прикладывая к ней листья папайи, она орошала ее слезами. «Твои слезы — целительный бальзам», — сказал я. «Как бы он не оказался отравленным», — ответила Атала. Разорвав один из покровов, ниспадавших ей на грудь, она наложила мне повязку, скрепив ее прядью своих волос.
Хмель долго не проходит у дикарей, для них он подобен недугу; видимо, из-за него они не сразу бросились в погоню за нами. Если через несколько дней индейцы и начали преследование, то, конечно, были уверены, что беглецы держат путь на запад, в сторону Месшасебе, а мы меж тем шли, ведомые недвижной звездой, сверяясь со стволами деревьев, лишь с одной стороны поросшими мхом.
Очень быстро мы обнаружили, что мое освобождение не принесло нам покоя. Девственный край простирал теперь перед нами свою необозримую пустынность. Что ожидает нас, непривычных к жизни в лесу, сбившихся с торных троп, бредущих неведомо куда? Часто, поглядывая на Атала, я вспоминал прочитанную мною по настоянию Лопеса древнюю повесть про Агарь, которая пришла в пустыню Вирсавию в те незапамятные времена, когда людям дано было жить в три раза дольше, чем дубам.
Я был раздет почти донага, и Атала смастерила мне плащ из ясеневого лыка, расшила иглами дикобраза мокасины из кожи мускусной крысы. Я тоже придумывал для нее украшения: то сплетал венки из голубых мальв, которые росли по пути на заброшенных индейских кладбищах, то низал бусы из алых зерен рододендрона. Надев их на нее, я с улыбкой любовался чудесной красотой Атала.
Если дорогу нам преграждала река, мы сооружали плот или перебирались на другой берег вплавь. Атала клала мне руку на плечо, и мы рассекали пустынные воды, словно пара перелетных лебедей,
В палящий полуденный зной мы забирались под мшистый полог, обычно свисающий с кедров. Почти все деревья во Флориде, особенно кедры и каменные дубы, поросли белым мхом — он как настоящий покров свисает с ветвей до самой земли. Когда лунной ночью вам предстает среди саванны одинокий каменный дуб в таком облачении, то невольно мнится, что видишь призрак, за которым тянется длинное одеяние. Но и при свете дня эти мхи не менее живописны, ибо, усыпанные роями пестрых бабочек и мошек, стайками колибри, зеленых попугайчиков, лазоревых соек, они подобны белым шерстяным коврам, которые ткач-европеец разукрасил яркими изображениями птиц и насекомых.
Произведения
Критика