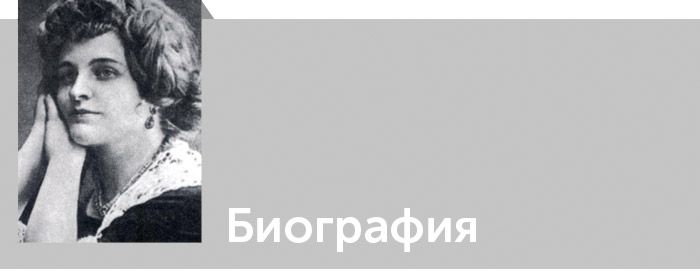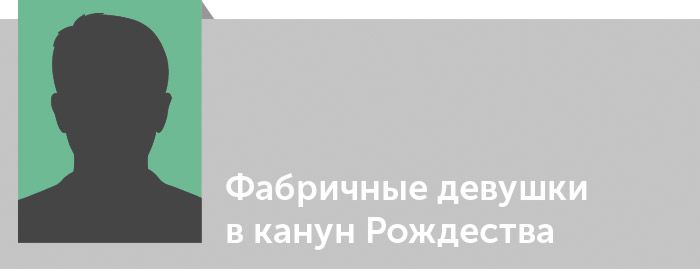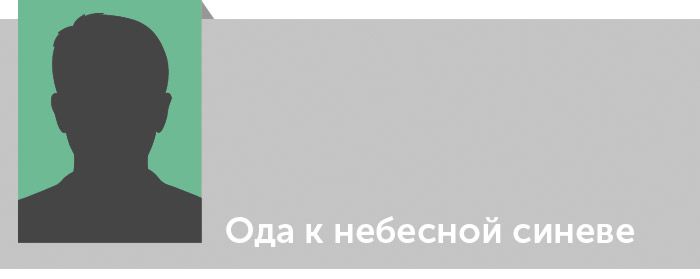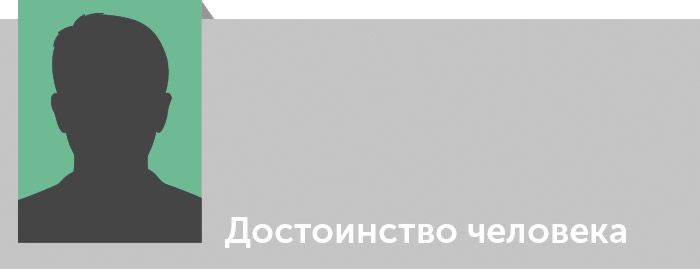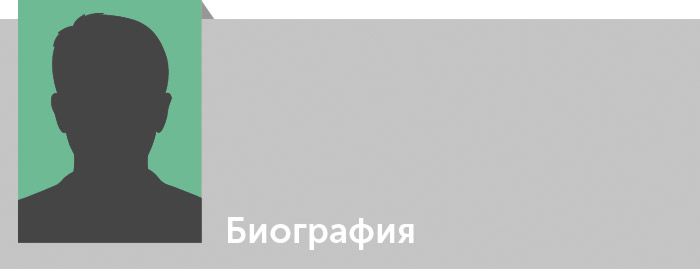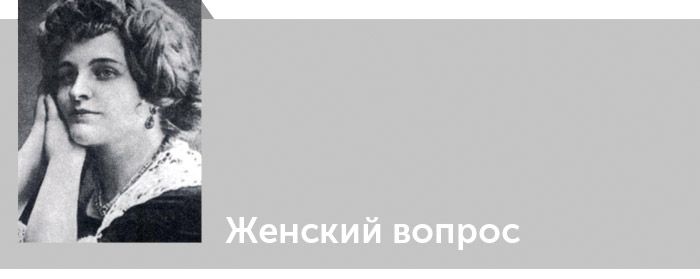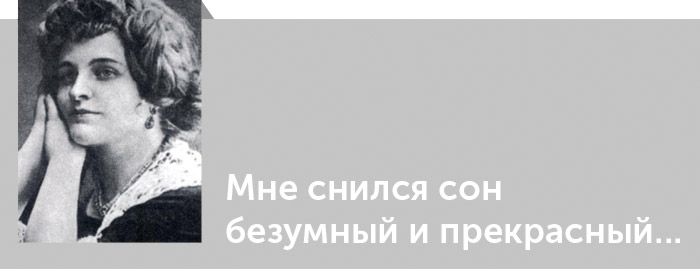История швейцарской литературы. Том 3. Глава 7. Альбин Цоллингер
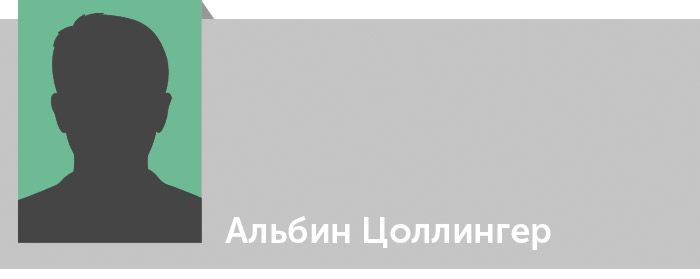
В Швейцарии первой трети XX в. появились, наряду с певцами «альпийской романтики», неуживчивые чудаки вроде Роберта Вальзера и Ганса Моргенталера, которые протестовали против бегства от действительности. Позже выяснилось, что именно эти аутсайдеры, да еще чуть более приспособленный к жизни Альбин Цоллингер (Albin Zollinger, 1895-1941) внесли ощутимый вклад в обогащение немецкоязычной поэзии Швейцарии, в подготовку ее подъема во второй половине XX в. Без Цоллингера картина современной швейцарской поэзии была бы неполной, обедненной (чего, впрочем, не скажешь о его прозе). Поэт широкого жанрового диапазона, он выступил связующим звеном между классикой XIX в. и современностью.
Если попытаться свести жизненные и творческие поиски А.Цоллингера к какому-то общему знаменателю, то можно определить их как постоянно обновляемое желание дать ответ на вопросы: как обрести счастье выходцу из швейцарской провинции, жаждущему приобщиться к новым веяниям времени и в то же время сохранить традиционные ценности? Не обернется ли новое утратой наследуемых из поколения в поколение чаяний о прочном семейном укладе, стабильной жизни в кругу друзей и единомышленников? Постоянно возвращаясь в своей прозе и поэзии к раннему детству, проведенному в селении Рюти Цюрихского кантона, Цоллингер чаще всего вспоминает деревню: шорохи, шумы, запахи, звон оттачиваемой косы, гнездо аиста, вишневый сад в цвету, сизоватую дымку за ближними горами, серый «шуршащий» туман, — картины природы у него всегда насыщены перечислениями, «музыка» детства с неизменной готовностью вызывает в памяти конкретные вещи и предметы. Но в эту музыку нередко вторгается что-то дидактическое, некий моральный постулат — словно ожившие образы природы и далекого детства необходимо во что бы то ни стало свести к одному выводу или вопросу, как в стихотворении «Памяти моего деда Каспара Цоллингера», описывающем жизнь и смерть простого крестьянина, доброта которого «была естественной, как воздух».
Как оценить и как понять
Святое, чистое призванье —
Так жить, чтоб зла не причинять?..
(Перевод И.Грицковой)
Но как сохранить эту естественную доброту в мире, где постоянно идет борьба интересов и мнений, где в мечты и планы отдельных людей вторгается «большая» политика, чреватая непримиримыми противоречиями и войнами, от которых негде укрыться? Да и сам человек разве застрахован от ошибок и заблуждений, разве не совершает он зло неприметно для себя и даже с самыми добрыми намерениями? Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает, но разве можно оставаться пассивным, когда над твоей родиной нависает угроза войны или фашизма? Мучившие Цоллингера вопросы относятся к числу тех, которые может и должен задавать себе каждый человек, не только писатель. Но когда их ставит писатель, то уровень и качество его произведений будут в значительной степени зависеть от ответов, которые он на них дает — прямо, как публицист, или в художественной форме. Есть вечные вопросы, но изменчивое историческое бытие не признает однажды данных ответов, оно хочет видеть себя запечатленным на каждом новом витке своего самодвижения. Преходящая (или непреходящая) слава и преходящая мода как раз и свидетельствуют о том, что какие-то «ответы» оказываются востребованными, заставляют читателей задумываться над смыслом бытия.
«Величайшее из всех благ земных — слава» (Генрих фон Клейст), кажется, не очень волновала Цоллингера ни в юности, ни тем более в зрелом возрасте. Его, выходца из семьи деревенского механика, в детстве вполне удовлетворяли те радости, которые в избытке предоставляли природа и рано развившаяся страсть к чтению и рисованию. Отец, в юности мечтавший стать гравером, по складу характера был самоуглубленным одиночкой, тогда как мать отличалась гораздо более общительным, даже несколько экзальтированным характером, ее постоянно тянуло к чему-то неординарному, экзотическому. Может быть, именно эта черта жены подтолкнула Альфреда Цоллингера решиться в 1903 г. эмигрировать вместе с семьей в Аргентину. Длительное морское путешествие и четыре года, проведенные на удаленной от ближайших селений ферме (дети не имели возможности ходить в школу и «одичали»), оставили неизгладимый след в богатом воображении ребенка, послужили первоначальным импульсом для выработки своеобразного «космизма», окрашивающего многие произведения Цоллингера и заметно отличающего его от других швейцарских поэтов.
Но прижиться на чужбине не удалось, и в 1907 г. семья возвратилась на родину, правда, без старшего сына, который предпочел связать свою судьбу с Новым Светом. Из трех сыновей Альфреда Цоллингера двое остались чужды музам, и лишь в среднем — болезненном и внешне невзрачном Альбине — самоуглубленность отца и экзальтированная неудовлетворенность матери дали творческие ростки: сначала в форме увлечения рисованием и самозабвенным фантазированием. Но достаточно рано, уже в учительской семинарии в кюснахте, юноша начинает записывать свои фантазии и впечатления. В 1916 г. благодаря счастливому случаю рассказ Цоллингера «Картинная галерея» был напечатан в журнале «Ди Швайц», и молодой автор начинает всерьез задумываться о писательском призвании.
Шла Первая мировая война. Школьного учителя Цоллингера призвали в швейцарскую армию — охранять границу. Потом, до 1923 г., Цоллингер работает младшим учителем в разных селениях Цюрихского кантона, пока, наконец, не выигрывает конкурс на должность учителя в Эрликоне, близ Цюриха. Терзаемый «великим беспокойством» времени, он ищет спасения от узкого мирка родных пенатов в интенсивности лирического переживания. Но действительность не отпускает его в сферы «чистого искусства». Поэт рвется взлететь к небесам — и в то же время цепко держится за землю, за свой кантон, за нелегко доставшееся ему место учителя. Он слишком прочно связан с родной землей, слишком глубоко погружен в ее прошлое. Однако лирические стихотворения, одухотворенные любовью к старине, к дедовской деревне, порождены не ностальгией по патриархальному прошлому, как у областников. У Цоллингера они чаще всего только фон, своего рода стартовая площадка для взлета поэтических обобщений, для подчеркивания неразрывности человека с историей и природой, о неутоленной жажде широких просторов и душевной окрыленности.
По характеру дарования Цоллингер — прирожденный лирик, преобразующий впечатления жизни в сочную цветовую гамму, музыку слова и запоминающееся настроение. Недаром его считают одним из крупнейших немецкоязычных поэтов первой половины XX в.1 Однако сам он не меньшее значение придавал прозе и с чрезвычайно высокой ответственностью относился к публицистике — газетная или журнальная статья на злободневную тему иногда была для него важнее лирического стихотворения.
Пик творческой деятельности Цоллингера пришелся на 1930-е годы. «Это было время, — писал он, — когда многие из нас спрашивали себя, позволительно ли в нейтральной стране спокойно сочинять лирические стихи, вместо того чтобы отправиться на помощь героическим борцам за свободу...»2 Сам он без колебаний встал на сторону республиканской Испании, что в тогдашней Швейцарии требовало немалого мужества. Чтобы иметь возможность высказывать свои антифашистские взгляды, он возглавил редакцию литературно-критического журнала «Die Zeit» («Время», 1936-1937), одного из самых боевых в это время печатных органов Швейцарии. Но столкнувшись с массированным противодействием властей, журнал вскоре прекратил свое существование.
Период творческой активности Цоллингера почти целиком укладывается в два межвоенных десятилетия. За это время им создано, наряду с поэзией, публицистикой и «малой прозой», пять романов, четыре из которых могут считаться не только документами творческого развития писателя, но и документами своего времени. Борьба за новые формы романа сопряжена в них с поисками новых подходов к поэтическому освоению реальности. Поначалу источник радикального обновления эпического искусства Цоллингер искал и находил в повышенной субъективности, в эмоционально насыщенной исповеди о себе и своем времени; позднее, на рубеже 1930-1940-х годов, в его романах зазвучали нотки примирения с действительностью, которые он рассматривал как временную уступку политике «духовной защиты».
Материал для первого романа «Сады короля» («Die Gärten des Königs», 1921) был почерпнут в основном из книг по истории. Но, по мнению некоторых исследователей, именно первенец является наиболее совершенным произведением Цоллингера в этом жанре с точки зрения продуманности композиции и завершенности конфликта3. Действие развертывается во Франции XVII в., незадолго до отмены Людовиком XIV Нантского эдикта (1685). Пышное великолепие придворной жизни, разнообразие действующих лиц и характеров, переплетение интриг и побудительных мотивов, неразрешимые любовные конфликты и трагические смерти — все здесь присутствует. Заслуживает упоминания и попытка автора показать нищету подавляющей части населения, произвол властей и духовный застой. Граф Рене, мечтательный, погруженный в себя юноша, узнает от старика-гугенота о трагической судьбе своего отца, участвовавшего в заговоре против короля. После мучительных раздумий он решается организовать новый заговор, в то время как его мать и сестра полностью захвачены водоворотом придворной жизни. Но старик-гугенот, спасая себя, выдает замыслы Рене королю, и еще не совершивший никаких практических действий юноша (много места в романе отводится описанию фантазий и болезненных галлюцинаций пассивного по натуре дворянина) попадает под арест. Нет смысла перечислять другие сюжетные ходы романа, потому что самая привлекательная сторона этой книги — не в ее весьма относительном историзме, а в поразительной фантазии автора, никогда не бывавшего в Париже и не особенно заботившегося о воссоздании подлинного исторического колорита, но все же сумевшего психологически убедительно объективировать в образе графа Рене свои собственные впечатления и переживания. Сказались в произведении начинающего романиста и литературные влияния: «Нильс Люне» Е.П.Якобсена, «Жан Кристоф» Р.Роллана и особенно новеллистика К.Ф.Майера4. Важнее, однако, царящая в романе навязчивая лирическая меланхолия, с трудом и не всегда последовательно переводимая автором в эпический план, а также удивительная способность к перенесению хорошо известных Цоллингеру картин швейцарской природы в вымышленный Версаль XVII в. Позже сам писатель отзывался о своем романе с изрядной долей иронии, но современные исследователи эту его иронию не всегда разделяют — в первую очередь потому, что в последующих романах автобиографичность главных героев проступала еще отчетливее. В прозе Цоллингера так или иначе обнаруживал себя прирожденный лирик, и этим можно объяснить весьма противоречивый характер ее оценок в критике и литературоведении5.
Следующая книга прозы — сборник сказок «Потерянная корона» («Die verlorene Krone», 1922) — еще одно свидетельство богатой фантазии Цоллингера, создавшего ряд великолепных авторских сказок: «Толстый Ганс и тощая Грета», «Винцик идет по белому свету», «Волшебный фонарь», «Херцлиб». Под его пером волшебные сюжеты рождаются из самых простых и обыденных вещей и неожиданных, хотя и вполне допустимых случайностей. Остается только пожалеть, что в дальнейшем Цоллингер к жанру литературной сказки не обращался. Его увлекла современная проблематика в ее гельветическом преломлении.
Основной конфликт, разрабатываемый в романе «Получеловек» («Der halbe Mensch», 1929), — глубокий разлад между художественно одаренной натурой и косным окружением. Этот распространенный в немецкоязычной эпической традиции «роман о художнике» (Künstlerroman) вернее было бы назвать «романом испытания». Действительность испытывает школьного учителя и поэта Венделя Баха на зрелость, поэт испытывает действительность на искренность и человечность. Оба контрагента не выдерживают экзамена. Вендель Бах, упрекающий окружение в интеллектуальной и эмоциональной малоподвижности, меряет жизнь своим незначительным пока жизненным опытом, ограниченным сферой духовного. Он не в состоянии осознать, кто больше виноват в его отчуждении от мира: косное окружение или его погруженность в свои мечтания. Параллель со «Страданиями юного Вертера» Гете, проведенная швейцарским литературоведом В.Гюнтером6, наглядно оттеняет специфику человеческой и творческой позиции Цоллингера, затруднявшей его героям выход в мир больших страстей и трагедий. Внешний и внутренний мир для гетевского героя — сообщающиеся сосуды, именно поэтому Вертер способен с полной самоотдачей переживать каждый момент жизни, если сообщение между мирами протекает без помех; любые помехи на пути к этой полноте воспринимаются им трагически. «Половинчатый» Вендель Бах не способен на плодотворный диалог между внешним и внутренним мирами, потому что его внутренний мир раздвоен, и в душе его нет ни ясности, ни согласия с самим собой. Он живет как бы под стеклянным колпаком своего искусства, витает в облаках — недаром книгу своих стихотворений он называет «Облачная страна».
Порождения фантазии Баха заполняют все его существование, они же заполняют и все эпическое пространство романа. «Есть лишь три состояния, в которых мы по-настоящему живем, — детство, лихорадка и мечта», — заявляет Бах. Главное средство подхлестывания переживания — искусство. Оно уводит от земных проблем, освещает жизнь внутренним светом. «Мы не интересуемся земными делами, и все же жизнь наполняет нас сладким пламенем», — говорит герой Цоллингера, дальний потомок немецких романтиков и запоздалый экспрессионист. Хотя живет он в неспокойное время, но современности не замечает. «Что мне делать с современностью, которая не выдерживает испытания на сердечность?» — вопрошает Бах.
В свою очередь, действительность не приемлет экстатических выходок поэта-учителя. «Народ не интересуют изощренные выверты художников», — говорит Баху чиновник из департамента просвещения, отвергая его «педагогические новшества». Каждая из сторон остается при своем мнении, взаимного интереса не возникает.
В конфликте художника с данностями реального мира, да и во всей образной системе произведения чувствуется связь с романом К. Шпиттелера «Имаго». Свою недостижимую возлюбленную Бах тоже называет Имаго. Как и в романе Шпиттелера, ей противостоит образ земной женщины. Однако влияние Шпиттелера ограничивается заимствованием отдельных мотивов. Система общественно-политических и эстетических взглядов у Цоллингера иная — она более демократична и в большей степени связана с реальностью, чем у Шпиттелера. Герой «Имаго» гордо отворачива-ется от мира «мещанского уюта» и чувствует себя при этом «победителем», герою Цоллингера изоляция от жизни доставляет страдания, и он, в конце концов, признает, что жить в царстве мечты нельзя, что «Имаго — всего лишь фантом». Обозначившиеся в конце романа симптомы отрезвления — не только результат внутренней эволюции Баха, но и результат сознательных усилий автора, направленных на развенчание «получеловека». Позиция героя и позиция автора в романе не идентичны, Вендель Бах и Альбин Цоллингер — не одно и то же лицо.
Художественная структура «Получеловека» мозаична, даже хаотична. История противостоящего обывательскому окружению молодого учителя дается в разорванных, фрагментарных картинах, чередование моментальных зарисовок и наплывов воспоминаний напоминает фотомонтаж. Цоллингер не придерживается хронологической последовательности, постоянно меняет повествовательный ракурс. Такая техника, заменявшая плавность эпического дискурса лихорадочной сменой лирических зарисовок, широко применялась в произведениях немецких экспрессионистов. И хотя к концу 1920-х годов, когда создавался роман, экспрессионистическое движение в Европе пошло на убыль, но Цоллингер дольше других сохранял поэтическую приподнятость и экстатическую взволнованность стиля, что, по всей видимости, объясняется не столько стойким воздействием экспрессионизма, сколько особенностями творческой индивидуальности художника. Склонность к страстному, даже несдержанному самовыражению — сквозная примета стиля Цоллингера. Процесс лиризации его прозы не ослабевал и в 1930-е годы, когда он стремился направить свое творчество в более спокойное русло.
Начало романа «Великое беспокойство» («Die grosse Unruhe», 1939), увидевшего свет через десятилетие после «Получеловека», наводит на мысль, что Цоллингер задумал подчинить распиравшую его лирико-исповедальную стихию более строгой эпической форме. Герой романа — архитектор Урбан фон Чарнер, которого с некоторой натяжкой можно считать предшественником Анатоля Штиллера из романа Макса Фриша. Охваченный «великим беспокойством» времени, он оставляет родину, работу, семью и отправляется в Париж, чтобы стать «свободным художником». Духовный горизонт Чарнера значительно шире, чем у Баха. Он порывает с теснотой и узостью родных пенатов и в интернационально-богемном мире ищет величия, широты и насыщенности жизни.
Первые страницы — описание предместий, увиденных глазами прибывающего в Париж путешественника, хлопот по устройству в гостинице, знакомства с городом — представляют собой достоверное, последовательное и спокойное изложение событий. Но вот над городом опускается ночь — и повествование переводится в другую плоскость: увиденное дается уже не через призму непосредственного опыта повествователя, а вбирает в себя опыт целого литературного направления, которое в нагнетании эмоционального напряжения видело способ преодоления приземленности и бездуховности бюргерского существования. Воображение впервые попавшего в Париж провинциала питается, как и в романе «Сады короля», сведениями и образами, почерпнутыми из книг.
Первое впечатление — отказ от структурной разорванности «Получеловека» — оказывается обманчивым. Оба романа написаны в одном стилевом ключе. Сам Цоллингер рассматривал свой новый роман как «своего рода продолжение, преображение и дополнение» предыдущего7. Он понимал, что тема «великого беспокойства» не могла быть адекватно воссоздана в форме «хорошо сконструированного, правильного романа», не могла вылиться в готовый сосуд классического жанра, в котором великие мастера создали недосягаемые образцы. Цоллингер искал собственную форму, которая могла бы выразить дух времени. Художественное содержание романа, в основе своей лирического, требовало «подвижного языкового обрамления, энергичного слова, целостного пространства, способного выдержать резкие колебания противоборствующих начал»8. Поэтому Цоллингер, по его словам, «оставил материнскую почву так называемой действительности» и в намерении создать «причудливое строение из наплывов, разводов, параболических перспектив, игры света и тени» погрузился в «четвертое измерение поэтической стихии»9.
Художественная организация романа напоминает полифонический монтаж, калейдоскопическая пестрота картин запечатлена способом моментальной съемки. Мозаика многочисленных фрагментов стянута в единое целое силовым полем «великого беспокойства», предчувствием назревающих перемен. Цоллингер не был одинок в своих попытках выработать новую поэтику романа, призванного уловить и запечатлеть тревожную атмосферу 1930-х годов. Его усилия мы вправе рассматривать в русле того направления в развитии западноевропейского и североамериканского романа, которое представлено именами А.Деблина и Л.Франка, У.Фолкнера и Дж. Дос Пассоса, Б.Сандрара и Ш.-Ф.Рамю.
Роману Цоллингера свойственна тяга к широте охвата масштабных социальных событий. Его герои открыты навстречу миру, впитывают в себя впечатления, становятся свидетелями и участниками общественно-политической жизни. Действие романа происходит, помимо Швейцарии и Парижа, в Берлине и Вене, в Венгрии и Аргентине. Урбан фон Чарнер словно наверстывает упущенное в Швейцарии: в своих метаниях по свету он движим одним желанием — высоким напряжением чувства, накалом эмоций разорвать оболочку привычного, упорядоченного существования, усыпляющего в человеке его человечность.
За судьбами множества персонажей, населяющих роман Цоллингера, нелегко уследить. События и лица сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой, сюжетные линии скомканы, композиция асимметрична, ибо должна соответствовать внутреннему состоянию героев. Цоллингер стремится передать одновременность многих событий, симультанность потока жизни. Хаотичность, бесформенность целого — не следствие недостаточного мастерства: они заложены в генетический код произведения. Запечатленная в своей текучести действительность должна восприниматься как стихийный, неуправляемый процесс, ведущий к грозному нарастанию противоречий и к взрыву (войне). Цоллингера, естественно, этот взрыв страшит. Его герои, в конце концов, смиряются со своей внутренней неудовлетворенностью и возвращаются в Швейцарию. Иного выхода Цоллингер не видел: перед лицом непомерно разросшейся угрозы со стороны северного соседа дальнейшая неприязнь по отношению к своей родине выглядела в его глазах предательством.
Если «Великое беспокойство» можно назвать швейцарским вариантом «возвращения блудного сына», то в следующем романе «Пфанненштиль. История одного скульптора» («Pfannenstiel. Geschichte eines Bildhauers», 1940) объектом изображения выступает уже жизнь на родине скульптора Мартина Штапфера. После десяти лет, проведенных на чужбине, он вернулся домой вместе с очаровательной парижанкой Марией, чтобы жить и работать в Пфанненштиле, где он своими руками построил себе дом. Но спокойной жизни не получается: коллега-скульптор «уводит» податливую Марию, а другая подруга — кельнерша Тилли — уходит от него с венгерским музыкантом. И лишь с третьей женщиной — Еленой — Мартин Штапфер, кажется, может надеяться на тихое счастье, о котором мечтал. В образе этого персонажа воплощены некоторые черты цюрихского скульптора Эрнста Кислинга, старшего современника и хорошего знакомого писателя, с вкраплени-ем отдельных автобиографических моментов. Но более автобиографичен второй главный герой, д-р Вальтер Биланд, учитель, писатель и редактор прогрессивного и патриотического журнала «Пфанненштиль». Биланд во многом напоминает «получеловека» Венделя Баха, он так же склонен к рефлексии и фантазированию, и лишь опасность аннексии, нависшая над маленькой нейтральной Швейцарией, кладет конец его зачастую бесплодным критическим «извержениям» и приводит к консолидации с соотечественниками под лозунгом защиты отечества.
Непосредственным продолжением этого романа стал опубликованный посмертно роман «Боненблуст, или Воспитатели» («Bohnenblust oder Die Erzieher», 1942), в котором все еще неуравновешенный Вальтер Биланд значительно продвигается по пути духовного возмужания. На помощь ему приходит скромный сельский учитель Боненблуст. В силу своих дарований (пианист, органист, художник, фотограф, театральный режиссер и даже поэт), а также личного обаяния и бескорыстия он становится духовным отцом и наставником всей деревни, а не только доверенных ему учеников. В образе Боненблуста нашла выражение мечта Цоллингера об идеальном человеке в идеальном окружении10. Вокруг Боненблуста легко и органично выстраиваются другие персонажи романа; рядом с ним, по замыслу автора, должен окончательно сформироваться и характер Вальтера Биланда. Но этому не суждено было сбыться: преодолев сомнения и встав на защиту родины, он погибает от случайно взорвавшейся гранаты — в тот самый момент, когда, казалось бы, начинают налаживаться дела и осуществляться творческие замыслы. Лирический элемент, достаточно сильный и в этом романе, все же не нарушает композиционное единство произведения.
Говоря о Цоллингере-прозаике, нельзя не упомянуть и его поздние новеллы «Господин Расин в парке» (1939), «Русские лошади» («Die Russenpferde», 1940), «Гроза» («Das Gewitter», (опубл. 1943) и др. Он и в новеллистике был «поэтом-языкотворцем», новатором, пытавшимся преодолеть малость и тесноту окружавшей действительности с помощью неожиданных метафор и масштабных поэтических «видений». В рассказах с блеском проявилось его умение создать органический сплав чувства и мысли, прошлого и настоящего, в обнажении «целины поэтического слова» (М.Фриш). А также еще одно качество, не столь заметное в романах, — юмор. В «Грозе», например, богатая символика природы сочетается с элементами иронии и юмора в изображении характеров, а драматизм исходной ситуации (родители категорически запрещают дочери брак с разведенным и старшим по возрасту мужчиной, которого она любит и от которого уже ждет ребенка) сначала смягчается комическими ситуациями, а затем и вовсе переходит в слегка отстраненную иронически идиллию. На тонком пародировании народной книги о «шильдбюргерах» построено также повествование о «Жизни и деяниях одного города в двадцати приключениях» (опубл. 1942), где в «городе» легко узнается Цюрих 1940 г. со многими реальными приметами быта и поведения горожан в то тревожное время.
Представляет интерес отношение к Цоллингеру Макса Фриша, отдавшего в 1940-е годы дань восхищения искусству своего предшественника. Но в предисловии к вышедшему в начале 1960-х годов четырехтомному собранию сочинений Цоллингера Фриш уже по-другому оценивает кумира своей молодости. Теперь это уже не только признание в любви, но и осознание несходства, констатация дистанции. В глазах Фриша Цоллингер — жертва «духовной защиты отечества», жертва времени и обстоятельств. «В иное время его талант и темперамент создали бы произведения, способные принести славу их автору... Цоллингеру не было дано вывести швейцарскую литературу из пут провинциализма». Он как мог сопротивлялся исторической ситуации, но она оказалась сильнее, «сформировала его самого»11.
Фриш, без сомнения, прав: время не позволило Цоллингеру занять то место в истории швейцарской литературы, на которое он был вправе рассчитывать. И все же он был не пасынком, а сыном своей эпохи. Именно эпоха наполнила его романы актуальным содержанием, подтолкнула к поискам новых средств и приемов повествовательного искусства. Да и провинциализм Цоллингера преувеличен: просто на рубеже 1930—1940-х годов XX в. еще не пришла пора его преодоления. Это стало возможным только после Второй мировой войны, когда Швейцария снова открылась навстречу влияниям извне, когда художникам слова пришлось как бы заново учиться рассматривать локальные проблемы в контексте европейской и мировой истории. В этом процессе нового приобщения к миру, как показывает пример Фриша, немаловажную роль сыграл и Цоллингер.
Фриш унаследовал от Цоллингера не только внутренний лиризм, но и полемический задор, публицистическую остроту, страсть к «диалогу с общественностью». В 1950-1960-е годы, годы наивысшей активности Фриша-художника, выяснилось поразительное совпадение взглядов двух писателей на многие явления швейцарской — и не только швейцарской — жизни. Общность позиции видна в их отношении к фашизму, к настоящему и прошлому своей страны, в неуступчивости в вопросах борьбы за человека в человеке, за преодоление разрыва между видимостью и сущностью. Если на этом пути Фришу удалось добиться значительно больших успехов, чем Цоллингеру, то произошло это во многом еще и потому, что он мог опереться на опыт своего предшественника.
Что касается расхождений, то следует подчеркнуть одну особенность стиля зрелого Фриша, резко отличающую его от Цоллингера, — сдержанность, скупость выражения, стремление ограничиться изложением несущественного, поверхностного, а главное «упрятать» в подтекст. Фриш говорит то, что поддается высказыванию, во имя того, что словами выразить невозможно. Цоллингер же о границах выразительности не задумывался и всю гамму обуревавших его чувств и мыслей пытался как можно непосредственнее выразить с помощью метафорически насыщенного, «приподнятого» художественного языка. Поначалу Фриш-художник шел вслед за Цоллингером, но после войны, о чем свидетельствует его «Дневник 1946-1949 года» (1950), нашел собственную, так называемую «сократовскую» манеру повествования, в которой фигуры умолчания, скрытые цитаты и недоговоренность играют не меньшую роль, чем традиционные средства художественной экспрессии. «Что мне не нравится в моих ранних работах, написанных под влиянием Цоллингера, так это эксгибиционизм чувства, употребление так называемой поэтической метафоры, — говорил Фриш в одной из бесед с критиками... — Более поздним моим работам присуща трезвость... эмоциональная окраска возникает между строк, но сами чувства выражения в языке не находят, не выбалтываются. Такая форма кажется мне более поэтичной, чем первая»12.
Романам Цоллингера и впрямь не идет на пользу то, что повествователь в них несдержан в выражении эмоций, многословен, старается сразу высказать главное, жертвуя деталями, отказываясь от полутонов, от возможностей подтекста. Внутренняя взволнованность выражается в нанизывании аргументов, наращивании не всегда точных и потому как бы дополняющих друг друга эпитетов. Цоллингер-поэт в поисках художественной выразительности умел отбирать, сокращать, вычеркивать, Цоллингер-романист спешил высказаться по волнующим его проблемам, не особенно заботясь о форме высказывания. Повышенная продуктивность была его творческим принципом. «Когда так прилежно трудятся диктаторы, мы тоже должны быть прилежными», — писал он13.
Некоторые исследователи видят причину художественных просчетов Цоллингера в его критической позиции по отношению к своему окружению. «Повествовать можно только тогда, когда чувствуешь дружеское понимание своих слушателей, веришь в общество и един во взглядах с земляками, а не тогда, когда заботы о будущем и едкое сомнение затуманивают свободный взгляд», — пишет, например, Г.Бенцигер14. С такой точкой зрения вряд ли можно согласиться, так как в ней содержится скрытый упрек писателю том, что он не стал регионалистом. Певцов «единства с землей», так называемых «Heimatdichter» в Швейцарии 1930— 1940-х годов было достаточно и без Цоллингера. Значение писателя как раз в том и заключается, что он оказался втянутым в поток «великого беспокойства» и потому в лучших своих романах, ставших документами эпохи, сумел если не преодолеть, то хотя бы вплотную приблизиться к преодолению гнета регионализма.
Если над первыми своими романами и над рассказами Цоллингер работал довольно долго, то стихотворные сборники создавались им в считанные недели, когда он открывал клапаны души, пытался облечь в точные слова рвущиеся наружу потоки ощущений, воссоздать «пейзаж воспоминаний», состоящий из «впечатлений подсознания», как он неоднократно формулировал в своих эссе конца 1930-х годов. В этих эссе поражает почти беспримерная тщательность и точность, с какой описывается творческий процесс. Судя по тому, как много внимания Цоллингер уделяет извлечению и словесному оформлению «памяти бессознательного», его поэтика должна быть близка сюрреализму (в манифестах сюрреалистов, значительно более воинственных и напыщенных, обнаруживаются сходные высказывания). Еще более поразительно сходство с целым рядом положений эссе Готфрида Бенна «Эпилог и лирическое Я» (1923, опубл. 1927), повторенных и развитых затем в знаменитом эссе «Поэзия и переживание» (1951). Но очевидно все же, что теоретическое осознание Цоллингером принципов собственной поэтики в эссе «Поэзия и переживание» (1934), «Таинство лирики» (1938) и «Если тебе суждено быть поэтом...» (1939) подпитывалось прежде всего совокупной атмосферой европейского XX в.: стремительный скачок в субъективизм, хотя и подготавливавшийся по крайней мере с эпохи Просвещения, но от этого не менее ошеломляющий, по существу, перекроил всю духовную и литературную ситуацию, создал хаос перекрестных и опровергающих друг друга течений, из которых крупные художники могли выбираться на твердую почву творчества только поодиночке. Нащупывание опоры в «памяти бессознательного» было спасительной нитью, благодаря которой многие художники XX в. преодолевали лабиринты хаотического субъективизма. Цоллингеру эта нить была дана изначально, ему оставалось только крепче держаться за нее, что он и делал, порой жертвуя поэзией ради прозы.
Цоллингер создал и издал при жизни четыре стихотворных сборника: «Стихотворения» («Gedichte», 1933), «Звездная рань» («Sternfrühe», 1936), «Тишина осени» («Stille des Herbstes», 1938), «Дом жизни» («Haus des Lebens», 1939). Исследователи, как правило, не акцентируют внимание на проблеме эволюции его лирики15 — ее отличает скорее постоянное кружение вокруг однажды определившихся тем и мотивов, настойчивое стремление увидеть объект изображения с разных сторон и в разном освещении, чтобы глубже постичь его сущность. Пути и формы постижения этой сущности тоже не претерпели заметных изменений на протяжении тех шести-семи лет, когда создавались вышеназванные сборники. Пейзаж родного края для Цоллингера — это отражение универсума, его конкретное предметное наполнение; даже в самом невзрачном и недолговечном предмете поэт ищет и обнаруживает вечное и непреходящее. Именно в этом смысле стихотворение «Навозная телега», помещенное в начале первого сборника, можно считать своего рода демонстрацией поэтического принципа Цоллингера; запыленная, измазанная крестьянская телега становится символом прекрасного ландшафта, но не в верхарновском романтико-натуралистическом и не в социально-экспрессионистическом наполнении. Поэту Цоллингеру претит все броское и экстравагантное, его философская пейзажная лирика — по существу апофеоз неприметного и обыденного, за которым — тайна земного бытия (как в стихотворении «Раздумье»):
Мало ночи и дня
Чтобы слиться с круженьем извечным
И все понять.
Жизнь быстротечна.
Кто смысл глубинный узрит
В жизни вершеньи беспечном?
Вечность манит: смотри,
Всюду таится великий
Дух внутри.
Но везде безлики
Оболочка, стена.
Попробуй, сквозь них проникни.
Земля, мой край, страна —
Как мысль сокровенная,
Что мне пока не видна.
И, разрастаясь, боль неизменная
Пронизывает меня:
Чтоб ощутить эту землю согбенную,
Мало ночи дня!16
Это стихотворение — тоже своеобразный манифест, оно в концентрированной форме выражает основное направление поэзии и поздней прозы Цоллингера: увидеть и запечатлеть в слове «сокровенную мысль» родного края и через понимание этой «сокровенной мысли» осознать и свое место в мире. Картины природы в лирике Цоллингера менее всего напоминают пейзажную лирику, хотя перечислений конкретных примет пейзажа у него наберется даже больше, чем в типичных стихотворениях этого жанра. Преодоление чистой пейзажной описательности достигается, во-первых, через максимально возможное обострение восприятия, раскрепощение всех органов чувств, и, во-вторых, благодаря богатому воображению, оживляющему пейзаж и предельно расширяющему его границы. Погружаясь в созерцание ландшафта, поэт сливается с ним и, словно медиум, обретает способность увидеть и услышать обычно невидимое и неслышимое:
НОЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
Темнеют горы в гаснущих всплесках дня,
В озере небо ночное зеленым сияньем струится,
Шелест утиной стаи больно пронзил меня,
Гравий в глубинах сверкает, как призраков лица.
Все становится чуждым, я будто у моря, в иной стране,
Где есть бухты, леса, города и вулканы.
Затерянный, тихо кружусь я в своем челне.
Сквозь тысячелетья мерцают ночные туманы.
Некоторые черты поэтики Цоллингера лучше всего понять при сравнении с Германом Гессе, стихотворения которого гораздо задушевнее и мягче. Лирический герой Гессе, при всем его внимании к природе, никогда не сливается с ней до конца, природа помогает ему переносить скитальческую жизнь и бесприютность, но он всегда обособлен от нее «цыганской тоской по дому, которого нет нигде». Лирический герой Цоллингера — отнюдь не скиталец-романтик, он у себя дома, на своей земле, он — плоть от плоти ее, ему не терпится понять себя в ней и ее в себе. Для Гессе поэзия была как бы «отдыхом» от предельно напряженного интеллектуального освоения мира, к которому он стремился в своих романах. Для Цоллингера же поэзия была жизнью, более подлинной и насыщенной, чем жизнь реальная, чем даже его поздние романы, в которых он мучительно пытался облечь свою единственную тему в строго очерченные конфликты и самодостаточные характеры. Лирический герой Гессе постоянно обращается к детству как к самой чистой и, увы, недостижимой поре жизни: «...И я вижу: чище, мягче / Были в детстве эти дали, / И светлее и богаче / Горы елями сверкали» («Шварцвальд»). У Цоллингера задача сложнее: для него детство, дедовский дом, деревня со всеми шумами, цветами и запахами, при всей их самоценности, в определенном смысле всего лишь точка отсчета, ряд промежуточных ступеней, по которым он пытается спуститься еще глубже — туда, где конкретные очертания предметов начинают расплываться в «глубинах бессознательного», и из этих глубин выплывает новая поэтическая реальность, уже не идентичная «памяти детства», а более обобщенная, хотя и опредмеченная — память пространственного бытия, перемещающегося по оси времени. Личное остается, но оно сливается с предметно-пространственным бытием или вовсе растворяется в этом бытии («Сумерки детства», «Флокс», «Боденское озеро»). Прием подключения «памяти бессознательного» Цоллингер возвел в основной поэтический принцип, неоднократно обосновывал его теоретически (например, в уже упоминавшемся эссе «Поэзия и переживание») и создал индивидуально окрашенную поэтику визионерской фантазии, во многом родственную не только Г.Бенну, но и таким поэтам, как Оскар Лерке или Вильгельм Леман. Модель подобного визионерства ясно просматривается в стихотворении «Флокс». Лирическое «я» здесь совершенно отсутствует, хотя из контекста понятно, что поток ассоциаций, вызванных не столько даже цветом, сколько запахом, невозможен при обычном (т.е. не пропущенном через «память бессознательного») созерцании и обонянии цветка:
Все есть в твоем аромате:
Мангольд и молоко,
Запах крахмального платья,
Приторный хлева покой.
В аромате твоем винограда
Зеркальная голубизна,
Паутинка сентябрьского сада,
Запах яблок и сена копна.
Словно сундук распахнули где-то,
Запертый со времен отцов:
В нем юбки, туфли, корсеты
Причудливых образцов.
Ты как нежность и строгость смущенья
Невесты, входящей в дом,
Свадьба с разгулом и пеньем,
Колоколов перезвон...
Целый ряд стихотворений Цоллингера целиком построен на этом «визионерском» принципе: извлекаемая из глубин бессознательного (нередко во сне) картина не только оживает и запоминается, но становится неотъемлемой частью «сознательной памяти», а следовательно, и составной частью реальной действительности:
КРЕСТЬЯНСКИЙ ГОРОД
Крестьянский город видел я во сне.
В горах стояли дивные соборы,
Мосты, и башен темные дозоры,
И виселицы. Странно было мне:
Дома, решетки, двери были целы,
Но город словно некий мор постиг.
И ратуша алела от гвоздик,
Но здесь не реял даже голубь белый.
Ни петуха, ни пса. Хлева пусты,
Нигде не видно даже куч навозных.
В домах тек жар июльских полдней грозных,
И замер колокол от немоты.
Над бездной, полной водорослей, мха,
Висели мельниц праздные колеса.
Ромашка покрывала все откосы.
Лущилась дранка крыш, как шелуха.
Я этот город призрачный узрел —
В горах высоких дивные соборы,
Узор теней и свет, дразнивший взоры.
Он в памяти моей доныне цел.
(Перевод Г.Ратгауза)
В последних сборниках визионерские черты сохраняются, но они заметно смягчаются, так как свой дар ясновидения поэт все чаще обращает на созерцание и истолкование окружающей действительности. Поэтика многих стихотворений («Рисунок на черном мраморе», «Дом жизни», «Поступь предков», «Итальянские парки», «Вечерние горы») основана на своеобразном «двоемирии» (видения и реальность), но теперь оба мира зримо присутствуют один в другом, взаимообусловливают друг друга и не могут быть объяснены в отдельности, ибо составляют неразрывное единство и лишь в этом единстве обретают свой подлинный смысл.
Надо сказать, политика с трудом входила в мир лирики Цоллингера: «Тоска казарм» и «Фабричные девушки в канун Рождества» из сборника «Стихотворения» — типичные визионерские фантазии, и если они подталкивают читателя к раздумьям на социальные и политические темы, то это прежде всего свидетельство силы поэтического воображения поэта, способного обращать в предметную реальность «фантазии бессознательного». Стихотворение «Осознание себя» («Selbstbesinnung») из сборника «Звездная рань» прямо подчеркивает эту творческую установку: «Снаружи нет ничего, кроме созданий твоего собственного внутреннего света».
И все же активные попытки Цоллингера включиться в общественно-политическую жизнь предвоенной Швейцарии (статьи в журнале «Цайт» в защиту испанских республиканцев) не могли не отразиться и на поэтике писателя. Нагляднее всего изменения сказались в сближении «внутреннего» и «внешнего» миров, в стремлении показать их взаимосвязанность и взаимообусловленность. Политика и современность так настойчиво вторгались в жизнь поэта, что он, уже привыкший к состоянию «двоемирия», лишь смещает акценты, стремясь теперь и во внешний мир вглядываться столь же пристально, как он многие годы вглядывался в миры своей фантазии. О новой функции поэзии с предельной четкостью говорится в стихотворении «Поэт в наши дни»:
Чем ты занят, дружище мечтатель?
На цветущий глазеешь луг.
Но тяжко
Над тобой мрачной тучей чернеет
Войны роковая гроза!
(Перевод В. Вебера)
В лучших «политических» стихотворениях Цоллингера визионерские пейзажи как бы «наплывают» на современную ему действительность, сливаются с ней так, что границы между ними размываются, и уже сама реальность, несущая в себе еще неразродившееся бремя истории, превращается в поэтическое «видение» (Стихотворение «Европейское затмение», 1939). Как лирик Цоллингер до конца сохраняет верность самому себе и даже в стихотворениях, непосредственно обращенных к современности, остается в границах однажды избранной им поэтики.
1 См.: Staiger E. Nachwort // Zollinger A. Gedichte. Zürich, 1956. S. 126.
2 Цит. no: Albrecht В. Die Lyrik Albin Zollingers. Zürich, 1964. S. 141.
3 Cм.: Günther W. Dichter der neueren Schweiz. Bd. 1. Bern, 1963. S. 514; Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden. Bd. 5. Das 20. Jahrhundert. Köln. O.J. S. 426.
4 Thomke H. Albin Zollinger // Bürgerlichkeit und Unbürgerlichkeit in der Literatur der deutschen Schweiz / Hrsg. von Werner Kohlschmidt. Bern und München, 1974. S. 140.
5 Кроме вышеназванных работ, см.: Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur. 20. Jahrhundert / Hrsg. von K.Pezold. Berlin, 1991; Häftlinge P. Der Dichter Albin Zollinger. Diss. Beromünster, 1954; Frisch M. Albin Zollinger als Erzähler // Neue Schweizer Rundschau. Neue Folge. Zürich, 1943. №10.
6 Günther W. Op. cit. S. 517.
7 Ibid. S. 519.
8 Zollinger A. Gesammelte Werke in 4 Bänden. Zürich, 1961-1961. Bd. 1. S. 398.
9 Ibid. S. 398.
10 Günther W. Op. cit. S. 526.
11 Zollinger A. Gesammelte Werke in 4 Bänden. Bd. 1. S. 10.
12 Цит. по: Kieser R. Max Frich. Das literarische Tagebuch. Frauenfeld und Stuttgart. 1975. S. 71-72.
13 Цит. по: Die zeitgenössischen Literaturen der Schweiz. Zürich; München, 1974. S.185.
14 Bänziger H. Heimat und Fremde. Bern, 1958. S. 135.
15 Cм.: Albrecht В. Die Lyrik Albin Zollingers. Zürich, 1964. S. 145.
16 Кроме особо оговоренных случаев, переводы стихотворных цитат в данной главе принадлежат А.А.Гугнину.