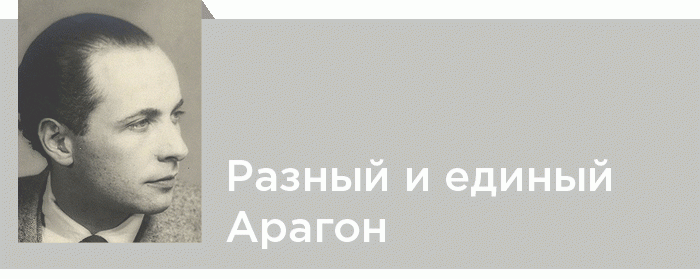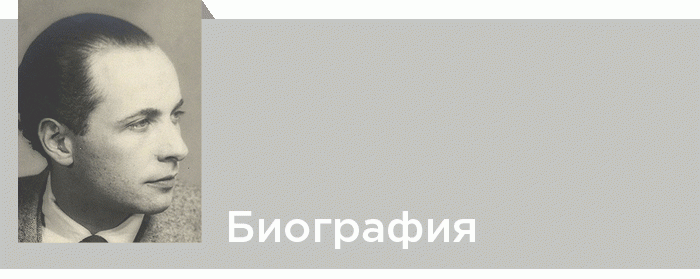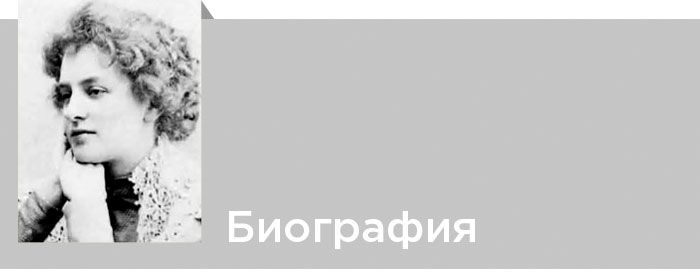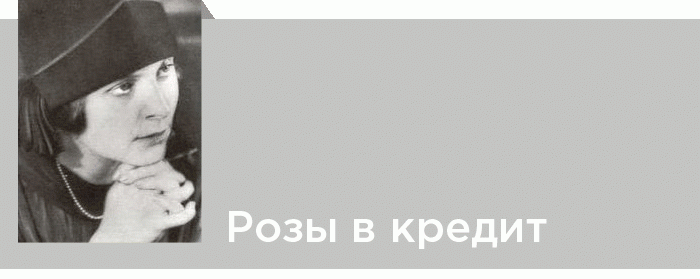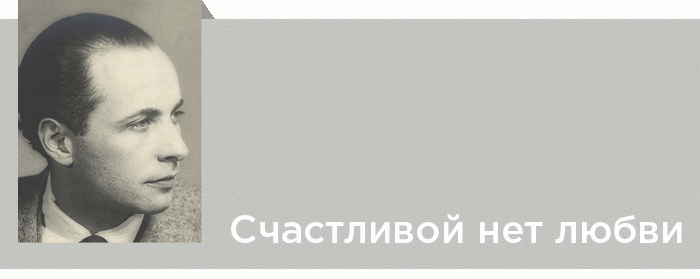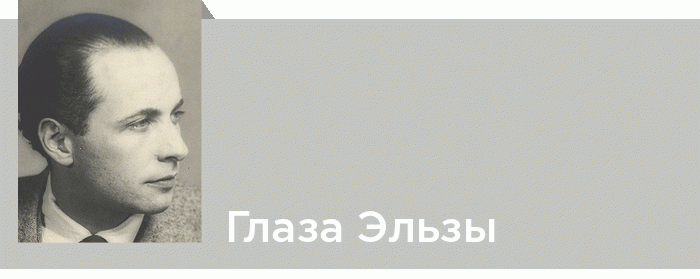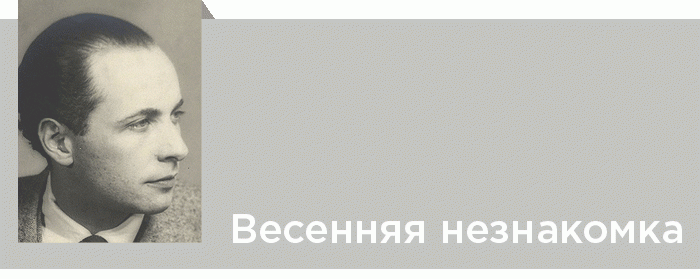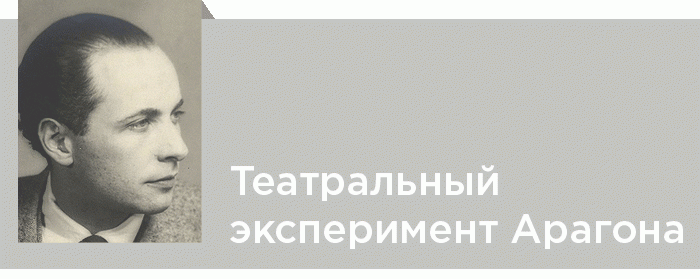Лирический эпос Арагона
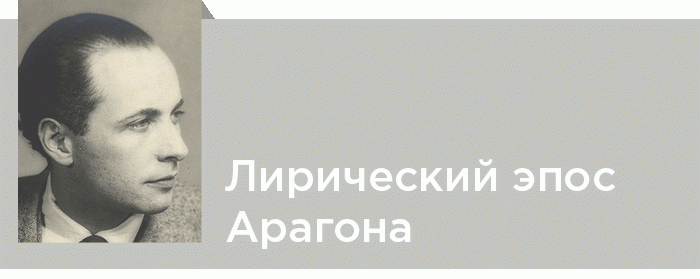
Т. В. Балашова
По природе своего дарования Арагон — лирик. Лирические миниатюры получались самыми яркими, завершенными и среди стихов сюрреалистического периода, и среди поэтических произведений 30-х годов. Этот талант достиг подлинных высот в дни войны, оккупации, Сопротивления, когда боль за поруганную родину — «нож в сердце» — вызвала к жизни строки потрясающей лирической мощи.
В середине 50-х Арагон, к тому времени уже автор эпического цикла романов «Реальный мир», ощутил потребность коснуться чувств, ранее его поэзией почти не тронутых, воссоздать языком уже не романа, а стиха процесс становления нового миросозерцания, духовную сложность характера своего современника. Так родилась поэма «Глаза и память» (Les yeux et la mémoire, 1954). Рассказывая о тех, что «приходят издалека», Арагон естественно шел к эпическому повествованию. В его творчестве мог возникнуть только эпос исповедально-лирический — именно таковы появившиеся одна за другой поэмы — «Неоконченный роман» (Le roman inachevé, 1956), «Эльза» (Eisa, 1959), «Поэты» (Les Poètes, 1960), «Одержимый Эльзой» (Fou d’Eisa, 1963).
Жанр лирического эпоса, свободной беседы-исповеди появляется в 50-е годы нашего века у поэтов разного склада. Обычно к нему легко применимо определение «поэмы итога» — настолько обнажено стремление автора измерить всю свою жизнь, попытаться связать ее с эпохой, осмыслить собственный путь и опыт поколения. Но слово «итог» не очень согласуется с поэмами Арагона. Художественная задача автора здесь — отразить самый процесс, поиска истины. Процесс не последовательный, а предельно усложненный: нравственная позиция, выстраданная опытом жизни и борьбы, снова подвергается сомнению.
Создавая свою особую форму лирического эпоса, Арагон идет во многом от Аполлинера, которого он называл своим «непосредственным предшественником». Лирический эпос Аполлинера поразил современников «потрясающей политематичностью», как писал впоследствии В. Незвал.
Слияние лирико-биографического и событийного потоков было присуще поэзии и раньше. Но разноплановая отдаленность событий, вмещающихся в единую человеческую судьбу, здесь во французской поэзии появились впервые. Ни одно из этих событий как будто не образует законченного фрагмента; даны резко прозаические блики-картины, внимание должно очень быстро перемещаться от страны к стране и от одного психологического состояния к другому; многоступенчатые ассоциации создают атмосферу бесконечного движения жизни и человеческого сознания.
Такой специфический опыт воспринят Арагоном в поэмах последних лет, моментальные снимки реалий личной судьбы или истории обрамлены узором психологических реакций; здесь тоже бушует стихия прозы жизни, увиденная глазом поэта-лирика. По сравнению с лиризмом Аполлинера, лиризм Арагона производит впечатление необузданного, безграничного, всепоглощающего.
Если верно, что «произведения, которые у иных поэтов вышли бы камерными, у Аполлинера приобретали характер развернутой эпической картины времени», то поэзии Арагона неожиданным образом стала ближе обратная закономерность: эпические картины вдруг становятся почти камерными из-за откровенной автобиографичности и сосредоточенности на отражении потока чувств — боли, негодования, радости, — потока, который Аполлинером, как правило, смирен, обуздан, направлен в русло лаконичного суждения-образа. Арагон смелее, чем Аполлинер, мог распахнуть перед читателем свое сердце. Если Аполлинер хотел быть «глоткой Парижа», просил:
Лейся, Франция, лейтесь всех стран города
В мое горло, где жажда пылает всегда!
Перевод М. Кудинова
то Арагон, который был в годы Сопротивления голосом пробудившейся Франции, стремится теперь к иному — стать голосом каждой отдельной человеческой личности, воссоздать процесс ее пробуждения; самые далекие психологические состояния очень разных по своему мироощущению людей Арагон пытается сделать своими, личными. Его жизненный опыт, богатый радостями и утратами, ошибками и увлечениями, разочарованиями и сомнениями, придает перевоплощениям достоверность:
Но я надеждою звеня Кричу Скорей в мою обитель В мой Лувр при свете звезд и дня В мои стихи скорей войдите Войдите же со мной в меня.
Перевод М. Ваксмахера
Здесь есть что-то от «сошедшей с ума анатомии» — образа, близкого на известном этапе поэзии Маяковского.
В этом можно видеть характерный признак социалистической поэзии: пристрастность ко всему происходящему на планете и вера в силы человека, способного изменить ход исторических событий, дает этой поэзии особую лирическую напряженность. Но в творчестве Арагона это качество, бесспорно, усилено и природой его таланта. Он не умеет быть наблюдателем, мудро подводящим итоги, он всегда — участник, находящийся в гуще событий, именно «здесь и сейчас». В этой перспективе лирический герой Арагона почти контрастен лирическому герою Сен-Жон Перса, постоянно ощущавшему барьер между собой и «людьми сегодняшнего дня». Арагон, напротив, вживается в различные психологические состояния, создает различные психологические портреты как нюансы своего личного портрета. Поэт хотел бы проходить сквозь зеркало, как Алиса, примерять на себя чужие одежды и судьбы, ощущая все реальнее — с каждым перевоплощением — иные душевные состояния, мотивы поступков, которые сам совершить не мог.
В многомерном изображении исторических и личных судеб (вспомним хотя бы скрещение эпох, сопоставление их «голосов» в «Страстной неделе») — принцип арагоновского реализма 60-70-х годов. «Реализм — это значит внимательно слушать пульс грандиозного действия, где совсем не всегда соблюдаются три единства». Сколь ни причудлива игра зеркал, сколь ни призрачны увлекающие автора тени, он просит помнить:
И по жизненной мерке кроится моих вымыслов странных одежка чудная.
Перевод М. Ваксмахера
Только мерку эту художник хочет выточить при максимально полном знании всех условий жизненной «задачи», многообразных сил, вступивших в борьбу или взаимодействие; его не устраивает взгляд «с одной стороны». Он хотел бы посмотреть на каждое явление со всех сторон и еще обязательно из будущего:
«Реализм, чтобы отвечать поставленным перед ним требованиям, должен базироваться не на реальности настоящего... а на реальности будущего. Он должен стать реализмом предвидения». Автор хочет понять сцепление общественных сил, индивидуальных темпераментов, неуправляемых страстей, представить себе, что его взгляд на мир не обязательно бесспорен, что он требует ежедневной проверки и коррекции с учетом иных мнений и многочисленных мотивов, по которым «другой» возражает тебе.
Неслиянность позиции автора и героя некоторые критики считают «первым признаком эпичности». Такой «эпичности» у Арагона нет. Каждое сколько-нибудь важное для него «обличье» лирического героя становится его собственным, биографическим. Чтобы почувствовать это, можно поставить рядом «Неоконченный роман» и близкую ему по настроению лирическую исповедь Незвала «Из жизни поэта» (1967). И там и здесь — взгляд из сегодняшнего дня в прошлое, переоценка былых «безумств» и одновременно готовность защитить в них то, что достойно защиты. Однако Незвал может соглашаться со своим юным героем, не отождествляя себя с ним. Отсюда — речь от второго лица («Сборища тебя изводят пьяные и сжигают чувства безымянные»), отсюда — прямое уточнение цели исповеди («да послужит мой рассказ предупреждением юноше, больному раздвоением»), отсюда в финале — развернутая, почти программная картина жизни, какой хотел бы видеть ее поэт (известная строфа «Верю, сбудется мечта, хоть и не завтра...»). Арагон же не проводит границы между разными эпохами «воспитания чувств»; его последние поэмы — это снова вся жизнь — и ее первые заблуждения или открытия, и ее последующие прозрения и разочарования.
Автор «Неоконченного романа», «Эльзы», «Поэтов» ощущает себя сразу и непочтительным бунтарем, для которого главное — возмутить читателя; и горячим революционером, связавшим воплощение своих идеалов с самым ближайшим «завтра»; и певцом национального Сопротивления, гордым, что он ведет за собой макизаров; и уставшим от жизненных трагедий ветераном.
Лирическому герою поэм 50-60-х годов одинаково близки и пафос социального преобразования действительности, и злое сюрреалистски-нигилистическое осмеяние общества. Такой угол зрения на действительность обусловил многоликость лирического героя, который то нравственно целен, то изломанно противоречив. Лирическое «я» поэм Арагона — личность почти неправдоподобная, потому что этические позиции, давно отвергнутые, воссоздаются вновь, сохраняя здесь свою силу и сегодня; они соединяются с новыми по прихоти какой-то поэтической алхимии; антиподы проступают один в другом, как на кадре, отснятом дважды на той же пленке.
Уже в поэме «Глаза и память» автор стремился высказать обуревающие его мысли сразу, словно переплетенными, не твердыми, а становящимися. Разматываются беспрерывной лентой жизненные кадры.
Горячечные споры двадцатилетних, желавших, «чтоб разум ничего не учил, а спешил разучиться всему»; зал Турского конгресса, вдохновенная речь Клары Цеткин, повергшая юношу «в дрожь, сравнимую лишь с поэзией»; война, «поднявшая свой бычий лоб»; бомбы над Вьетнамом и Гватемалой, заставляющие поэтическую строку то трепетать от боли за оборванную колыбельную песню, настраиваясь на печальный, протяжный лад, то скандировать клятву мести.
Поэт не сразу отказывается от одной концепции ради другой. Лишь к финалу складываются программные строфы, действительно подводящие итог, а не предлагаемые как априорные:
Je chante l’avenir comme un ciel naturel
Chaque mot que je dis appartient au demain
Il est un grain de blé qui ne craint plus la grêle
Au vaste épaulement des sciences entre elles
Quand l’homme à soi semblable aura des yeux humains.
Monde pareil au rire heureux des tourterelles.
Будущее пою — как небо над головой.
Слово мое принадлежит грядущему:
Оно — как пшеничное зерно, не боящееся града.
Там науки дружны и могучи.
Человек, храня в себе человеческое, смотрит вокруг добрыми глазами,
И мир — словно радостный смех голубей.
Последующие поэмы, особенно «Неоконченный роман» и «Поэты», композиционно построены именно на чередовании контрастных впечатлений.
В «Неоконченном романе» поток жизни еще сложнее: детские безмятежные годы, нежные материнские руки, скользящие по клавишам рояля; юность, проведенная в окопах первой мировой войны; сердито сдвинутые брови бастующих шахтеров из Саарбрюккена; дурман богемы в ее дешевой пестрой красе; встреча с Эльзой, очерченная по-сюрреалистически броско (tu m’a retiré de la chair désespoir comme une épine — «ты вырвала из меня отчаянье, как занозу»); плотины Днепрогэса, сверкающие на солнце... Первые впечатления от социалистической действительности переданы очень сложным строем стиха; длинная, почти прозаическая строка (тот самый шестнадцатисложный стих, которым, по словам обозревателя «Пансэ» Жана Варло, «Арагон владеет... с королевской грацией») венчается твердой рифмой, словно гармония на глазах рождается из будничного, словно тут же перед вами из хаоса чувств возникают проблески ясности. Когда же надвигается черная тень фашизма и начинает сечь Европу символический (как в «Броселиандском лесе») град, поэтический ритм опять грубо сломан.
Теперь строки нервные, нестройные, рассеченные беспорядочными ассонансами (permis — fourmis, fourmilière — foudre la lumière, lumière — première), словно впитавшие весь ужас готовящегося торжества фашистской свастики.
Стремительный вихрь действительности в ее важных для всех или существенных только для одного проявлениях взметает различные жизненные концепции, спорящие друг с другом истины.
Для структуры последних произведений Арагона важным оказывается не конечный вывод, а настроение, впечатление, мозаика разноречивых деталей и психологических реакций, которые воссоздают внутреннюю борьбу лирического героя. Поэтому так причудливо течение стиха. То величественный шестнадцатисложный стих, то разговорная интонация, то мажорно-песенный ритм, то нервная сбивчивость нескончаемо длинной прозаической строфы, то рубленые короткие строки, каждая из которых словно удар боли.
Предметы
Нелепые Настежь распахнутый шкаф Больше нет Ни малейшего
смысла закрывать дверцы шкафа
Вещь
упавшая на пол Вечер когда я тебя потерял...
Цикл «Комнаты». Перевод М. Ваксмахера
Автор подчиняет движение стиха не описанию (предметов, переживаний), а поиску — поиску трудной истины и поэтому, как проблески прозрений, пронизывают его внутренние рифмы, ассонансы, аллитерации. Арагон мастерски меняет размеры, жанры. Он, по выражению Жан-Луи Лесеркля, «вдруг встает выше дискуссий об александрийском стихе, рифме и стихе свободном. Арагон пробует все формы, следуя вольному выбору. Никогда, пожалуй, ранее форма не подчинялась столь полно целям смысла».
В поэмах Арагона нет никакой границы между интимным миром, открытым лишь двоим, и трагическим миром нашей современности. Само понятие «любовь» поэт пытается осмыслить совсем по-новому, резко противопоставляя свое понимание жизни идеям отчуждения, царящим в капиталистическом мире. «Мой лиризм, — подчеркивает Арагон, — связан с философской концепцией жизни», ибо «мораль мужчины, чувствующего себя выше женщины», — для Арагона мораль фашистская.
Едва ли кто-либо раньше так резко сталкивал в поэзии эти понятия — любовь и фашизм — или столь настойчиво утверждал «умение любить» (savoir aimer) критерием новой нравственности, новой общественной справедливости. Нежность страсти у него — «это понимание другого».
Интенсивностью личного присутствия поэта продиктована лексическая экспрессия и грамматическая приближенность к читателю всего, о чем рассказывает поэт. Вместо présent intemporel, привычного у Сен-Жон Перса, у Арагона сменяют друг друга три основных времени, напоминающих об определенной последовательности и взаимозависимости эпох. Настоящее всегда «максимально настоящее», своего рода present continuous, происходящее сейчас, в данный миг, а потому больно ранящее и не подвластное еще спокойному анализу. Для прошедшего есть в основном только форма passé composé; оно близко к настоящему, даже если отделено десятилетиями (даже в поэме «Одержимый Эльзой», воскрешающей времена Реконкисты, passé simple не столь часто).
События, навсегда врезавшиеся в память, сохраняют форму настоящего времени, которое и в этом случае не имеет оттенков présent intemporel:
J’entends j’entends le monde est là Il passe des gens sur la route Plus que mon coeur je les écoute Le monde est mal fait mon coeur est las.
«Poètes»
Я слышу, слышу мир вокруг —
Звучат вокруг шаги людей,
Усталый слышу их ясней,
Чем сердца собственного стук.
Перевод Г. Плисецкого
Очень активно у Арагона будущее время; интересно, что роль его от середины 50-х годов к нашим дням даже усиливается. Вопреки нарастающей тревоге, множащимся сомнениям все отчетливее мысль о том, что будет «после нас», все острее чувство ответственности.
Старики размышляют о главном о том чему еще стоит отдать свои силы которых так мало осталось
Будет день когда в радостном небе над вами зажгутся победы огни
Не забудьте тогда что и мы это счастье познали когда-то
Не забудьте что тех кто с Акрополя сбросил позорное знамя схватили солдаты
Чтобы в братской могиле истории сгнили они.
«Поэты». Перевод М. Ваксмахера
Едва ли кто из современных поэтов с такой беспощадной трезвостью видит несовершенство мира, с такой мучительной болью отстраняет иллюзию, будто очень «скоро наступит пора всеобщего счастья» («Поэты»). Но именно после того, как высказана вся тяжелая правда, поразительно убежденно (и убеждающе) звучит клятва причастности к трагедиям и надеждам человечества, клятва быть на поле идеологического сражения до последнего дыхания.
Но борьба ни на миг затихать не должна и пораженье на
пользу герою
Верь в победу и знай что ты нужен другим и доверье читай
в их глазах
В этой опере надо уметь свою партию честно исполнить и
даже когда
Замолкает певец надо верить что хор подхватит его музыкальную
фразу
Лишь бы только певец продержался до самой
последней секунды до ноты последней и сразу
Грянет хор
И тогда пусть певец и молчит не беда
Люди грядущего угли раздуйте
То что я вижу сегодня вы завтра поведайте миру и граду.
«Поэты». Перевод М. Ваксмахера
Сознанием этого долга — передать эстафету борьбы и добра грядущим поколениям — и порождена в произведениях последних лет тема призвания поэта. Развернута она с эпической масштабностью. Образ художника, творца — в центре романов «Страстная неделя» (1959) и «Гибель всерьез» (1965), поэм «Одержимый Эльзой» и «Поэты». Лирический герой здесь в той или иной мере — поэт, видящий мир как все и одновременно не так, как все. Это сознание, стоящее на пороге творчества.
Поэтическое осмысление долга поэта — образное, запечатленное стихом — процесс закономерный для каждого крупного мастера слова. Социалистическая поэзия, пожалуй, особенно щедра на поэтические манифесты. Первые лозунги ее: «хочу, чтоб к штыку приравняли перо» (Маяковский), надо «взорваться гранатой» (Броневский), свистом «вонзать молнии в стены домов» (Н. Хикмет).
Так определена была дистанция между рождавшейся революционной поэзией XX в. и многими прежними поэтическими школами: отныне ее цель — действие, ее слово — активный преобразователь мира.
Единое для многих поэтов стремление участвовать своим словом в справедливом переустройстве общества поэтически ощущалось каждым по законам личного художественного видения мира. Бехеру процесс творчества часто представлялся строительством («Я строю стихи. Эти фразы — опоры. Над ними, как купол, я мысль подниму»), аналогом того вдохновенного созидательного труда, которому отдают свою энергию рабочие руки. Для Броневского творчество — трудное искусство «обучать маршировке стихотворные лады», «бить в сердце, как в барабан», «зажигать строку, как бикфордов шнур». Даже в последние годы, когда поэзия Броневского настроилась на философски лирическую задумчивость, свою песню он по-прежнему сравнивает с «камнем», что бросали «с баррикады на баррикаду». Незвал, напротив, редко пользуется «боевыми» метафорами. Поэзию он чаще видит щедрой, доброй и праздничной:
Стихи мои весело ешьте с утра
С тарелок с моравским узором.
Перевод К. Симонова
Неруде слышится Песня
Того, что было до меня и перед тем,
Как стали мы такими, как сегодня...
Перевод С. Кирсанова
Ю. Тувим чувствует себя «химиком в облике гадалки», что, «обнажая корни слова», спешит
Сгибать, тесать четыре грани,
Найти и добиваться пятой,
Чтоб в ней, до срока утаенной,
(Из тысяч ведомой немногим!)
Запела сила смыслом строгим.
Перевод Д. Самойлова
В «Поэтах» Арагон попытался собрать воедино наиболее трудные, не окончательно решенные пока эстетические проблемы. Причем противоречивость их он сознательно, как сам пишет, заострил, довел до крайнего выражения противоборствующие тенденции.
Поэму «Поэты» можно назвать и драмой в стихах (если принять за основу диалогические части — спор Богов о свободе, спор молодых поэтов о смысле поэзии), и эпической картиной (повествование о судьбах поэтов, чьим преемником мыслит себя Арагон), и лирической исповедью, поскольку весьма значительна роль авторских монологов («Пролог», «Автор повышает голос», «Речь от первого лица», «Эльза входит в поэму»).
Сочетание этих разноплановых стилевых потоков не всегда достигает гармонии: вместе с художественной иллюзией (ее разрушение — один из принципов повествования) временами разрушается поэтичность, и тогда текст поэмы неоправданно прозаичен.
Наибольшую художественную законченность имеет «Речь от первого лица», откровенный разговор автора о себе и поэтах, олицетворяющих чудо творчества.
Если Бехер, выбрав особенно близкие, волнующие его лица-судьбы, как бы «изваял памятники», завершенные по очертаниям, то Арагон предпочитает блики, передает мгновенные впечатления от поэзии Бодлера или Верлена, Маяковского или Незвала; он хочет принять их мироощущение, увидеть на миг окружающее их глазами.
Арагоновский Париж может по-бодлеровски румянить щеки, состязаясь с уличной женщиной; ночь позволяет снять с себя длинные черные перчатки, и бесстыдно потягивается Сена. В главе, посвященной Незвалу, слышен голос самого Незвала: то «крик камня под пилой, то гул домкрата, поднимающего камни рифм», и песня здесь пронзительна, «как сверчок, разит, как рапира фехтовальщика». И хотя во всем этом отрывке только раз появляется слово le cri (крик), он весь «кричит» созвучными ему словами: le cric (домкрат), le criquet (саранча), l’escrime (фехтование). Начало главы «Проза о Незвале» тяжеловато-прозаично по ритму, но богато образами, сложными двойными метафорами (te voilà blanc comme un alexandrin sans rimes — «Ты бледен, как александрийский стих без рифмы»), как часто бывало у Незвала. К финалу «Проза о Незвале» как будто переходит на ритмический регистр «Моста Мирабо» Аполлинера, у которого учились и Арагон и Незвал.
Под мостом Мирабо тихо Сена течет И уносит нашу любовь.
Я должен помнить: печаль пройдет И снова радость придет.
Перевод М. Кудинова
Арагон продолжает Аполлинера, говоря о бессмертии поэзии:
Contre le chant majeur la balle que peut-elle?
Sauf contre le chanteur que peuvent les fusils
La terre ne reprend que cette chair mortelle Mais non la poésie.
Песню не может штык проколоть,
Только поэтов пронзают штыки.
Земля заберет лишь смертную плоть,
Но не стихи.
Перевод Е. Гулыги
Утверждая практическую цель поэзии, Арагон выбирает метафоры, близкие Маяковскому:
Я — тот, кто приводит в порядок для людей их огромный дом, Кто косит, корчует, мостит мостовые, пропалывает страну из края в край.
Автор «Поэтов» охотно отдается звуковой игре, почти не скрывая ее внутренней полемичности. Мастерски запечатлен, например, пейзаж Милана, на который вдруг обрушился дождь. Музыкальное пение дождя оркестровано нескончаемым рядом сочетаний pl, имитирующих «плеск капель»: il pleut — идет дождь, plie — сложенный, pli — складка, pluie — дождь, plaie — рана, plaquer — бросать, plomb — пуля, implaquable — беспощадный, plagale — плагальный, plaisir — удовольствие, plaçe — место, plus — больше, pleurs - слезы, plat - плоский, plâtre - гипс, plume — перо.
Кажется, автор собрал едва ли не все имеющиеся во французском языке слова, несущие это сочетание звуков, и еще добавил к ним близкие на слух: épaules — плечи, perles — жемчужины, petrel — буревестник, petrole — нефть, palais — дворец, perpetuel — постоянный, parallèle — параллельный, salpêtre — селитра, pâle — бледный.
Звуки живут здесь особой жизнью: страдают, испытывают одиночество, стыдясь своей наготы (comme un х en chair), покорно отправляются на кладбище (cimetière des consonnes tues) или, наоборот, молча бунтуют, подобно французскому так называемому немому «е», врывающемуся во все слова. К голосу Прометея автор прилагает эпитет «плотский»: «настолько плотский, что кажется слышно, как он кровоточит».
В особом внимании Арагона к теме призвания поэта надо видеть, пожалуй, все ту же предельную активность авторской позиции: приняв на себя высокую миссию «петь, чтоб отступила тень», Арагон хочет не просто заявить об этом, но и рассмотреть все аспекты поэтического ремесла, обобщить опыт своих предшественников, поставить даже некоторые, так сказать, «теоретические» вопросы специфики поэтического слова. Задача рискованная, но страстность личной интонации уберегла поэмы от превращения в некий эстетический трактат. Фигура поэта появляется перед читателем в окружении иных людей — разных поколений, разных профессий; заботы поэта неотделимы от забот его современников.
«Поэты» Арагона не случайно сопоставлялись критиками с «Хроникой» Сен-Жон Перса. Сам Арагон высоко ценил мастерство своего соотечественника, считая его тончайшим знатоком человеческой души. «Хроника» близка «Поэтам» внутренней уравновешенностью, философской углубленностью, жаждой гуманной справедливости, широтой суждений о человеке всех веков и континентов. И все-таки там, где у Сен-Жон Перса спокойствие созерцателя, у Арагона — уверенность разума, преобразующего вселенную; что для Сен-Жон Перса — круговорот бытия, для Арагона — сложное движение к более совершенным формам человеческого общества. Поэтому поэмы Арагона открыли мир неизмеримо более многогранный, красочный, противоречивый, чем близкие им по архитектонике поэмы Сен-Жон Перса. Андре Стиль, посвятивший литературную страницу «Юманите» сравнительному анализу «Хроники» и «Поэтов», справедливо отметил острую актуальность лучших стихов Арагона последних лет, их глубокую философичность — не вневременную, а трагедийно-оптимистическую, в полном значении слова — эпохальную.
Можно спорить о том, что полнее выразило свою эпоху: подпольная лирика Арагона — пафос Сопротивления или его поэмы последних лет — тревоги сегодняшнего дня. Можно придерживаться разных суждений относительно того, что ближе творческой индивидуальности Арагона — цельное, сравнительно лаконичное лирическое стихотворение или объемное философское повествование в стихах. Неоспоримо, однако, главное: лирический эпос, созданный Арагоном, обозначил новый этап не только в его собственном творчестве, но и в развитии французской поэзии вообще. Поэзия социалистического реализма разнообразна и совсем не ограничивается, как известно, эпическими жанрами. И все-таки именно в ее русле эпические решения, предполагающие широту исторической перспективы, способны получить самое завершенное художественное воплощение. В творчестве Арагона эта вероятность реализована блестяще. Им предложен особый путь поэтического эпоса, когда взгляд художника сосредоточен не на единстве «человек и природа, вселенная» (как у Сен-Жон Перса), не на единстве «человек и Высшая сила» (как у поэтов католического направления, например Пьера Эмманюэля или Жан-Клода Ренара), а на единстве человека с другими людьми. Если Сен-Жон Перс создал величественный эпос, который естественнее всего назвать космическим, если Ж.-К. Ренар стремился создать эпос теологический, то под пером Арагона родился эпос социума, поэмы-размышления о законах развития общества, о взаимоотношении человека с себе подобными. Эпос, как жанровая форма, предполагает взаимозависимость между «я» и «мы»; последовательное противопоставление личности миру и другим людям неизбежно разрушит природу эпоса. И Сен-Жон Перс, и Жан-Клод Ренар просто и убежденно произносят весомое «мы», не подвергая сомнению возможность и необходимость союза человека со своими собратьями. Однако, приняв такой союз как данность, они сразу переносят свое внимание на отношение этого «я/мы» с иными силами — природными, космическими или надмирным Духом. Арагон же поглощен именно исследованием «я/мы», его внутренних отношений, т. е. как раз законами общественного организма. Его, например, редко интересовали ставшие к нашим дням весьма острыми экологические проблемы, в его поэмах почти нет, так сказать, в самостоятельном значении ни природы, ни города, ни космоса.
Сопоставление лирического эпоса Арагона с жанровыми решениями, предложенными другими поэтами — его современниками, дает представление об активности эпического жанра во французской поэзии и многообразии его форм.
Л-ра: Балашова Т. В. Французская поэзия ХХ века. – Москва, 1982. – С. 255-269.
Произведения
Критика