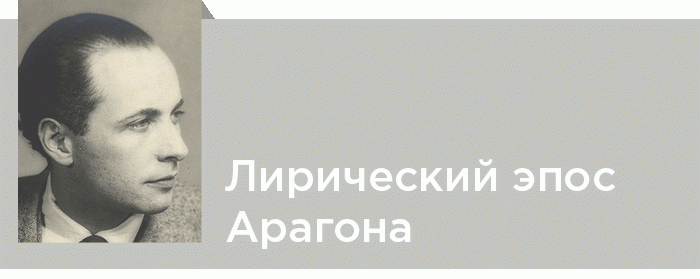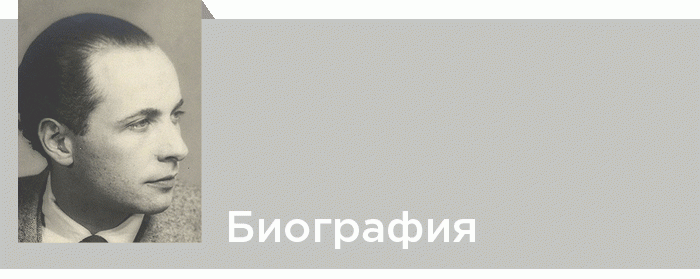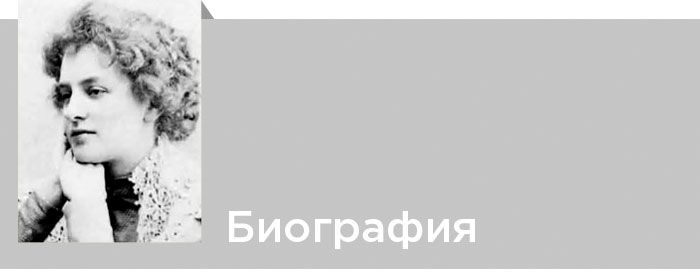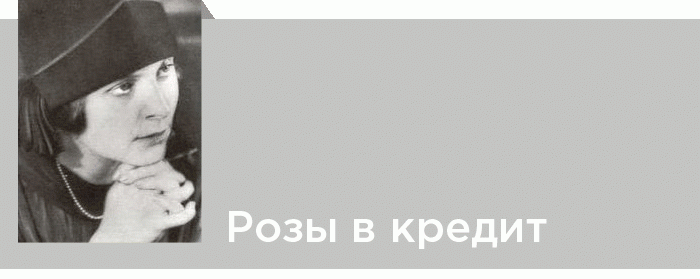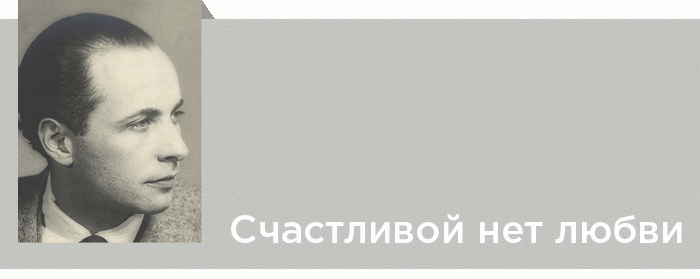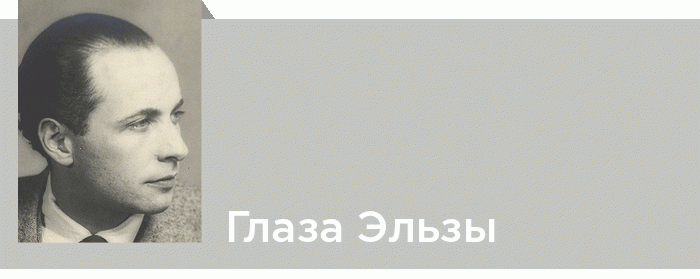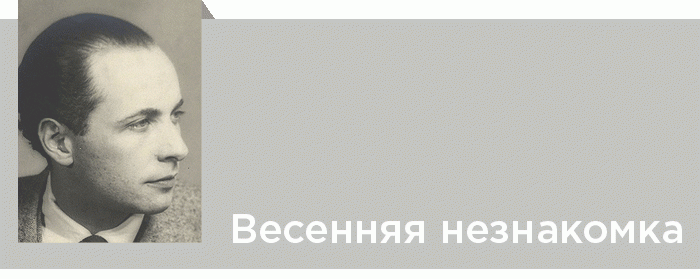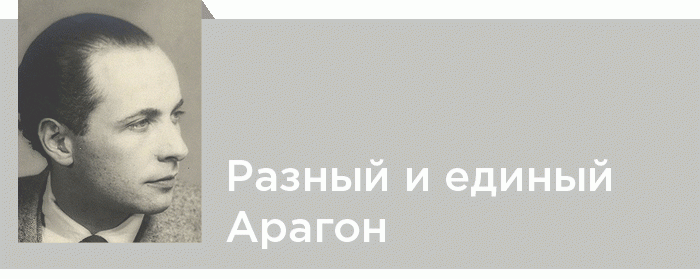Театральный эксперимент Л. Арагона
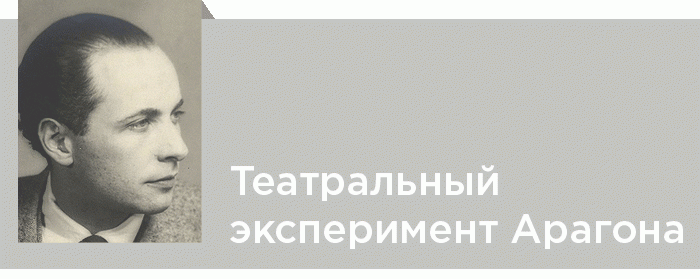
Е. Д. Гальцова
Наряду со знаменитыми стихами и прозой Луи Арагон в 20-е годы писал и драмы. Это две пьесы — «Шкаф с зеркалом однажды прекрасным вечером» (1922) и «У подножья стены» (1923), — которые впоследствии были включены в сборник рассказов «Либертинаж» (1924), едва начатая пьеса «Третий Фауст» (вероятно, 1922-1924) и пьеса «Сокровища иезуитов» (1929), написанная совместно с А. Бретоном. Их общий объем — всего чуть более 150 страниц, и они словно затерялись на фоне необозримого романного и поэтического творчества Арагона. Оттого столь естественной кажется точка зрения на театр Арагона как на явление чисто литературное, как на «пьесы для чтения».
Однако даже немногочисленные свидетельства 20-х годов заставляют отнестись к пьесам Арагона как к самоценному театральному явлению. Показательно, что именно пьесу «Шкаф...» выбирает для своего дебюта в
Причастность театральному делу было довольно обычным явлением в авангардистской среде, и Арагон здесь не исключение: он сам участвует в качестве актера в театральных представлениях пьес Т. Тцара, выступая в роли Кри-Кри в пьесе «I Небесная Авантюра господина Антипирина» (1920), в роли Антифилософа в пьесе «II Небесная Авантюра господина Антипирина» (1921), в роли Глаза в «Газовом сердце» (1921). В 1922-1923 гг. он занимает административный пост в Театре на Елисейских полях. Теоретические рассуждения Арагона о театре в сравнении с кино появляются в журнале «Фильм» еще в 1918-1919 гг. Здесь Арагон дает явное предпочтение кино, которое, по его мнению, более непосредственно, нежели театр: любой вестерн психологичнее театральной пьесы, потому что эту «психологию» «улавливаешь без преамбул, рассуждений и гримас». «Больше всего пленяет зрителей двойное качество действия, развертывающегося на экране: его способность быть непрерывным, без пауз, без дыр и быть логически детерминированным у существ совсем простых, прямых и тем самым поистине кинематографичных». То же свойство — отсутствие условности — привлекает Арагона и в кинодекорациях: «...люди всех стран больше восхитятся драмой, разворачивающейся перед стеной, лирически завешенной афишами, чем знаменитыми трагедиями (...) с самыми роскошными декорациями». Парадоксальным образом Арагон наряду с утверждаемым им кинематографическим принципом непосредственности будет культивировать в своих пьесах и отрицаемый им же принцип условности, что проявляется в его театральных произведениях даже с некоторой нарочитостью. И это не случайно, ибо истоки киноэстетики Арагон видит в творчестве драматурга А. Жарри. К театральному призванию Арагона подводят и его статьи, в которых автор восхваляет Г. Аполлинера: «Синтетическая критика» (1918-1919), «Надгробная речь» (1919) и «24 июня 1917» (1917) — статья о спектакле «Груди Тиресия», где Арагон делится «воспоминаниями об уникальной радости», праздничности этого театра. Кстати, и само слово «сюрреалистический» ведет свое происхождение из предисловия Аполлинера именно к этой его театральной пьесе. Еще один кумир сюрреалистов — автор «Плей-боя Западного мира» Д. М. Синг — также получает отклик Арагона: в своей рецензии на эту пьесу Арагон отмечает два основополагающих ее начала: «произнесенные слова всегда ангажируют нас на жизнь» и «самый ничтожный факт можно объяснить абсурдом». И наконец, в 1922-1923 гг. Арагон сам начинает писать пьесы.
Время создания театральных произведений Арагона приходится на переходный период в жизни той группы писателей, которые объединились вокруг А. Бретона. После «процесса Барреса» в марте
Пьеса «Шкаф с зеркалом однажды прекрасным вечером» состоит из пролога и собственно действия. В прологе появляются несколько пар персонажей: обнаженная женщина в шляпе с цветами и детской колыбелькой за плечами и двадцатилетний солдат; Президент с орденом Почетного Легиона и чернокожий Генерал в бело-голубой форме с жемчужным ожерельем на шее и окариной в руках; две Сиамские Сестры, желающие выйти замуж каждая в отдельности; Человек на трехколесном велосипеде (единственный «непарный» персонаж); Теодор Франкель (близкий друг Бретона и Арагона, один из основателей школы сюрреалистов) с феей, одетой по последней моде, но в средневековом головном уборе и с железным красным флагом в руке. Персонажи обмениваются репликами, и в конце концов Теодор Франкель распоряжается начать спектакль. Герои действия — супруги Жюль и Леонора: Жюль приходит домой с молотком в кармане, и Леонора одержима идеей, что он убьет ее из ревности, поэтому не разрешает открывать шкаф в их комнате с мещанской обстановкой, хотя Жюль не имеет ни малейшего желания ни убивать жену, ни открывать шкаф. Однако после визита к ним соседки мадам Леон, искавшей своего мужа, он устраивает сцену ревности, разбивает зеркало; Леонора убегает, преследуемая супругом. Затем летучие мыши садятся на занавес, и на сцене появляется взлохмаченный Жюль с молотком в руке: он легко открывает шкаф, из него выходят, взявшись за руки, персонажи пролога и танцуют жигу. Пьеса заканчивается бессмысленной лирической песенкой Президента.
Описать пьесу «У подножья стены» значительно сложнее. Здесь необходимо условно выделить несколько уровней: собственно «сюжет»; обрамляющие и вставные элементы; парасюжет, связанный с темой «театр в театре», а также метасюжет, связанный с метаперсонажем Спикером. «Сюжет» — это история любовного треугольника: Пьер любит Олимпию, но она его отвергает, и любим ее служанкой Мелани, которая для доказательства своей любви принимает яд. В конце пьесы появляется призрак Мелани в черном одеянии с золотыми звездами, герой сбрасывает по-прежнему любящую его Мелани с ледяной горы, чтобы остаться одному. К обрамляющим и вставным элементам относятся: пролог (один дровосек хочет сообщить шести своим сотоварищам новость, но они его все время перебивают), диалог в 1 акте (перед занавесом) Человека и Электрической Дуги, где Человек на любой вопрос отвечает словом «бретели», которые он должен рекламировать, и диалог во II акте (перед занавесом) двух людей, ищущих булавку для галстука. Сюжет «театра в театре» начинается с открытия первого акта — Спикер дает знак Оркестру начинать и выводит на сцену прекрасную брюнетку, чтобы представить ее: «Мадам Тозини, в роли Олимпии, молодая кокетка». В этой пьесе «играется» и антракт: на сцену выходят актеры, исполняющие роли Мелани, Олимпии, Трапеза (хозяин гостиницы, в которой развертывается действие «сюжета») и Пьера, — это мадемуазель Омюз, мадам Тозини, месье Тонтен и месье Живр. Они ведут между собой непринужденную беседу, которая постепенно превращается в театр абсурда: мадам Тозини вынимает из своей сумочки трехлетнего сына микроскопического размера, рассматривает его в лупу и начинает размышлять о том, что же надо сделать, чтобы он хоть немного стал побольше. В конце концов месье Тонтен советует ей выбросить ребенка в помойку; диалог же мадемуазель Омюз с месье Живром почти дословно повторяется в знаменитом «Уроке» Ионеско. В пьесе фигурируют и другие персонажи «театра в театре»: осветитель, три машиниста сцены — Леду, Котоннад, Деманс, — функции которых напоминают функции лацци. Наконец, метауровень спектакля представлен персонажем Спикером, распорядителем спектакля (аналогично Теодору Франкелю из предыдущей пьесы), — он является одновременно и носителем атмосферы сна, что выражается в его речах в духе сюрреалистического автоматизма, а в конце пьесы Спикер неожиданно оказывается обычным двойником Пьера.
«Третий Фауст» представляет собой начало оперного либретто в стиле рассмотренных пьес. Начало пьесы, как обычно, — пролог: в темноте слышны два голоса персонажей Ли Б (очевидно, авторов — А. Бретона и Л. Арагона, ибо Арагон задумал написать эту драму- либретто по заказу композитора Джоржа Антёйя вместе с Бретоном, но из этого ничего не вышло, потому что Бретон ненавидел музыку, и в частности оперу), которые обсуждают, что же было в начале мироздания. Действие начинается перед заброшенным домом на берегу моря, сирены и домовые в цепях обсуждают, что за человек лежит в доме. Появляется молодая девушка, она проходит в дом к заколдованному принцу и обнаруживает в шкафу под видом зеркала замороженного в ледяной глыбе Фауста, который постепенно начинает светиться и оживать. Он влюбляется в Мариетту, называет ее царицей Спарты, на что та отвечает: «Я вас не понимаю, месье», — на этом опера обрывается.
Попытка написать оперу — не случайный факт в творчестве Арагона. Его тяготение к музыке проявляется и в чисто драматических пьесах, что формально выражено в обязательном наличии оркестра. Оркестровой кодой заканчивается «Шкаф...», а пьеса «У подножья стены» открывается диалогом Спикера с Оркестром, который начинает играть из «Тангейзера» Вагнера, в то время как Спикеру хочется более сладостной музыки; аналогичный спор возникает по поводу «Сказок Гофмана» Оффенбаха, и в дальнейшем оркестр будет как бы равноправным героем пьесы, вступающим в спор или подтверждающим действие либо отрывками из классики, либо шумами, либо популярными песенками типа «J’ai du bon tabac...».
Заметим попутно, что музыкальные вкусы Арагона были в то время очень разнообразны (что отличало его от друзей — дадаистов и сюрреалистов): из анкет, опубликованных в «Литературе», видно, что Арагон увлекался не только современными ему композиторами — К. Дебюсси, Э. Сати, И. Стравинским, — но и классикой — Бахом, Бетховеном, Вагнером, а в качестве любимого композитора он называет в (
Первое, что объединяет все три пьесы Арагона, — это наличие в них стандартной исходной ситуации, некоего устойчивого и оттого понятного для зрителя ядра — знакомой истории. Как говорит персонаж А в прологе к «Третьему Фаусту», «сначала был Миф». В данном случае миф можно определить чисто функционально: во-первых, он служит точкой отсчета, нулевой координатой, от которой будет идти развитие, продолжение действия; во-вторых, миф как знакомая история гарантирует понимание спектакля зрителем, устанавливает коммуникативную связь между публикой и залом, и связь эта тем важнее, чем в дальнейшем развитии действия «знакомая история» будет как можно более переиначена, изменена до неузнаваемости. Устойчивым элементом «Третьего Фауста» является миф, в пьесах «Шкаф...» и «У подножья стены» мифом с неменьшей очевидностью оказывается стандартный «бульварный сюжет». Когда Арагона интерпретируют как «второго Шекспира» или «второго Мюссе», когда в его пьесах 10 видят развитие темы дендизма, то как раз анализируют это коммуникативное ядро. Однако пародирование исходной ситуации (назовем ее условно мифом) отнюдь не исчерпывает сущности пьес Арагона, а лишь частично объясняет то, что относится к «сюжету».
Пространственная организация пьес подчинена основополагающему принципу «театра в театре». Сценическое пространство делится занавесом на сцену и пространство «перед занавесом». Действие «сюжета» происходит на сцене, где расположены соответствующие «стандарту» традиционные декорации (например, натуралистическая мещанская обстановка, нарочито романтический берег моря, ледяная гора), при этом чередование явлений на сцене и перед занавесом характеризуется регулярностью и симметричностью. Сами названия пьес из сборника «Либертинаж» «намекают» на пространственное их построение: «шкаф» придает пьесе структурную замкнутость, главным здесь является обыгрывание отношения «открытости-закрытости»; структура второй пьесы, напротив, отличается незамкнутостью, ее можно сравнить с последовательным чередованием слайдов.
Систему персонажей можно также описать в виде четкой системы: персонажи «сюжета» («реальные» — Леонора, Жюль, Пьер, Мелани, Мариетта, Фауст и др. — и «фантастические» — феи, ручная тележка, домовые, сирены и др.), персонажи прологов и вставных эпизодов («реальные» — лесорубы, Человек и др. и «фантастические» — Электрическая Дуга и др.), персонажи «театра в театре» (мадам Тозини, месье Живр и другие, осветитель, машинисты сцены) и персонажи, управляющие спектаклем (Теодор Франкель, А и В, Спикер). Даже из этого перечня персонажей видно, что их соединение в пьесе есть «соединение несоединимого» — реального и воображаемого. Однако сущность сюрреалистического эффекта этих пьес заключается не только в этом. Рассмотрим метаперсонажи Спикера — распорядителя спектакля. В конце пьесы он оказывается всего лишь двойником Пьера (т. е. происходит смешение уровней), точнее, не Пьера, а Фредерика. Дело в том, что у того персонажа, которого Мелани в начале пьесы назвала Пьером, изменилось имя (а было ли оно вообще?), и сам он понимает это так: «...Пьер, конечно, Пьер, вся разница между тем, что было раньше и что есть теперь, в том, что Пьер, да, он здесь, Пьер... или Жозеф, или Рене, или...». «Фредерик, ты будешь Гастоном на следующей остановке». Меняется имя — значит, меняется сущность, а сущность эта оказывается неопределенной, индифферентной, она легко заменима. Эта заменимость проявляется и чисто сюжетно: на место служанки Мелани приходит Бетси, супруги Жюль и Леонора явно параллельны чете Леон, Мариетта в «III Фаусте» заменяет Елену. Есть и просто индифферентные персонажи без имени — Человек, дровосеки, феи и др. Индифферентность может оборачиваться стандартизованностью (как в диалоге Человека и Электрической Дуги) или навязчивым повторением одних и тех же идей и реакций, которые в процессе развития действия также «стандартизируются» — таковы мания преследования Леоноры, мизантропизм Пьера — Фредерика, маниакальная любовь Мелани. Такие стандартизированные, чуждые психологизма герои напоминают персонажей гиньоля (литературный вариант которого дал Альфред Жарри еще на заре нового века) — это сходство уловили постановщики из «Групп д’Ассо», представив пролог «Шкафа...» как клоуновский парад кукол, но именно это и погубило постановку, потому что гиньоль стал очевидным, он потерял специфически арагоновское свойство неуловимости, вечного изменения. Неуловимость персонажей на уровне «театр в театре» позволяет Арагону обогнать новаторские открытия Пиранделло. Подобно Пиранделло, Арагон в пьесе «У подножья стены» выпускает на сцену актеров и постановщика (Спикера), каждый из которых живет своей жизнью. Однако если Пиранделло представляет спектакль жизни посредством реалистического существования актеров на сцене, то Арагон показывает жизнь как театр, причем сначала тоже через реалистическое существование актеров на сцене, но затем «выворачивает» это существование как абсурдное. Отталкиваясь от приема «спектакль в спектакле», Арагон там, где Пиранделло находит новые связи и новый смысл, раскрывает всю по-театральному бессмысленную систему коммуникации. Герои арагоновских пьес пребывают в каком-то бессвязном мире, но как только в нем появляется что-то истинное и надежное, оно тут же становится фантастичным, все путается, все отражается во всем, отсюда постоянный аксессуар — отражатель — в виде зеркала или ледяной глыбы (в постановке пьесы «У подножья стены» ледяная глыба тоже была представлена зеркалом). Путаница персонажей, уровней действия, смешение психологических реакций (с точки зрения времени «неправильная» сцена ревности в «Шкафу...» и др.) показывают, что вся симметричность арагоновских пьес чисто формальная, а отделение сцены от пространства перед занавесом, сцены — от зала также ненадежны. Что является двигателем этого смещения? Вероятно, то, что остается в конце пьесы «У подножья стены»: «одинокий человек, пересекающий декорации», — таковы слова Пьера — Фредерика, который к концу пьесы избавляется от всех прочих персонажей и от публики. Эта ситуация избавления возникает и в конце пьесы «Шкаф...» — исчезают Жюль и Леонора, остаются только абсурдные персонажи пролога. Пьер — Фредерик выгоняет всех других персонажей, потому что они оказываются его двойниками (и зрители тоже), они избыточны, так как отнимают у него его «смысл». Бесконечное количество двойников у Арагона воплощает именно это скольжение смысла, его непрерывное перемещение. Именно поэтому «объяснительная » постановка в духе «Групп д’Ассо», в которой режиссер, впрочем, совершенно верно подметил черты гиньоля, и не могла получиться, поскольку, 'введя в спектакль кукольный театр, постановщик как бы остановил скольжение смысла. Арагон строит свои пьесы как бесконечную лестницу, где чередуется множество планов. Подобное нарастание новых значений как раз и создает «неопределенное движение», а оно, начинаясь с устойчивой структуры (мифа, или схемы бульварной драмы, которая тоже не что иное, как миф), развивается уже совершенно самостоятельно по нелогичным «музыкальным» законам.
Какова позиция зрителя по отношению к такого рода спектаклю? Создается впечатление, что «театр в театре», несмотря на расплывчатость своих границ, все же замыкает действие на себе, и зритель смотрит спектакль «традиционно», т. е. отстраненно, отделяя себя от происходящего на сцене. Однако и в зрительской реакции мы снова сталкиваемся с несоединимой двойственностью. Об этом свидетельствуют документы современников: Жан Барон рассказывает, как во время одного из представлений пьесы «У подножья стены», в том месте, когда Пьер в четвертый раз повторил «Je parle en général», «один взбешенный зритель встал со своего сиденья, потрясающе прервал реплику актера... проревев: «Тогда садись на лошадь», — и при ужасном грохоте аплодисментов покинул зал». Таким образом, пьеса потенциально содержит в себе одновременно «четвертую сцену», т. е. «закрыта» для зрителей и вместе с тем «открыта», и зритель может сам принимать непосредственное участие в действии.
Пьесы Арагона заслуживают внимания по двум причинам. Во-первых, театральность является как бы постоянным стимулом в романах Арагона: он начинает свое творчество с «Анисе» — романа-гиньоля, как он сам его называл, а заканчивает произведением «Театр. Роман». Мировосприятие Арагона в целом также исходит из театральной эстетики, в центре которой, по его мнению, стоит фигура Актера — фигура бесконечно двойственная, ибо Актер — это всегда «я» и одновременно «другой». Этим актерским началом можно во многом объяснить стремительные скачки творческой эволюции Арагона, прозаика и поэта, его взлеты и падения.
Во-вторых, рассмотрение пьес Арагона позволяет подойти к до сих пор не решенной проблеме существования сюрреалистического театра и. Обычно пьесы Арагона либо относят к традициям дада, либо считают их переходными от дада к сюрреализму. Первое неверно, потому что знаки в пьесах Арагона вовсе не лишены означаемого, как это было характерно для театра дада, к тому же Арагон снабжает свои пьесы различимым аппаратом для коммуникации, каким является у него миф. Переходность пьес Арагона заключается скорее в том, что они так и не сохранили свою жизнеспособность как произведения для театра. Действительно, та неопределенность, барочная усложненность, которые заключены в их структуре, не могли быть восприняты ни одной из современных Арагону театральных систем.
Театральный знак у Арагона отличается тем, что его означаемое и означающее находятся в постоянном изменении, они могут также «перетекать» друг в друга (это проявляется особенно четко в движении метауровня в пьесе «У подножья стены»). Поэтому и коммуникация между стеной и залом носит двойственный характер. Арагон всегда исходит из понятной, стандартной для зрителя ситуации, используя при этом «привычных», «обыкновенных» персонажей мелодрамы, а затем бесконечно запутывает зрителя в перипетиях театральной иллюзии; зритель то принимает участие в происходящем на сцене, то резко отстранен от него, как бы отброшен «к стене». Это скольжение между обыкновенным (осмысливаемым публикой как реальное) и фантастическим, это построение пьес «на грани» и дает «сюрреалистический эффект». Причем «язык мифа и сна», признанный характерной чертой сюрреалистического театра, проявляется не тематически, не иллюстративно, но как своеобразная неопределенная структура.
Наконец, пьесы Арагона отталкиваются от общепризнанного сюрреалистами Учителя — Альфреда Жарри, чьим именем впоследствии назовут свой театр Антонен Арто, Роже Витрак и Робер Арон. Театр-гиньоль в духе Жарри привлекал даже такого «театроненавистника», каким был А. Бретон — об этом свидетельствует положительный, даже восторженный отзыв Бретона о постановке в театре «Двух Масок» пьесы Пьера Пало «Свихнувшиеся», описанной в сюрреалистическом романе «Надя». Преодолевая гиньоль Жарри, Арагон ведет поиски в совершенно ином направлении, нежели впоследствии Арто или Витрак, он создает своеобразный «неочевидный гиньоль», который можно рассматривать как одну из разновидностей сюрреалистического театра.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1992. – № 1. – С. 41-48.
Произведения
Критика