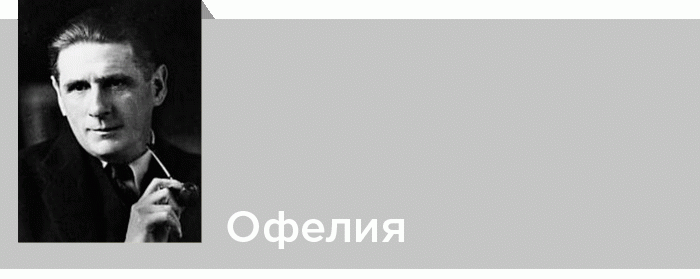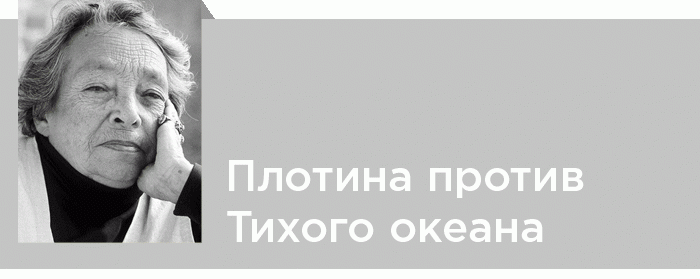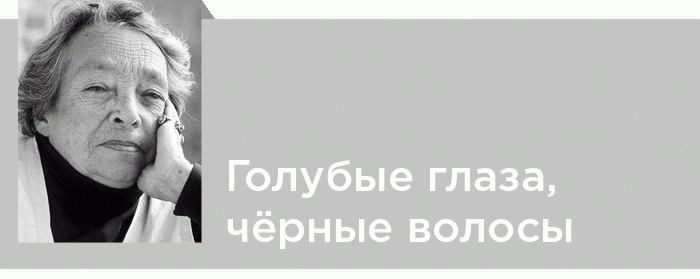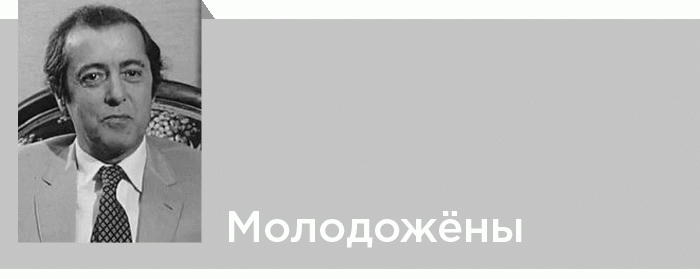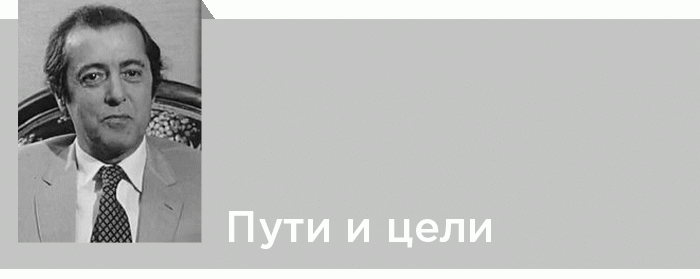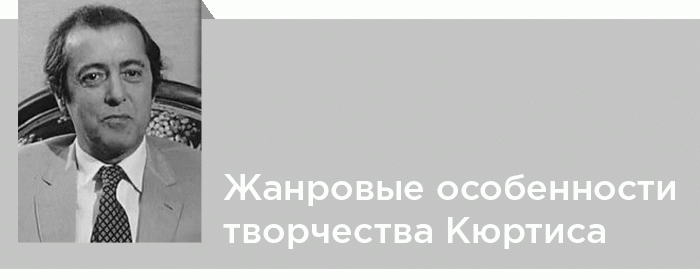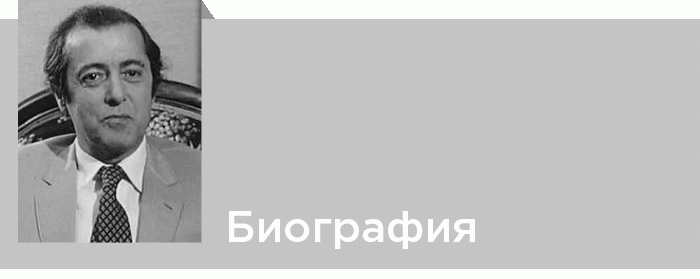Жан-Луи Кюртис. Мыслящий тростник

(Отрывок)
Часть первая
ПРОЗРЕНИЕ
1
— Значит, ты веришь в бога?
— Да, верю, — ответила мадам Сарла, глядя прямо в глаза племяннику.
— И у тебя никогда не возникало никаких сомнений?
— Ни малейших, с тех пор как выучила катехизис.
Она произнесла это твердо, с вызовом, словно утверждала свою веру, взойдя на костер.
— А ты не боишься, что тебе там, наверху, будет скучно? Бее своих кошек? Без пасьянса? Как ты обойдешься без карт?
Она пожала плечами.
— Господи, до чего ты глуп! Познавшим вечное блаженство не нужны земные радости.
— Ах, вот оно что! Ты рассчитываешь на вечное блаженство?
— А почему бы и нет? Я ничего дурного не совершила. Живу, во всяком случае стараюсь жить, как христианка…
— Ну, тетя, с совестью у тебя все в порядке!.. Прямо сердце радуется! Еще чашечку кофе?
Она согласилась, хотя и выразила опасение, что подобное излишество может дурно отозваться на ее сне.
— Но все же, — продолжал Марсиаль Англад тем же веселым тоном, — у тебя ведь есть за душой хоть какие-нибудь грешки? Не станешь же ты меня уверять…
— Как и у всех, но я регулярно исповедуюсь.
— …Не станешь же ты меня уверять, что не любишь, например, вкусно поесть? Из-за одного этого тебе придется, быть может, пройти небольшую стажировку в чистилище, прежде чем тебя пропустят в райские кущи.
— Тетя, он же вас дразнит, — сказала с улыбкой Дельфина Англад. — Уж когда он заведется, его не остановишь. Не отвечайте ему, и все тут!..
Но мадам Сарла не желала потакать богохульству.
— Быть может, мне и придется пройти, как ты выразился, стажировку в чистилище, — заявила она совершенно спокойно. — Ну и что с того?
— В конечном счете верно, это лишь остановка. И если тебя при этом поддерживает надежда на вечное блаженство, то… Кстати, тебя не пугает вечность?
Улыбка мадам Сарла была полна снисходительности.
— Пугает? Почему это я должна бояться вечности?
— Всякий раз, как я об этом думал — признаюсь, это случалось не часто и только в детстве, — я испытывал жуткий страх. Нечто, что не имеет конца!.. Длится и длится… Длится вечно!.. Лучше в это не вникать, а то голова закружится.
— Там, наверху, — произнесла мадам Сарла с обезоруживающим терпением посвященной, обращающей язычника, — времени не существует. Там нет часов. Есть только настоящее.
— Я не могу себе этого представить.
Она смерила его взглядом с головы до ног.
— А кто ты такой, чтобы сметь представлять себе вечность? Разве с твоим жалким умишком можно проникнуть в тайны религии?
— Браво! — воскликнула Дельфина. — Заставьте его замолчать!
— Гляди-ка! Она меня не щадит, — сказал Марсиаль игривым тоном.
Он был явно в прекрасном настроении.
— Ну и тетушка! Она обращается со мной так, будто мне все еще двенадцать лет.
— Так оно и есть. В известном смысле тебе все еще двенадцать… Если не меньше, — добавила она.
— Знаешь, она меня воспитывала по-спартански, — сказал Марсиаль жене. — Ничего не спускала.
— К сожалению, я вынуждена признать, что мои усилия не увенчались успехом.
— Тетя, я не так уж плох, как тебе кажется… А своего мужа ты тоже дрессировала?
— В этом не было нужды. Фонсу был сущим ангелом.
Глаза Марсиаля Англада так и заискрились смехом. Покойный муж мадам Сарла уже много лет был объектом незлобивых шуток. В семье Англадов его плохо знали, но уже одно его уменьшительное имя вызывало улыбку. Альфонс Сарла, судя по всему, был человеком совсем иного склада, чем его супруга. Однако это нимало не мешало их совершенно исключительной привязанности друг к другу, и даже после смерти мужа чувство мадам Сарла не угасло. Мадам Сарла поставила кофейную чашечку на низенький столик, деликатно вытерла губы вышитым платочком и обратилась к племяннице:
— У вас, Дельфина, всегда удивительно вкусный кофий. Вы умеете хранить наши добрые традиции. Я вас поздравляю.
— Для этого, тетя, достаточно купить хороший кофе, обязательно смесь разных сортов.
— А Фонсу, — упрямо гнул свое Марсиаль, — он тоже верил в бога?
— Если бы он не был верующим, я бы за него не вышла.
— Значит, ты думаешь, что он тебя там, наверху, ждет?
— Ему незачем меня ждать, потому что он знает, что я уже с ним. Повторяю, ты ничего не смыслишь во всем, что касается неба. Я просто дура, что дала себя втянуть в этот разговор. Вы по-прежнему покупаете продукты у Фошона? — спросила она, повернувшись к Дельфине и давая этим понять, что ее бесплодный спор с Марсиалем окончен. — Напомните мне, чтобы я тоже купила там кофий перед отъездом. У нас в Сот даже в лучших магазинах сейчас не достанешь хорошего кофия, такого, как прежде.
— Значит, ты все-таки находишь, что и в этом мире есть кое-что приятное? — спросил Марсиаль.
— Господь не возбраняет этого. Даже напротив.
Марсиаль взглянул на часы и поднялся.
— Пора! Я покидаю вас, благочестивые дамы, желаю вам приятно провести время. Меня призывают мои святые обязанности.
— Он имеет в виду регби, — объяснила Дельфина мадам Сарла.
— Я поняла. Каждый выбирает мессу себе по мерке.
— За все золото мира он не пропустит матча.
— Ты сошла с ума! Сегодня исключительная игра. Я бы дал себе отрубить палец… Франция — Ирландия! Тебе это что-нибудь говорит?
— Ровным счетом ничего.
— Моя жена приводит меня в отчаяние! — воскликнул он, взывая к мадам Сарла. — Представь, она никогда не интересовалась регби! Для южанки это бог знает что!
Он поцеловал в лоб обеих женщин и, напевая, шагнул к двери.
— Ты идешь, конечно, с Феликсом? — спросила мадам Сарла кислым тоном.
— Ну да! А с кем же еще?
— Чем же этот тип теперь занимается?
— Все тем же. А чем бы ты хотела, чтобы он занимался?
— Больших перемен в его судьбе я, собственно говоря, и не ждала, — сказала мадам Сарла таким тоном и с таким выражением лица, которые свидетельствовали, что она виртуоз по части многозначительных недомолвок.
Марсиаль рассмеялся:
— Ты несправедлива к нему. Если бы ты лучше знала Феликса, ты бы его оценила. Ну, до вечера!
Он надел в передней плащ и вышел. Он чувствовал себя совершенно счастливым. Предстоящий вожделенный матч между сборными Франции и Ирландии вдохновлял его с той самой минуты, как он проснулся. В самом деле, игра олимпийского класса! Присутствовать при событии такого значения выпадает на долю мужчины, может быть, раз в жизни. Марсиаль и его друг Феликс позаботились о билетах (лучшие места) за много недель до матча. Оба были ярыми болельщиками регби. Эта страсть зародилась в них еще в детстве. Они росли вместе, учились в одном лицее и с той поры не теряли друг друга из виду. Воскресные матчи, когда он сидел на стадионе рядом с Феликсом, таким же азартным болельщиком, как и он сам, были одной из постоянных величин в жизни Марсиаля, фактором, определяющим ее непрерывность и устойчивость.
Он сел в машину, добропорядочное «пежо» для средних классов, к которой относился почти как к члену семьи. Он ее любил. Он даже ловил себя на том, что иногда разговаривает с ней. Случалось, он ее и одергивал, когда она ни с того ни с сего начинала капризничать, или проявляла строптивость, или требовала слишком больших расходов. Непостоянная, как женщина, она была то покорной служанкой, то вздорной любовницей. Вести ее было для него истинным наслаждением. Однажды его сын, которого все считали интеллектуалом, объяснил ему, что влечение, которое мужчина испытывает к автомобилю, уже давно определено психоаналитиками как одна из форм сексуального самоутверждения: самец за рулем ощущает себя самцом в квадрате. «Поверь мне, по этой части я не нуждаюсь в самоутверждении», — молодцевато ответил Марсиаль. Однако эта мысль запала ему в голову, оставив смутный осадок тревоги: неужели наши самые невинные действия являются подозрительными симптомами чего-то? Неужели за пределами нашего самоощущения существует какая-то иная реальность, единая для всех, которая низводит нас до уровня безликих механизмов? О психоанализе Марсиаль имел лишь самое общее представление, которое получают еще на школьной скамье. А желания разобраться в этих вещах у него никогда не возникало. Он любил, чтобы все было просто, чтобы люди были простыми, а времена года — четко разграниченными, чтобы чувства выражались словами, кушанья были без особых изысков, а удовольствия не влекли за собой неприятных последствий.
Осенний день, прохладный и солнечный, — идеальная погода для регби. Марсиаль любил Париж. Он испытывал чувство удовлетворения, что живет в таком городе, а не в провинции, как большинство его однокашников. Хотя он и не порвал своих провинциальных связей, он препрекрасно обжился в столице: произношение, одежда, манеры — словом, ничто, считал он, не отличает его от парижанина из богатых кварталов. «Я сумел адаптироваться». Но день большого матча — это день полной свободы, день, когда имеешь право вновь быть тем, кем остаешься в глубине души, несмотря на всю видимость зрелости и социального преуспевания, — молодым развязным южанином. Оттуда-то вновь появлялся резкий пиренейский акцент, громкий голос, размашистые жесты и вульгарная речь, давным-давно изгнанная из повседневного обихода. Этому превращению в значительной мере содействовало присутствие Феликса. С Феликсом он снова чувствовал себя двадцатилетним, потому что когда-то им обоим было по двадцать. Профессия, семья, карьера — все это немедленно забывалось. Когда они оба женились, жены поначалу приняли в штыки эту мужскую дружбу, которая оставляла в жизни их мужей какие-то неведомые сферы, где женам не было места, где они ничего не значили. Но с годами им пришлось с этим примириться как с неизбежным и наименьшим злом. В конце концов, лучше регби и мужская дружба, чем любовницы.
Марсиаль заехал за своим другом. Хотя у Феликса и была машина, он пользовался ею в Париже только в самых крайних случаях. Вести машину в аду столичного коловращения было выше его сил. Он так и не смог к этому приноровиться, и в тех редких случаях, когда он все же садился за руль, с ним обязательно что-нибудь приключалось. То задевал кого-то и выслушивал ругань водителей, то на него составляли протокол за какое-нибудь нарушение, и в конце концов он впадал в некое безумие, подобное поэтическому трансу, и тогда ехал на красный свет или против движения. Подробные рассказы обо всех этих злоключениях очень забавляли Марсиаля. Одна из причин его привязанности к Феликсу (на эту мысль его натолкнула Дельфина) заключалась в том, что Феликс был менее умен, менее приспособлен к жизни, чем он, а главное, что он куда меньше «преуспел». Конечно, когда Дельфина ему это сказала, он возмутился, но потом, по зрелом размышлении, пришел к выводу, что она права. Втайне он презирал Феликса, что, однако, не мешало ему по всякому удобному поводу громогласно превозносить доброе сердце и прочие достоинства своего несравненного друга и в случае необходимости с пеной у рта защищать его от нападок. Одним словом, он покровительствовал Феликсу. Из них двоих он всегда главенствовал и привык, чтобы им восхищались. Между ними никогда не возникало борьбы за первенство. Короче говоря, это была весьма удобная дружба, тем более что Феликс не только не чувствовал себя уязвленным второстепенностью своей роли, а, напротив, был преисполнен благодарности, что такой выдающийся человек, как Марсиаль, ищет его общества и все эти годы сохраняет ему верность.
Что до матча, то он превзошел все их ожидания. Сборная Франции, увы, проиграла — три попытки против двух, так что дело все же обошлось без особого позора. Однако прочь пустопорожний шовинизм! Спорт в своем высоком значении прекрасен не конечной победой, а красотой борьбы. А какая на этот раз была борьба! Как красиво играли! С первых же минут двадцати тысячам зрителей стало ясно, что им довелось присутствовать на матче века. Обе команды не сразу продемонстрировали свой боевой запал и свое мастерство. Начав игру спокойно, даже небрежно, соперники на самом деле приглядывались друг к другу. Каждая команда старалась нащупать слабые места противника, проверить его бойцовые качества и излюбленные тактические приемы. Поначалу это было что-то вроде вежливого знакомства, игроки вели себя на поле более чем галантно, только что реверансов не делали. Звезды каждой команды, знаменитости, известные всему миру, — которых болельщики узнают на улице, чьи биографии досконально изучены любым мальчишкой, позволили себе всего один-два смелых прорыва, этакие маленькие, блистательные импровизации, только для того, чтобы показать, на что они окажутся способны потом, в пылу схватки, когда дело примет серьезный оборот.
Марсиаль и Феликс обменивались улыбками посвященных: они узнавали повадки, стиль, la bravura своих любимцев. Слишком тонкие знатоки, чтобы делать скоропалительные заключения, как все эти профаны, которые без всякого толка орут с самого начала игры, они сидели спокойно, пожалуй, даже равнодушно, как и положено истинным болельщикам, понимающим, что их ждет впереди и каких нервных затрат потребует от них дальнейший ход игры. Они напоминали тех завсегдатаев оперы, что никогда не высказывают своего мнения о новой певице, не услышав ее арию в первом акте и не узнав, какова она в «Casta diva», в «Dove sono», в «О patria mia, non mi vedrai mai piu», и, если их наивные соседи сразу же приходят в восторг, они соболезнующе покачивают головой и вспоминают одну из несравненных примадонн прошлых лет, какую-нибудь там Тебальди, Стик-Рандаль или Любен. Они строги и высокомерны. Именно такими были Марсиаль и Феликс в начале матча. Потом игра оживилась, регбисты стали агрессивны, этап вежливости миновал. И тут Марсиаль и Феликс постепенно утратили свою сдержанность. Захваченные перипетиями игры, по мере того как счастье улыбалось то одной, то другой команде, они криками, жестикуляцией, мимикой выражали волнение, восторг, отчаяние, мистическое слияние с действом и экстатический ужас. Они бормотали проклятия, ворковали, словно влюбленные голуби, стенали, как роженицы во время затянувшихся схваток. А Марсиаль дошел даже до того, что воззвал к душе своей покойной матушки, но при этом у него вырвалось не «мама», а «мамуля». Феликса же вдруг охватило такое горькое чувство досады, что он в остервенении, неистово вопя, настойчиво посылал одного из игроков, «раз уж он на лучшее не способен», в гостиничный номер вместе с его противником. Мол, такой пассивный и податливый мальчик должен завершить свое падение известно чем. Феликс определил это весьма недвусмысленно. Зато он все время подбадривал другого игрока, своего земляка, уроженца Ланд, с которым был шапочно знаком и имел честь и счастье поболтать несколько минут в кафе в Дексе. В этих ободряющих восклицаниях слышались одновременно нежные призывы встревоженной жены и суровые приказы товарища по оружию. Когда над сборной Франции нависла угроза попытки, Феликс, обезумев от отчаяния, натянул свой берет на нос, чтобы не быть свидетелем такого несчастья, но тут же сдвинул его набок, боясь пропустить хоть секунду в решающей фазе схватки, пусть даже это наносило урон их команде. Последняя попытка матча, как раз перед финальным свистком, — попытка, которая решала победу, — довела друзей до полуобморочного состояния, но это произошло так эффектно (стремительный рывок ирландского ветерана с мячом, прижатым к сердцу!), что они, не смогли усидеть на месте, они вскочили на ноги, как и тысячи других зрителей. И тысячеголосый вопль, огласивший стадион, был подобен мучительно сладострастному стону титана.
Все было кончено. Потом все пошло по хорошо известному незыблемому ритуалу: объятия, поздравления игроков, толпы болельщиков, наводнивших поле, свистки, скандирование, выкрики, гимны, песни землячеств, размахивание флажками. Но Марсиаль и Феликс не интересовались этими побочными, чисто фольклорными моментами спортивных соревнований. Они — люди взрослые и искушенные, а живописной стороной пусть занимаются молодежь и профаны. Их эстетические потребности были удовлетворены. Они получили необходимую дозу религиозного экстаза. Теперь они чувствовали себя полностью исчерпанными. И закурили. Затерянные в толпе расходящихся зрителей, друзья молча шли к машине — нужны были минуты сосредоточенности, чтобы переварить впечатление, обновившее и потрясшее их души. Мадам Сарла была права — истинная месса!
Как и всегда, они отправились пропустить по стаканчику в кафе на Бульварах, которое держал их земляк. Это кафе было местом встреч всех беарнцев, увлекающихся спортом. Для Феликса Бульвары между Оперой и Порт-Сен-Мартен оставались, как и были для его отца и деда, живым сердцем столицы, центром общественной жизни. На Елисейских полях он чувствовал себя не в своей тарелке. На Сен-Жермен-де-Пре он отважился пойти лишь один раз и, попав туда, оробел и растерялся, словно старая дева-англичанка, оказавшаяся среди индейцев: эти молодые пестрые орды не могли не вызывать у него недоверия. А вот на Бульварах ему было вольготно. Именно с Бульваров Марсиаль и он начали свое знакомство с Парижем, когда восемнадцатилетними юнцами впервые приехали на свой первый международный матч. Они тогда остановились в гостинице на улице Могадор, которую им рекомендовал отец Феликса; и Феликс, человек по природе несмелый, так и держался этого района, добавив к нему лишь предместье Левалуа, где жил.
Они устроились за столиком, взяли по стаканчику перно, которое вполне «заслужили» (как заявил Феликс, словно присутствие на матче было не менее тяжким испытанием, чем участие в нем), и только тогда принялись обсуждать игру. Это было подобно заклинаниям античного хора, прославляющего подвиги героев. Они сравнивали мастерство своих любимцев, доходили в оценках до тончайших нюансов, до маниакально-бессмысленных мелочей. Словарь их был предельно насыщен «техническими» терминами — единственные иностранные слова, которые удалось вызубрить Феликсу, но произносил он их на свой беарнский лад, так что, слыша его речь, казалось, будто ты живешь в первые века нашей эры, когда местные диалекты были еще близки к латыни, и только начали искажаться, входя в соприкосновение с говором готов или вандалов. Друзья перебирали и прочие знаменитые матчи, ход которых они помнили наизусть, как другие помнят стихи.
Эти воспоминания потянули за собой иные воспоминания, связанные с поездками на матчи в разные города юго-востока страны, где часто происходили встречи, и Марсиаль вновь ощутил особую атмосферу, неповторимый дух этих эскапад. Отъезд на машине ранним зимним утром, вчетвером или впятером. Отличное настроение. Все — болельщики и жизнелюбы, и это их объединяет, потому что вечером после матча им предстоит долгое сидение за аперитивами, потом они «знатно подрубят» в какой-нибудь придорожной харчевне и, наконец, закатятся в бар или дансинг, где можно «подцепить» девочек. Спорт — жратва — секс — вот неизменная программа этих парней с горячей кровью, так и брызжущих энергией, не богатых, но довольно состоятельных и без всяких там комплексов. И Феликс всегда был с ними, наименее блестящий в их компании, наименее красивый (мягко говоря), но его отсутствие создало бы некую тревожную пустоту. Он был им необходим, этот Феликс, с его резким акцентом, с его невозмутимым спокойствием, с его одновременно грубоватым и хитрым умишком, с его «рожей» (по их мнению, слово «лицо» к нему было неприменимо). Он добродушно играл в их компании роль шута, который вызывает смех, сам того не желая, любым словом, одним своим появлением, своей нелепой наивностью и над которым смеются, подчас и жестоко, потому что заранее знают, что это пройдет безнаказанно. В частности, любовные похождения Феликса служили им постоянным поводом для веселья. Все знали, что он довольно похотлив, но в то же время стеснителен с женщинами, скован, неловок. Все знали также, что он всегда искал — и по склонности, и по робости, и чтобы было попроще — добычу самую заурядную, самую легкую. В этих делах он был неразборчив, как средневековый монах, довольствовавшийся услугами грошовой потаскухи. За тридцать лет Феликс совсем не изменился, ни в этом отношении, ни в каком другом. В двадцать он уже был как бы без возраста и выглядел вполне на сорок. Теперь же его внешность более или менее соответствовала его годам, таким образом, можно сказать, что он, пожалуй, даже помолодел. Марсиаль глядел на этот лоб с глубокими залысинами, на толстые розовые щеки, на голубые глаза, сияющие чистосердечием и весельем, на чуть кривой, такой выразительный нос, глядел и был счастлив — и правда «рожа». Какое успокоительное зрелище — этакий кентавр, получеловек-полуживотное, жизнь которого так тесно сплетена с твоей собственной.
Феликс хотел заказать еще по стаканчику перно, но Марсиаль с улыбкой заметил, что Феликс, на его взгляд, в последнее время стал чрезмерно увлекаться крепкими напитками, а это может повлиять на здоровье и дурно отозваться на его мужской силе. Феликс же утверждал, что, напротив, алкоголь действует на него возбуждающе. Само собой разумеется, все было высказано в иных выражениях, куда более сочных. И хотя эти шутки были почти их ровесницами, и обмен ими являлся своего рода ритуалом, где каждое слово было заранее известно, Марсиаль разразился хохотом, и душа его преисполнилась радости и ликования, как у шаха из «Тысячи и одной ночи», когда тому рассказывали особенно пикантные истории. Следующий поворот разговора было легко предвидеть, и он произошел незамедлительно.
— Ну как, ты все еще радуешь свою мадам Астине? — спросил Марсиаль.
Эта дама вот уже пятнадцать лет была любовницей Феликса. Марсиаль никогда ее не видел (Феликс ревниво скрывал от всех объект своей страсти), но легко мог себе ее представить по описаниям. Мадам Астине была уроженкой Востока, и красота ее, видимо, тоже была восточного типа: знойная, пышная. К Феликсу она относилась, судя по рассказам, очень ласково и внимательно, угощала бараниной на вертеле, а в день рождения дарила ему рахат-лукум. До чего такая связь была в духе Феликса! Она отдавала запахом пота, чем-то одновременно гнусноватым и очень милым. И Феликс был предан этой женщине. Он посещал ее аккуратно раз в неделю. Да, что и говорить, мадам Астине была хорошей мишенью для шуток! Уже одно ее имя вызывало смех. В ее пристрастии к сладостям было что-то гаремное. И в довершение комедии мадам Астине была еще и гадалкой.
Само собой разумеется, факт существования, имя и профессия мадам Астине были поводом для нескончаемого острословия и каламбуров самого дурного вкуса. Чем грубее была шутка, тем большее она вызывала веселье. В обществе своего друга Марсиаль безудержно и бесстыдно вкушал счастье, доступное лишь детям и, быть может, святым, — хрупкое счастье глупости.
Феликс в свою очередь осведомился о похождениях Марсиаля. У них была привычка исповедоваться друг перед другом на этот счет. Оба стали изменять своим женам на второй год супружества, что нисколько не нарушало их душевного равновесия, не вызывало ни малейших угрызений совести, словно не имело никакого отношения к вопросам нравственности, словно супружеская неверность была в их глазах одной из естественных привилегий мужчины, его неотъемлемым правом, самым древним и самым почетным. Но эти неверные мужья были по-своему прекрасными мужьями, с ними жилось легко, настроение их ничем не омрачалось, и женам они предоставляли полную свободу.
На вопросы своего друга Марсиаль отвечал охотно, не упуская никаких подробностей. Да, он все еще «встречается» с той же дамой (парикмахершей) и вполне ею доволен, но уже с некоторых пор «положил глаз» на другой, куда более достойный объект — свою новую секретаршу. И он описал ее несколькими скупыми фразами. Двадцать шесть — двадцать восемь лет. Исключительно элегантна. Работать ей нет решительно никакой необходимости — из прекрасной семьи, живет в XVI округе, — но она из тех современных девчонок, которые хотят сами зарабатывать, потому что время сейчас ненадежное. Мадемуазель Ангульван… Мариель Ангульван. Марсиаль завтракает с ней теперь ежедневно, и ему кажется, что «дело на мази», что он ей «приглянулся». Феликс восхищался, что его друг все такой же обольстительный и пугается теперь со «светскими дамами». Марсиаль принял эти выражения восторга как должное. Преклонение Феликса перед ним было фундаментом их давнего товарищества. Отвозя его домой, Марсиаль вдруг подумал, что роль, которую играет Феликс в их компании, возможно, и не слишком приятная. Быть в течение всей жизни предметом насмешек, пусть даже незлобивых, со стороны своих друзей и товарищей, наверное, не так уж сладко. И не страдает ли Феликс от этой вечной атмосферы насмешливой снисходительности? Марсиаль припомнил, что раз или два подметил, как Феликс весь съеживался, лицо его застывало, а во взгляде сквозила то ли печаль, то ли страх. Это случалось, когда насмешки становились слишком беспощадными и назойливыми, в частности когда они касались какого-либо его физического недостатка, например лысины или маленького роста… «Мы бываем с ним не очень деликатны и часто рубим с плеча». Конечно, в их компании существовало ходячее мнение: «У Феликса золотое сердце, с виду он медведь медведем, но он душа-человек!» Одна из тех готовых формул, которыми пользуются бездумно, удобства ради. А как знать? Ведь Феликс, в общем-то, не до конца ясен, именно потому, что он весь как бы на поверхности, никто никогда не задается на его счет никакими вопросами. Но с другой стороны, зачем непременно искать какую-то глубину за этой личиной веселого мордастого фавна? «Не стоит усложнять себе жизнь», — подумал Марсиаль. И все же, попрощавшись с Феликсом, проводив глазами этого приземистого человека в баскском берете, который вразвалку шел по палисаднику, Марсиаль на мгновение преисполнился нежности к своему другу, и у него защемило сердце. Дойдя до двери, Феликс обернулся и помахал Марсиалю рукой. Его круглое лицо расплылось в улыбке. «Он слишком много ест и слишком много пьет, — подумал Марсиаль. — И никакой физической нагрузки».
— Привет! До скорого! — крикнул он и уехал.
Какой это был прекрасный день! Еще один. К несчастью, его не удастся приятно закончить, потому что сегодня к ним на обед был приглашен Юбер. Марсиаль хорошо относился к своему свояку, во всяком случае, он считал, что хорошо относится (свояк — это родственник, а значит…). Марсиаль был бы оскорблен, если бы ему кто-нибудь сказал, что он не любит Юбера. Вообще-то ему было на него в высшей степени наплевать, но все-таки Юбер его раздражая. И на то было множество причин. Эти два человека явно не были созданы для того, чтобы ладить друг с другом. Их не объединяло решительно ничего, кроме одного обстоятельства — они были женаты на родных сестрах. Юбер занимал довольно видный пост в какой-то министерской канцелярии по вопросам планирования. В каком министерстве и чем именно Юбер занимался, Марсиаль в точности не знал. То ли оборудованием, то ли культурой, а может быть, вообще культурным оборудованием. Юбер, правда, еще не министр, но этого не долго ждать. Короче, он был, как говорится, в «мозговом тресте» правительства. Один из тех, кто живет на тридцать лет впереди своего времени и мыслями уже весь в завтрашней Франции. Этого вполне хватало, чтобы произвести впечатление на человека, который занимается всего-навсего страхованием, пусть даже на уровне одного из директоров Компании. Юбер, видимо, был дока в своей области. Марсиаль этого не отрицал, и все же монументальный череп свояка казался ему временами пустым. Больше всего Марсиаля раздражал в Юбере его нескрываемый интерес к знакомствам с сильными мира сего, его светскость, снобистский прононс, аффектированная речь, самодовольство, которое сквозило в каждой произнесенной фразе, и тот факт, что его имя иногда стояло в списках приглашенных на большие приемы, которые печатаются в вечерних газетах. Если не считать всего этого, то Марсиаль прекрасно относился к Юберу. «Ведь он как-никак родственник».
Вернувшись домой, Марсиаль застал мадам Сарла в гостиной, в том же кресле у камина. Она вязала — она никогда не сидела без дела, даже во время своего недолгого пребывания у племянника (каждую осень она приезжала к ним погостить). Марсиаль весело поцеловал ее.
— Ну как, эта партия в футбол хорошо прошла?
— Потрясающе! Только это был не футбол, а регби.
— А разве есть разница?
Марсиаль воздел руки к небу.
— Ты не различаешь? Какой позор! В футболе мяч бьют ногой, а в регби его можно хватать и руками.
— Верно-верно. Пора бы мне это знать. Бедный Фонсу тоже обожал регби, но я все забываю.
— Есть и другие отличия. В футболе, например…
— Не беспокойся, меня это решительно не интересует. Значит, ты неплохо развлекался? — спросила она, окинув Марсиаля невозмутимым взглядом; трудно было сказать, какой именно смысл она вкладывала в это слово, но, несомненно, какой-то особый смысл был.
— Просто прекрасно.
— Что ж, тем лучше. Какое счастье, что у вас, мужчин, есть еще такие детские забавы. Хоть в это время вы не делаете ничего дурного.
— Ты называешь регби детской забавой? О несчастная!
— А что же это в таком случае?
— Пф! Ты в этом ничего не смыслишь! А где все остальные? У нас как будто сегодня гости к обеду?
— Дельфина одевается, а где дети, не знаю. Вероятно, в своих комнатах. Они, как обычно, сюда не заглядывали.
Марсиаль предпочел переменить тему:
— Ты для себя вяжешь этот роскошный лиловый свитер?
— Прежде всего это не свитер, а кофта, а во-вторых, она не лиловая, а сиреневая.
— Скажи, почему ты всегда выбираешь такие цвета: сиреневый, лиловый, серый? Чтобы быть похожей на покойную Queen Mary?
— Я ношу эти цвета потому, что они соответствуют моему возрасту и положению.
— А какое у тебя положение? — спросил он рассеянно (он искал на столе газету).
Взгляд мадам Сарла стал неподвижным.
— Вдовы, — ответила она.
— О, правда. Извини, тетя… Но послушай, ведь ты овдовела уже больше двадцати лет назад. Мне кажется, что…
— Время ничего не меняет.
— Это само собой, но я думал, что для внешних проявлений траура есть четко отмеренные сроки: шесть месяцев или там год…
— Но как бы ты хотел, чтобы я одевалась? — спросила мадам Сарла, вдруг оживившись. — Чтобы я носила мини-юбку?
Он рассмеялся.
— Не думай, пожалуйста, что я выглядела бы смешнее других, — продолжала она. — Я смело могла бы показать свои ноги.
— Тетя, помилуй, у меня и в мыслях не было…
— Мало кто в моем возрасте так хорошо сохранился.
— Что правда, то правда. Выглядишь ты великолепно. Тебе можно дать на десять-пятнадцать лет меньше.
Марсиаль нашел наконец газету и устроился на диване. Несколько минут длилось молчание, потом мадам Сарла, не отрываясь от вязания, спросила:
— Ну, а как поживает твой друг Феликс?
— Очень хорошо.
— Он все такой же дуролом? — осведомилась она своим невозмутимым тоном.
В лексиконе мадам Сарла это слово занимало особое место. Застрявшее в провинции словечко, бывшее в ходу в Великом — XVII — веке, оно обычно употреблялось и в мужском и в женском роде и имело примерно тот же смысл, что «дурак» у Мольера, но с большей гаммой оттенков. В зависимости от контекста и интонации оно могло обозначать в худшем случае — клинический идиотизм, а в лучшем — просто некоторую наивность. Между этими двумя полюсами оно охватывало весь диапазон умственной отсталости или слабости. К этому удивительно емкому слову, содержащему окончательный, неумолимый приговор, мадам Сарла частенько прибегала.
— Ну и язычок у тебя! — сказал Марсиаль. — Феликс — славный малый! И уж вовсе не дурак.
— Согласись, что блеска ему все же не хватает.
— А на что мне блестящий друг?
— Я хочу лишь обратить твое внимание на то, что ты неразборчив в выборе друзей. Тут ты начисто лишен честолюбия.
— Верно, лишен.
— Добрый малый, который только добрый малый и все, может оказаться балластом.
— Я просто поражен, тетя! Как мало в тебе милосердия!
— При чем тут милосердие?
— Ты считаешь, что надо гнать от себя всех добрых малых, если они не обладают блестящим умом. Это немило…
— Я вовсе не то сказала. Не искажай моих слов. Я сказала, что лучше иметь другом человека хорошего, достойного уважения и по возможности с головой.
— Феликс достоин уважения.
Мадам Сарла подняла глаза от вязания.
— Да? Ты так считаешь? Женатый человек, который вот уже десять или пятнадцать лет ходит к гадалке? Это, по-твоему, заслуживает уважения?
— А-а, значит, Дельфина тебе рассказала…
— Конечно. Полагаю, это не секрет?
— Вам, женщинам, никогда ничего нельзя говорить. Вы все используете как оружие против нас.
— Кроме Феликса, который, я повторяю и на этом настаиваю, просто дуролом, у тебя нет друзей.
— Что ты выдумываешь! У меня полным-полно друзей.
— Назови хоть одного, — сказала мадам Сарла инквизиторским тоном.
— Да у меня полно друзей, на работе и… В общем, полно.
— На работе не друзья, а коллеги. Назови мне хоть одного своего друга.
— Какая разница, как их зовут, все равно ты их не знаешь.
— Короче говоря, тебе некого назвать.
Марсиаль охотно продолжил бы этот спор, который его даже несколько распалил, тем более что споры с мадам Сарла — так уж издавна сложилось — велись всегда без всякого снисхождения к кому-либо или к чему-либо, до победы, причем далеко не окончательной. Но тут в гостиной появился молодой человек. Вошедший был новым и менее роскошным изданием Марсиаля. На нем был бежевый вельветовый костюм в широкий рубчик и серый свитер с высоким воротом.
— Добрый вечер, — сказал Марсиаль. — Матч был грандиозный. Жаль, что ты не пошел.
— Я глядел по телеку. Минут пять, — отозвался молодой человек.
— Всего пять? Что же ты видел?
Молодой человек неопределенно махнул рукой.
— Ты же знаешь, я и регби… Если не ошибаюсь, была какая-то свалка.
— Как грустно! — сказал Марсиаль, обращаясь к мадам Сарла. — Как грустно, что мне не удалось привить любовь к спорту хотя бы одному из членов моей семьи… Я здесь одинок… Одинок… Ты разве не обедаешь дома? — спросил он сына.
— Нет, почему же, обедаю.
— Но ты не переоделся…
— А разве в честь дяди Юбера надо переодеваться?
— Нет, но я хочу сказать… Ты мне и так нравишься… Но ты же знаешь дядю Юбера.
Не поднимая головы и не прекращая шевелить спицами, мадам Сарла кинула на внучатого племянника косой взгляд, один из тех взглядов, которые не выхватывают из пространства интересующий объект, а лишь скользят в том секторе, где он должен быть расположен.
— Он что, одет как битник? — пробормотала она.
— Нет, все нормально, только без галстука.
— Терпеть не могу одеваться! — сказал молодой человек.
— А ведь есть такие юноши, — мечтательно произнесла мадам Сарла, — которые любят надеть к обеду хороший костюм. Это те, у кого он единственный и которым пришлось работать, чтобы его купить.
Марсиаль бросил восхищенный взгляд на тетку, но от комментариев воздержался. По многим причинам ему не хотелось поднимать сейчас этот вопрос.
Мадам Сарла спрятала спицы и клубок шерсти в мешочек для рукоделья.
— Пожалуй, мне пора пойти поглядеть, как идут дела у вашей испанки. Я не слишком доверяю ее кулинарному искусству.
Она вышла из гостиной. Молодой человек уселся у камина с газетой в руках. Развернул ее и углубился в чтение.
Марсиаль тоже взялся за газету.
Произведения
Критика