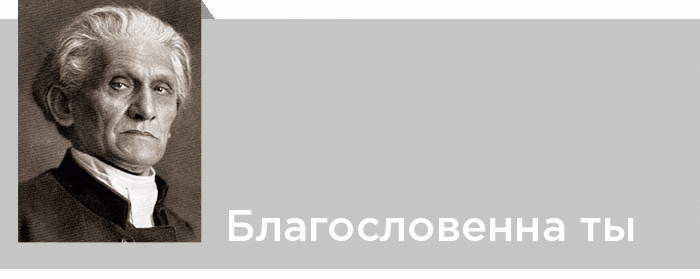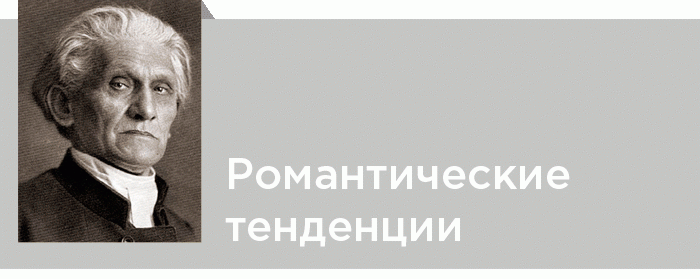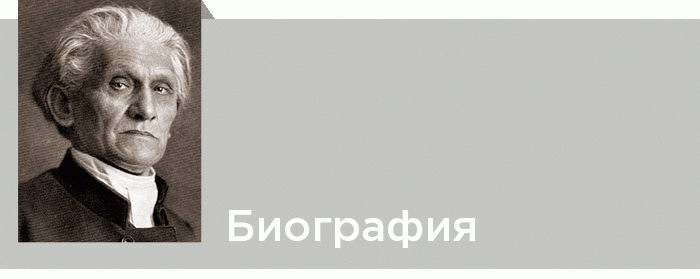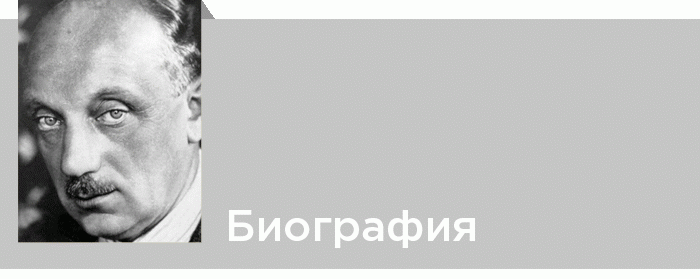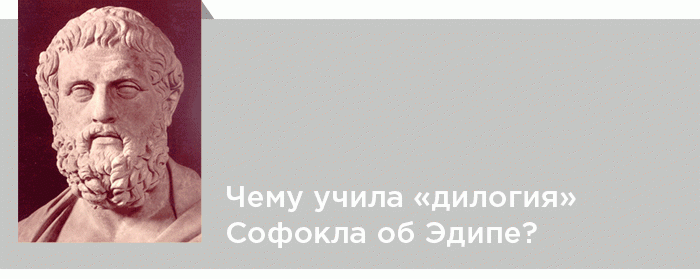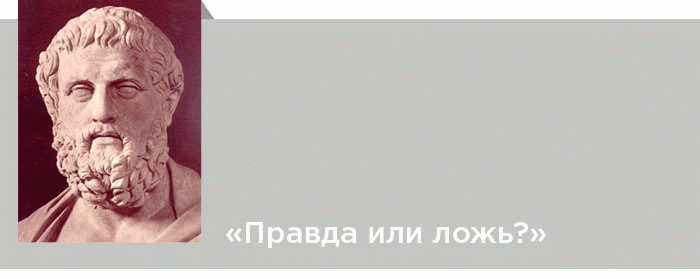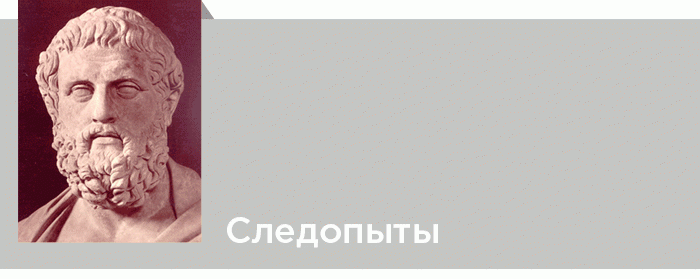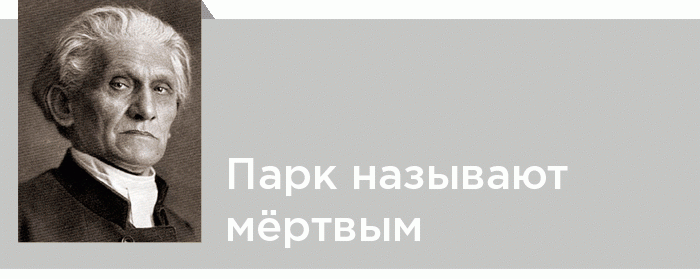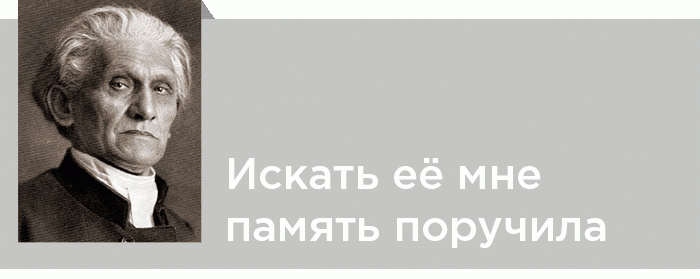Драматургические принципы Георга Кайзера
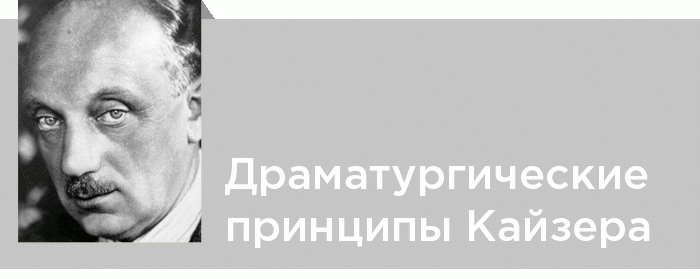
В. В. Фадеев
[…]
Кайзер написал более семидесяти драм. Некоторые из них в силу символической усложненности могут стать специальным предметом герменевтики, некоторые удивляют прозрачностью и легкостью прочтения.
Абсолютный человек, свободный от всякой прозаической конкретности, выступает целью и средством поэтического призыва экспрессионистов. Вместе с тем, у каждого из драматургов была своя, своеобразная в частностях, концепция человека. Для Эрнста Толлера человек как понятие священное не являлся антагонистом своей социально-трудовой функции. Унру рассматривал человека в драме борьбы двух его враждебных начал: доброго, естественного, материнского и жестокого, официального, отцовского. Барлах и Верфель находили в человеке дремлющее божество. Кайзер противопоказывает человеку уродующую его социальную функцию, но божественное начало подменяет категорией трансцедентального синтеза. Рабочие, представляющие косную недиференцированную массу в его трилогии «Газ» и хрестоматийный - пример результатов отчуждения человека в условиях капитализма, были для Кайзера «современным средством проникновения в человечески-бесконечное» («Поэтическое произведение во времени»). Современный человек «подвержен искушению развивать одну единственную способность», «он становится специалистом! Человек совершенен с самого начала! Не из него, а в него приходит ограниченность, которая потом выпадает ему на долю...» — пишет он в эссе «Грядущий человек» и поясняет, что человек не подлежит уничтожению, он как «каждый переходный момент несет в себе указание вечности, которое делает его бессмертным. Ибо то, что имеет цель, существует постоянно». И далее: «На чем основано наше знание о возможном человеке? Я говорю слово: поэзия!».
Таким образом, здесь ясно раскрывается тезис о противоречивой природе человека, выдвигается идея некой туманной энтелехии (то, что имеет цель) и средство ее познания (поэзия). Отличие от традиционного романтического разлада мечты и действительности состоит в том, что в романтизме он провозглашается открыто и бескомпромиссно, здесь же мы видим иллюзию диалектики, иллюзию — потому, что относительное и абсолютное в явлении («переходный момент» и «указание вечности») принадлежат совершенно раздельным и несовместимым сферам — реальной и надреальной. Действенно выражая свою противоречивую сущность, человек становится «сильнейшей формой изображения энергии». То есть искусство делается средством мироизменения благодаря тому, что оказывает «энергетическое» воздействие, показывая человеческую противоречивость. Насколько Кайзер был одержим этой идеей, говорит его отношение к мифу. Одним из самых сильных моментов античной мифологии ему кажется эпизод, описывающий состязание в игре на флейте, когда гармоничный Аполлон побеждает дисгармоничного Марса. Миф для него — универсальная форма художественного мышления. Он творится беспрерывно и представляет собой «исследование начал опридания единства, доказывает силу нашей стойкой тоски» («Миф»). В художественной практике Кайзера эти идеи нашли выражение в неизбежной амбивалентности героя, в антагонизме пары противоноставленных персонажей-идей, в композиционном членении драмы на эпизоды, знаменующие поэтапное восхождение героя к недостижимой идее абсолюта. Причем, любому персонажу отказано в постоянстве реального субъективного содержания, так как в своем несовершенстве он должен быть «энергичным», т. е. беспрерывно двигаться по направлению к «синтезу». Одно из проявлений этого движения — мотив пути или бегства. «Человек в пути! Нам не измерить, какую часть пути он уже прошел и какие расстояния перед ним простираются», пишет Кайзер, а его герой Миллиардер развивает целую теорию бегства как главного закона человеческого существования.
Амбивалентность человека-персонажа получает яркое выражение в одной из первых драм Кайзера — одноактной пьесе «Бубновый король» («Schellenkönig» 1895/6), в которой за 17 лет до появления «Нищего» Зорге, считающегося драматическим зачинателем экспрессионизма, отчетливо проявились основные черты экспрессионистской драмы: сюжетная концепция мироперемены, эффект мгновенного экстатического преображения героя (Aufbruch), поднимающего его на высоту подлинно человеческого, безудержный волюнтаризм индивида, господство монологической стихия экспрессионистического «Я».
В этой пьесе, имеющей подзаголовок «Кровавый гротеск» и написанной белым стихом, действие происходит в стилизованном миниатюрном зале королевского дворца, в центре которого — бутафорный «трончик», а пол устлан ковром зеленых тонов, символизирующим, видимо, естественную живую почву, попираемую ногами марионеточных фигур придворного круга. Симметрично расставлен костюмированный человеческий реквизит — шесть маршалов и два слуги, наблюдающие репетицию придворной церемонии. В центре — пестрые фигуры короля и церемониймейстера, показывающего элементы этикета. Король, безмолвная кукла, совершает нелепые движения, покорно подчиняясь французу-церемониймейстеру. Неожиданно карикатурная пантомима, протекающая под аккомпанемент полуфранцузской речи, прерывается крамольным смехом слуги. Происходит мгновенная катастрофа, ломающая отлаженный механизм бытия: король разражаемся отборной бранью, маршалы обнажают свои игрушечные мечи и машут ими в воздухе. А слуга дерзко и откровенно оправдывается:
«О, чудо! Государь, Вы — бог?
Страна спокойна и народ доволен — ведь короля его, как обезьяну натаскивают танцевать!
Пусть меч оралом станет, не страшно, нападение врага. Король танцует, словно обезьяна — раз-два-три».
Среди всеобщего замешательства с королем происходит вторая метаморфоза. Это уже Aufbruch. Раздается типично экспрессионистская тирада, в бурном потоке слов он уподобляет смех слуги очистительной грозе, ворвавшейся в душный искусственный мир церемоний и парадов и вдруг открывшей ему чудо братства и человеческой любви:
«Дай руку мне, в ней та же бьется горячая людская кровь!». Он сбрасывает корону и мантию, как оковы, душившие в нем человека. Далее следуют пылкие, сумбурные монологи-видения, в которых рисуется преображенный вселенским гуманизмом мир. И вслед за этим наступает медленное протрезвление. «Но хмель проходит, к свету взгляд привык». Король охладевает и с гамлетианским юмором издевается над придворными, которые стараются его образумить. Его занимает мысль о том, насколько верно, что одежды делают людей, он готов это проверить и осмотреть свое владение, переоблачившись в костюм бюргера. Но вот он слышит нарастающий ропот толпы под окнами: народ, прослышав о страшной «болезни» короля, собрался у дворца. Король чувствует в этом шуме нечто зловещее: «жужжание жадных шмелей», «шеренги мертвецов», ему мерещатся апокалипсические картины. Видение оказалось пророческим: толпа не признает в нем его самого — человека, лишенного своего эмблематического значения. Король в ужасё отшатывается от «шайки лавочников, котов, червей, клопов и комаров»; ему открылась вся Жестокость мира, он бросает ему последний вызов: готов отдать корону за «пару добрых слов»! И тут в неуловимом контрапункте вселенская гуманность переходит во вселенское ожесточение. Он бросается к слуге и требует подтверждения силы и мудрости неиспровергающего смеха. Слуга не смеется, он обнажает меч для защиты короля. С королем — третье превращение. Он становится ярым апологетом «одежд» и всей привычной марионеточной формы бытия. Его вторично возводят на трон. Ход его сбивчивых рассуждений приводит к мысли: «обманщик тот, кто в исступленье оскверняет храм». Последний вопрос к слуге: имеет ли какую-либо ценность мантия и скипетр и что это такое? Слуга отвечает: «Ничто!» Король пронзает его кинжалом со словами: «Нет, все!» Фигуры принимают прежнее положение, прерванная церемония продолжается.
Мы остановились на этой маленькой драме потому, что в ней в эмбриональном виде содержатся все те особенности, которые будут определять стиль Кайзера-экспрессиониста. В идеологическом аспекте — это порыв к анархическому бунту, полнейшая аморфность его социальной базы. Уже здесь ясно прозвучала мысль о стихийной враждебности человеческого в человеке его социальной и вообще экзистенциальной функции как следствию разложения изначального «синтеза». Несмотря на это, человек образует тесную коррелятивную связь с социальной реальностью, что было в общем не типично для экспрессионистов, и только Эрнст Толлер и Карл Штернхайм тут могут быть поставлены рядом с Кайзером. Неслучайно один из исследователей экспрессионистской драмы, считая ее главным признаком возведения человека в степень абсолюта, что раньше, по его мнению, наблюдалось только в средневековых духовных представлениях, и называя этот феномен «обезграничение» (Entgrenzung), а все последующие драматические концепции человека рассматривая с точки зрения ограничения его индивидуально-казуальными, пространственно-временными, хоциальными и иными формами конкретности, для Кайзера и Штернхайма делает в данном пункте исключение. В ранней драме выражена и субъективистская природа конфликта. Конфликт потенциально таится в каждом человеке, ибо в нем постоянно сосуществуют два враждебных начала, и нужен лишь случайный, подчас внешне недетерминированный повод (Anlass); чтобы высечь из человека активную энергию вечного конфликта. Весьма показательна здесь резкая амбивалентность человека-персонажа, чреватая возможностью беспредельного его расширения в виде смены социально-функциональных состояний («одежд»). Король, не выходя за пределы тронного зала, показывает себя в трех ипостасях: 1) безмолвная марионетка, управляемая инерцией традиционного порядка; 2) жестокий монарх-самодур; 3) человек, ощутивший свое высокое Предназначение в братстве со всеми людьми. Каждое из этих, состояний готово реализоваться в области немедленного действия и означает соответствующее этическое отношение к действительности. Эти стилевые черты в дальнейшем получат развитие и детальную разработку и так называемых экспрессионистских драмах Кайзера. Амбивалентность человека нашла выражение в парных противопоставлениях персонажа, мотив пути или прорыва через экзистенциальные этикеты человека — в таком типе композиции, который называют «Stationentechnik». Фатальный антиномизм, разрушающей изначальный «синтез», варьируется с некоторыми тематическими нюансами. Но почти в любом случае проблема едина: каждый отдельный человек ущербен в каком-либо отношении и он стремится к обладанию того, что дано другому человеку, ущербному в другом отношении.
Король Марк из пьесы «Король-рогоносец» лишен возможности любить и быть любимым, Тристан и Изольда обладают этим свойством, Марк пытается обрести искомую полноту в симбиозе своей духовности и их физической полноценности «König Hahnrei» —
Мюссе пытается спрятаться от жизни в Венеции, чтобы отдаться литературе. Санд гонится за жизнью (за Мюссе), чтобы сделать из нее литературу. Вопреки устремлениям каждого, на долю ему выпадает совершенно противоположное. Мюссе в своей тяге к искусству остается человечным и живым, Санд в погоне за жизнью — искусственной и холодной. («Die Flucht nach Venedig» —
Несколько отступают от этой схемы пьесы: «Граждане Кале» («Die Bürger von Calais» — 1912 г.), «Ад. Путь. Земля» («Hölle. Weg. Erde» — 1918 г.) и «Жилль и Жанна» («Gilles und Jeanrfe» —
Прохожий (мощным голосом). Я растворяюсь во всех — и в вас часть от меня.
Крики (после паузы). Земля звенит!
Прохожий (громко). Это бурлит ваша кровь — ведь вы и есть земля!».
Роль Жанны в пьесе «Жилль и Жанна» сведена к формальному присутствию в мире драмы, она становится простым символом. Ее чистота и величие постигаются Методом от противного, по контрасту с низостью Жилля, который в свою очередь с именем Жанны на устах проходит очищение смертью.
Особенность подобного типа драм состоит в том, что постулированный Кайзером принцип «синтеза» выражается не в тщетном тяготении к единству двух его полюсов, заключенных в коррелятивных парах персонажей, а находит здесь символическое воплощение. Бесполезно в перечисленном ряду пьес искать какую-то эволюцию идеологического содержания. После того, как герои Кайзера в драме «Ад. Путь. Земля» обрели спасительную «землю», во второй части «Газа» мир уничтожается вселенской катастрофой, а в пьесе «Рядом» («Nebeneinander» — 1923) снова воскресает в жестокой обыденности, и снова ее скромный герой терпит фиаско. Кайзер, пользуясь разнообразнейшим материалом, исследует одну и ту же тему. Он прибегает к мифологическим сюжетам, библейским сказаниям, преданиям германской старины, историческим хроникам, символам технизированной современности, чтобы во чтя великого идеального совершенства человека показать его практическое несовершенство, неизменно релятивируя реальные вещи. Всюду одна мысль. Но Кайзер, по-видимому, не мог упрекнуть себя в том, что стоит на месте. Ибо каждая его пьеса, хотя и построена на мысли, имеет конечной целью не мысль, а «энергии)». Попытки многих исследователей найти у Кайзера «Утопии» нам представляются наивными. Кайзеру вменяются в вину идиллия мелкобуржуазного уклада, социологический романтизм, вера в религиозно-моральные учреждения. Но, во-первых, ни одна из «утопий» Кайзера не предстает во плоти, а является лишь целью призыва, и, во-вторых, она служит рабочей гипотезой сюжету, чтобы придать ему прагматическую направленность, становится условным обозначением той неясной дали, стремясь к которой человек на сцене «изображает энергию», истинную цель творчества.
По характеру исполнения пьесы Кайзера также можно свести к единой схеме. Сжатая экспозиция демонстрирует подчеркнуто обыденное состояние бытия («Zuständlicne»)», выраженное шаблонной механикой будней и сугубо прозаической терминологией речи. Очень многие драмы начинаются именно унылой жизнеподобной картиной: это будни провинциального банка («С утра до полуночи»), номер отеля и праздная суета богатых дам («Ад. Путь. Земля»), рабочий день благотворительного учреждения («Коралл»), размеренный мещанский быт («Писарь Крелер», «Рядом»). Иногда экспозиция строится с помощью системы мимических механизированных движений («Бубновый король»; «Газ», «Вторая часть»). Даже в том случае, когда сюжет основан на легендарном или историческом материале, развертывание его начинается изображением пласта «Zuständliche». Это восторженное преклонение мальчиков Эллады перед телесной красотой Алкивиада («Спасенный Алкивиад»), это круг банальных разговоров короля и его приближенных о подвиге Жанны («Жилль и Жанна»). Устойчивость прозаической действительности становится объектом волюнтаристского произвола героя. Он врывается в «Zuständliche» уже сложившимся врагом миропорядка, с набором призывных формул и огромным эмоциональном зарядом (Прохожий, Сын Миллиардера, Господин в сером), если бытие неподвижно в повторении одних и тех же моментов, или встает на его пути, если оно мнимо динамично (Сократ). Другой вариант его введения в действие наблюдается в том случае, когда он сам является элементом «Zuständliche» и тогда нужен незначительный толчок («Anlass»), категория, относимая Кайзером в равной мере и к персонажу и к зрителю, — чтобы в нем произошло взрывное потрясение его тривиальной природы («Aufbruch»), возвышающее его до степени истинно человеческого, освобождающее от оков экзистенциальной оболочки (Кассир, Миллиардер, Крелер, Жилль, все персонажи пьесы «Ад. Путь. Земля»). Его функция в драме определяется одной задачей — вызвать подобную реакцию в партнерах и зрителях. Откуда берется тот эмоциональный заряд, который движет действие? — ключевой вопрос поэтики Кайзера. Это не поддается объяснению с психологической точки зрения и, следовательно, лежит вне сферы характера. Все тривиально-психологическое и характерологическое отвергалось им как момент «Zuständliche». Трудно дать сколько-нибудь убедительное психологическое обоснование мгновенному преображению Кассира, превращению пигмея в гиганта духа. То же самое относится к Крелеру, Миллиардеру, персонажам пьесы «Ад. Путь. Земля» и финальной сцены «Жилля и Жанны». Несмотря на то, что каждый «Aufbruch» имеет сюжетно-прагматическую мотивировку (искушающе-респектабельный образ богатой Дамы — «С утра до полуночи», неожиданное нарушение хода чиновничьих буден «Писарь Крелер», непонимание сына — «Коралл», «поучительное» преступление — «Ад. Путь. Земля», появление Жанны в ореоле святой — «Жилль и Жанна»), психологический процесс не только страдает крайней недостаточностью, но чаще всего вообще отбрасывается, как лишнее звено в цепи драматических преодолений героя. К драмам Кайзера уже неприменимо положение Гегеля: «...деяние коренится, в самоопределении характера и должно извлекаться из этого внутреннего источника». Поэтому развитие действия не является следствием самодвижения характера, а обуславливается внешними по отношению к нему причинами, которые не могут быть ничем иным, кроме открыто конституируемой воли автора (тем более правомерно говорить не о диалектической структуре драмы, а об антиномизме авторского сознания). Обстоятельствам в сюжетной системе отводится весьма пассивная роль, так как концепция мироперемены делает внешнюю реальность податливым объектом произвола индивида. Фрейхан считал, что герой Кайзера поставлен в фатальную зависимость от случая, и случай якобы есть проявление высших субстанциальных сил. Мы придерживаемся на этот счет прямо противоположного мнения. Случай, на наш взгляд, несет функцию сюжетно-прагматической версии мотивировки. Кайзер сам подчеркивал его ничтожность («Anlass») и видел в нем просто вспомогательное средство для пробуждения неизменной и постоянной в принципе активности героя. Кассира вырывает из мертвой реальности будней появление шикарной дамы, он строит иллюзорную гипотезу о ее причастности какому-то иному бытию, роскошному, авантюрному, преступному миру. Когда он ближе знакомится с Дамой, представшей перед ним доброй и обаятельной женщиной, бесконечно далекой от сконструированного им инфернального и притягательного образа, его первоначальный замысел нисколько не меняется. Его поведение не корректируется психологически. Он осуществляет задуманное, и, глядя из перспективы всей драмы, ничтожность повода, породившего ее, ощущается с особой силой. Колючка в ноге Сократа — не перст судьбы, а именно форма авторского вмешательства, позволяющего в буквальном смысле уязвить Сократу в его чистой духовности и привести в отношение с миром вещественным. В концепции человека у Кайзера есть знаменательное противоречие: несмотря на то, что человек выступает предметом почти культового поклонения, он в то же время объект страдательный и этой своей гранью он обязан всесилию поэта. «Ибо надо исходить не из того, на что человек способен, а из того, что из него можно сделать», — пишет Кайзер «Der gekonnte Mensch» — центральный пункт поэтического антропологизма Кайзера. Авторская «опека» героя доходит до такой степени, что он становится марионеткой в руках драматического демиурга. На марионеточный характер драмы Кайзера указывали еще Дибольд, Фризен и особенно энергично — Циглер в статье «Георг Кайзер и современная драма», которая в настоящее время нам недоступна, но мы можем судить о его главной мысли по работам Паульзена и Плессера. Во всех случаях подчеркивается полная управляемость персонажей волей автора, т. е. отсутствие внутренней мотивировки, вытекающей из области характера. У Дибольда и Циглера эта особенность вызывает явно негативное отношение, но она объясняется не капризом драматурга и не его неспособностью к психологическому письму, а совершенно сознательным замыслом. «Человек в пути». Человек — абстрактная категория гармонии и добра и путь его проходит через ряд акциденциальных форм прозаического бытия. Все конкретно-характерологическое объявляется преходящим и потому ложным. Существенна не данная конкретная форма, в которую влито человеческое содержание, а сама перемена, переход «Aufbruch».Поэтому Кайзер определяет свое произведение как «Drama-Tat», драма-деяние («Мафусаил — вечный бюргер»). Деяние, не имеющее конечной цели в мире несовершенной реальности, приобретает известную самостоятельность и призвано источать «энергию».
Король Марк в структуре драмы «Король-рогоносец» делается пружиной, приводящей в движение весь ее мир. Он ненавидит и поощряет любовь Изольды и Тристана, сводит их друг с другим, отправляет в ссылку, вновь вызывает ко двору, он морочит вассалов, ученых, каббалистов, замышляет реформу в своем владении и, вконец измучив любовников, убивает их. Есть ли в этом движении какой-то смысл? Проблема психоанализа, предлагаемая В. Худером, вряд ли внесет тут какую-нибудь ясность. В заключительной сцене Марк прежде, чем убить Изольду и Тристана, читает им пылкую проповедь, где звучат такие слова: «Поверьте же — наше знание направлено на постижение деяний!». Ущербный Марк — фигура деятельная, Тристан и Изольда, натуры цельные, но они остановятся орудием в руках Марка. Видение, преследующее старого короля: шестилетний брат на руках Изольды, укрепляет его в вере в платоническую любовь. Любовь Тристана и Изольды, любовь в собственном смысле и платоническая любовь Марка исследуются как компоненты своеобразного синтеза. Драма показывает его несостоятельность. Деяние Марка неистинно. Совершенно иной тип драмы-деяния — «Спасенный Алкивиад». Сократ здесь — фигура бездеятельно-неподвижная. Он стоит на пути движения физической реальности: задерживает отступление греков с поля сражения, мешает будничной суете торговок рыбой, неподвижно выдерживает искус ослепительной Фрины. При этом он посрамлен в своей чистой духовности. Колючка в его ноге делает то, что должно совершаться его духом. Его деяние состоит в сопротивлении ложным деяниям обыденности.
Этими примерами мы хотели показать, что движение героя является не просто выражением динамики бытия, как считал Фрейхан, но имеет определенную этическую направленность.
Следуя логике Фрейхана, идеальным сюжетом для Кайзера надо было бы признать сизифов труд, что стало бы для него единственно возможной драмой.
В литературе о Кайзере можно встретить частое употребление понятия «тип» но отношению к его героям. На наш взгляд, это совершенно неправомерно не только потому, что «тип складывается из данных психологического порядка», как верно заметил П. Марков, но и в силу того, что героям Кайзера противопоказано обобщение каких-либо социально-поведенческих моментов. Миллиардер не есть обобщенный образ миллиардеров, его сын — детей миллиардеров, а рабочий — рабочих в их типичном речевом и внешнем проявлении. Герой Кайзера, амбивалентен и психологически аморфен, он «в пути». Социально-психологическую конкретность мы встретим лишь как выражение отрицаемого обыденного состояния (жена и дочери Кассира, Лили и Эдит, король и его свита в драме о Жанне). Даже Сократ, столь зримый и конкретно-личностный у обожаемого Кайзером Платона, дается в драме «Спасенный Алкивиад» с сильным психологическим упрощением. Права драматурга поистине безграничны, он помыкает своими персонажами, превращает их в собственную противоположность, перекраивает по своему произволу историю, которая представляется ему беспорядочной грудой камней, из которых только поэту дано построить здание («Верность истории»). Все это говорит в пользу близости драмы Кайзера принципам драмы марионеток. И дело не только в отсутствии «самоопределения характера» и полной зависимости персонажа от воли автора. А. Н. Веселовский, исследуя генезис хорового начала, о театре марионеток в частности пишет: «Представлялась пантомима, а сказывалась другим. Причем голос менялся или просто читалось либретто». Дуализм мимического и словесного выражения подводит нас к прояснению проблемы о совмещении в одном лице Кайзера-рационалиста и Кайзера-патетика. Нет нужды повторять мысль о строгой, почти математической логике сюжетно-композиционной системы тем более, что она уже основательно исследована. Остановимся лишь на одном ее аспекте. Кайзер во многих случаях дает блестящие образы «Stationendrama», такой драматической композиции, при которой драма членится не на акты, а на более мелкие величины, представляющие собой единые прагматически и художественно обособленные отрезки текста. Подобный тип драмы располагает большими, нежели традиционный, возможностями выражения динамических процессов бытия в более широком, многоракурсном плане. К. Кендлер высоко ценил значение этой композиционной формы в становлении социалистической драматургии «как одну из непосредственных предформ эпическо-драматических структур». Он полагает, что в Германии она получила распространение благодаря Стриндбергу. Фризен ведет ее от духовной драмы средневековья и считает наиболее видными ее мастерами в немецкой литературе Бюхнера, Ведекинда, экспрессионистов и Брехта, но дает очень расплывчатое определение её функционального смысла — «конфликт с окружающим миром».
У Кайзера «Stationentechnik» используется для иных целей, чем, например, у Стриндберга, который множественностью картин подчеркивает неизменность мира в его жестокости и строит таким образом композиционную метафору пессимизма. Драмы Кайзера «С утра до полуночи», «Ад. Путь. Земля», «Спасенный Алкивиад» выражают гипотезу недостижимого синтеза, испытание человеком нескольких функциональных форм бытия, они, действительно, близки прототипу «Passionsdrama». Антитетичное развитие сюжета как нельзя более соответствует эстетической позиции Кайзера, и каждая картина становится изображением конкретного этапа на пути вечного человека.
Особенно наглядно представлена эта техника в драме «С утра до полуночи»: с Кассиром происходит «Aufbruch», он становится собственным антиподом и, ощущая свою духовную мощь, бросает вызов смерти «полиции бытия». И далее, намереваясь покорить мир с помощью денег, подвергает его ряду испытаний. Мы видим несколько вариантов экзистенциального оформления одного и того же человека: маленький, счетно-финансовый робот, изобретательный, преступник, дерзкий мятежник, противопоставляющий себя всему свету, глава бюргерской семьи, сильный мира сего, повелевающий сотнями людей на шестидневных скачках, прожигатель жизни, кающийся злодей и, наконец, провозвестник мировой катастрофы. Этапы «страстей» Кассира повторяются в исповедях ораторов на трибуне Армии спасения и приобретают тем самым характер универсальных ситуаций бытия в их движении и смене. Таким образом, тектоничность драмы Кайзера обусловлена внешней необходимостью формы «изображения энергии», т е. человека. С другой стороны, тяготение Кайзера к гармонии находило адекватную форму именно в композиции. В этом смысле Кайзера следует рассматривать в русле распространённой тенденции буржуазной эстетики, о которой один из отечественных философов пишет: «В современной буржуазной эстетике постоянной, почти ностальгической темой звучит тоска по утраченной гармонии, по пифагорейской «гармоник сфер, идеальной гармонии Платона или предустановленной гармонии Лейбница».
Диалоги Платона Кайзер считал высшим образцом драмы («Драма Платона»), излюбленные диалоги: «Пир», «Федор» и «Апология Сократа». Обычно Кайзера связывают с Платоном, указывая на искусство диалога. Но диалог в собственном смысле, т. е. как драматический диалог встречается у Кайзера довольно редко. У Платона за каждым словом стоит личность, для Кайзера эта категория запредельна. Нам видится глубокое сходство этих двух художников мысли в манере развертывания первоначальной идеи, тезы, которой начинается подчас с весьма незначительного предмета и в ходе дискуссии вбирает в себя огромное содержание. Каждый из участников «Пира» дает свое определение Эрота и одновременно тезу для антитезы следующего оратора. Высказывания каждого лица становятся поэтому этапом «эротического восхождения», смысл которого резюмируется Сократом. Такого рода антитетика была плодотворно усвоена Кайзером и нашла свою удачную, форму в виде «Stationendrama». Между прочим, в диалоге «Пир» выходе обсуждения устами Аристофана говорится далеко не безразличная Кайзеру мысль: «Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней». Идеализм Платона сказывается и в философии Кайзера с ее вершинным понятием «синтеза». Гармония недоступна герою Кайзера, но идея гармонии ведет его через геометрически правильную анфиладу композиции. Однако мастерство платоновского диалога не было усвоено Кайзером. Как и все экспрессионисты, он все-таки предпочитал аргумент «крика», а не силлогизма. Магия слова, заключенная, в нем скрытая энергия, на которую указывали Гердер и Потебня, на фоне эффективного мимического ритуала делается у Кайзера сильнейшим средством эмоционального воздействия. Гайфриг убедительно проанализировал функциональное значение слов-лозунгов в тексте драмы «Граждане Кале». В споре между Эсташем и Дюгешленом о том, какое решение было более достойно: спасти город ценой жизни шести, человек или во имя военной славы погибнуть всем, слово «Tat» («деяние») сначала раскрывается в своей «внутренней форме» через соотнесение со словами «Täter» (деятель) и «Misetat» (злодеяние), затем раскалывается в своём первоначальном ядре и получает двоякую корректировку: в устах «Tat» — это «Werk» (дело рук граждан), в понимании Дюгешлена «Tat» — это «Ruhm», «Ehre», «Streit» (слава, честь, война). Эсташ, как показывает Гайфриг, ведет граждан к тому, чтобы «деятели» стали достойны истинного «деяния» в смиренно-подвижническом смысле. Но Гайфриг е договаривает одну вещь. Подразделяя слова-лозунги на три группы: лейтмотивные, диалогические и драматургические, только для диалогических лозунгов он допускает прямую принадлежность конкретному драматическому лицу в силу частной интерпретации лейтмотивного «деяния». И с этим нельзя не согласиться. Но, во-первых, подобный вид спора (ведется не индивидуальным языком драматического характера, а абстрактными формулами двух различных обобщенно-универсальных сознаний. Во-вторых, диалогические лозунги находятся в иерархической подчинении лозунгам лейтмотивным и вливаются в них. То есть, мы имеем дело не с диалогом в собственном смысле, а кратковременными формально слабо выраженным раздвоением монологической речи драматурга. Другая важная особенность диалогической иллюзии у Кайзера рельефно представлена в обеих частях «Газа». Потомки Миллиардера и Инженер держатся кардинально противоположных точек зрения на современное производство. Первые видят в нем угрозу человеку и всему миру, второй — источник богатства и, могущества. Но их высказывания на этот счет протекают как параллельные монологи двух глухих друг к другу декламаторов, которые имеют целью не взаимное убеждение, а воздействие на рабочую массу и зрителя. Мы имеем два различных монологических высказывания на одну тему. Характерно, что в финале трилогии эти полярные позиции опять-таки сводятся автором воедино, что в конечном счете было отражением классового компромисса: Главный инженер передает Миллиардеру-рабочему заряд с ядовитым газом, чтобы погубить все гигантское производство. Одному это нужно в интересах борьбы с партией «Желтых», другому — во имя потустороннего гармонического мира. Оба, таким образом, приходят к одному результату.
И, наконец, следует отметить еще одну черту кайзеровского квазидиалога. В экспрессионистских драмах главному герой принадлежит исключительное право проповеди «нового человечества» и активного воздействия на прозаическое бюргерское окружение. По этой причине диалог главного героя с любым из персонажей становится формой общения двух заведомо неравномерных партнеров. Первый обладает авторским сверхзнанием, второй низводится до роли совопросника, который сигналами ложного прозаического сознания помогает оформлению единого экспрессионистского монолога, претендующего на конечную истину. Пример тому — разговор Прохожего и Адвоката в пьесе «Ад. Путь. Земля».
Ад. Вы покарали зло, о котором умалчивает законно, своей воле.
Почему вы не сказали об этом в тюрьме?
П. Это было несущественно.
Ад. Это могло бы создать вам ореол славы.
П. Все охвачены страшным помрачением, в котором один убивает другого.
И далее:
Ад. Вы пострадали без вины?
П. В тюрьме?
Ад. В мучительном наказании.
П. Я не голодал — не испытывал жажды. От меня не требовали работы, которая подорвала бы мое здоровье.
Последние слова Прохожего провоцируются несколько раз многими персонажами. И постепенно подводят к идее истинного, нетелесного страдания, настоящей вины и ее искупления.
Дибольд посеял довольно стойкое заблуждение о том, что «Георг Кайзер никогда не говорит как Георг Кайзер. Он стоит вне своих машинных драм». Фрейхану в структуре драмы померещилась «звенящая полифония». Помимо свидетельств монологической основы драматургии Кайзера, Мы укажем еще один момент, который нельзя назвать ничем иным, кроме открытого выражения поэтического мышления автора его собственным голосом. Эмфатически напряженные тирады, характерные для героев самых разных пьес, как формы высказывания, поражают устойчивой общностью выразительных средств. Это экстатическое видение героя, в котором реальная картина или любой объект его реакции постепенно деформируется в хаосе речевого потока и приобретает символический смысл. Почти обязательным связующим и колоритным мотивом является тема крови и жара. Есть основания думать, что слово «кровь», по мнению Кайзера, обладает особенно сильным «энергетическим» импульсом. В статье «Чувственность мысли» он не один раз с его помощью пытается укрепить свою аргументацию. «Искусство есть дело крови, которая перерастает в высшую энергию, чтобы творить искусство». И в другом месте: «Испытать жар в водопаде крови, закипающей в мысли: вот эротика, которая не может быть достигнута иным путем». Теперь обратимся к словам героев его драм, отдаленных во времени сроком около пяти лет и больше.
...ты чувствуешь себя ничтожным
для почести такой и жертвы,
когда в тебя, себя бичуя,
свою он впрыскивает кровь,
возносит вопли, рвется на поклон
и обожает твою волю,
спаси блаженного от похоти его...
(«Бубновый король»).
...Одиночество есть пространство
Пространство есть одиночество
Холод есть солнце. Солнце есть холод,-
Лихорадя кровоточит тело. Лихорадя
замерзает тело. Поля пусты, Лед
в движеньи. Кто избежит? Где выход?
(«С утра до полуночи»).
Кровь моей крови меня превратила в нас
Мой жар слился с жаром моей
матери и отца матери! Наш
голос мог разбудить пустыню —
человек глох от него!!
Я справедлив!! Я могу совершить!!
(«Газ II»).
Луна наконец кровоточит?
Сгорает лес в Глубоком свете?
Нагие стволы? Глухарь и олень
замирают в страсти. Сплетаются
мхи, оплодотворяясь. Растет триумф желания?
(«Жилль и Жанна»).
Все четыре фрагмента не только обнаруживают единую структуру высказывания и общие тематические элементы, что объясняется открытым выражением поэтического мышления автора, но и удивляют своим сходством с образным строем типично экспрессионистской лирики.
Невольно напрашивается сравнение со стихотворными видениями Якоба Ван-Годдиса, Георга Гейма и Альфреда Лихтенштейна.
Л-ра: Проблемы реализма в зарубежной литературе 19-20 вв. – Саратов, 1975. – С. 73-91.
Критика