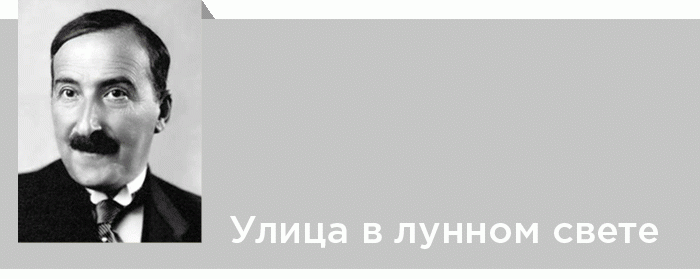Книга Стефана Цвейга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского»

Е. М. Тренин
В 20-30-е годы XX века в немецкой литературе был особенно распространен жанр исторического романа, в котором немецкие художники видели возможность ответить на самые актуальные вопросы европейской, и особенно немецкой, действительности. Писатели-антифашисты — Б. Франк, Т. Манн, Л. Фейхтвангер, Ст. Цвейг — обратились к этому жанру, чтобы на примерах истории объяснить причины поражения демократических сил в Германии, определить место художника в условиях новой расстановки сил, указать возможный выход из создавшейся ситуации.
Книга Ст. Цвейга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934) представляет особый интерес как отражение позиции писателя в 30-е годы. Сам автор так определял ее место в своей жизни: «В этой книге я, как в символе, запечатлел мое собственное поведение».
Тридцатые годы Ст. Цвейг встречает в расцвете творческих сил. Его новеллы, биографические эссе, книги о Фуше и Марин Антуанетте принесли автору поистине мировую славу. Широта литературного диапазона Ст. Цвейга определяет и широту круга его читателей и почитателей: для одних он — певец человеческого сердца, других очаровывает раскрытием внутреннего мира художника, третьих завоевывает обличением беспринципного политика Фуше. Чрезвычайно широки и разнообразны его связи в мире культуры. Его дом в Зальцбурге становится своеобразным клубом художников многих стран, и в своих воспоминаниях Ст. Цвейг с гордостью пишет: «Наш дом на Капуцинерберг стал европейским домом. Кто здесь только не был в гостях!»
Слава Стефана Цвейга объясняется еще и тем, что все его произведения объединяет любовь к человеку, защита идеалов добра и мира. Уже со времен Первой мировой войны его имя неразрывно связывают с именами наиболее решительных противников войны, защитников гуманистических идеалов (таких например, как Р. Роллан).
Роковое развитие событий в Германии поставило Ст. Цвейга перед теми же самыми вопросами, что и немецких писателей-эмигрантов: «Что будет дальше? Что делать? Какую позицию занять по отношению к происходящему в Германии?» Естественно было бы ожидать, что Цвейг, уже давно ясно видевший, что фашизм является, самым яростным врагом культуры, мира, выступит в защиту своих идеалов: ведь известность и слава требуют от писателя моральной ответственности, активной защиты прокламируемых идеалов. Именно поэтому к Цвейгу обращаются в это время взоры миллионов читателей и деятелей культуры. Так, друг Стефана Цвейга, австрийский писатель Йозеф Рот уже в письме от 22 марта 1933 г., т. е. почти сразу после прихода фашистов к власти в Германии, призывает Цвейга порвать связи с Германией: «Речь идет о судьбе европейской цивилизации, о судьбе гуманизма, знаменосцем которого Вы являетесь по праву». Но Стефан Цвейг, подобно Т. Манну, Рене Шикеле, А. Деблину, воздерживается от открытого осуждения фашизма. Более того, он сразу же отказывается от сотрудничества в эмигрантском журнале «Pie Sammlung», как только узнает о запрещении его в Германии. Такое поведение писателя-гуманиста вызвало справедливое возмущение в среде эмигрировавших антифашистов разных направлений, ибо они видели в этом измену своим идеалам, стремление Цвейга получить особые права в Германии. Критика, которой подвергся Стефан Цвейг в эмигрантской прессе, глубоко потрясла его.
Он выбирает нейтральную позицию: «Я потрясен тем, что мне причинили друзья... Что ж, придется жить одиноко и независимо, но я не отвечу ненавистью».
В такой обстановке Ст. Цвейг пишет книгу об Эразме. В переписке он неоднократно подчеркивает, что на примере Эразма он защищает свою позицию, отражает свое «я». «Моим утешением является маленькая книга об Эразме, трагедия мягкого; слабого человека середины, побежденного фанатиками <...>, в нем я отражаю, как в зеркале, мою внутреннюю судьбу», — признается он в письме к Р. Штраусу.
Таким образом, Ст. Цвейг, как и немецкие писатели-эмигранты, обращается к истории, к изображению исторической личности, чтобы выразить свою собственную позицию. В нашем литературоведении подробно изучены исторические романы Л. Фейхтвангера, Г. Манна, Т. Манна, А. Деблина, понимание ими истории, ее действующих сил. В творчестве Стефана Цвейга эта сторона остается до сих пор мало изученной. Между тем Цвейг не только много сделал в жанре исторической прозы, он охотно занимался вопросами истории, особенно в 30-е годы, когда выступил с докладами: «Европейская мысль в ее историческом развитии» (1932) и «Моральное обеззараживание Европы» (1932).
Правомерность обращения к материалу истории с тем, чтобы выразить свое отношение к современным событиям, не вызывает сомнений у Стефана Цвейга, ибо, по его мнению, «история, этот, казалось бы, лишенный времени океан, в действительности подчиняется неизменному ритмическому закону, внутреннему ритму волн, который делит ее на приливы и отливы, на движение вперед и назад: и как это могло быть иначе, ведь историю творят люди, и ее психологические законы отражают психологию отдельного человека. В каждом из нас коренится эта двойственность: тот процесс, который мы называем жизнью, есть в конце концов всегда только напряжение между полюсами».
В этом высказывании Ст. Цвейга сконцентрировано, на наш взгляд то, что составляет философско-эстетическую основу его метода создания исторических произведений. Основа эта может быть сведена к следующим трем положениям:
1) понимание истории как повторения одинаковых ситуаций;
2) полярность действующих в истории сил;
3) психологизация как метод осмысления исторических явлений, действий героев.
Ниже мы остановимся на вопросе о том, как указанные философские и эстетические взгляды Ст. Цвейга нашли свое выражение в книге «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского».
Взгляд Ст. Цвейга на историю как на повторение одинаковых, аналогичных ситуаций не является новым. Подобный подход к истории был характерен и для творчества Других немецких писателей (А. Деблина, Т. Манна, Л. Фейхтвангера). Однако критерии аналогии у писателей не тождественны. Поэтому любой автор, хочет он того или нет, отражает в историческом романе свое понимание истории, свои философские, этические и эстетические воззрении. А чтобы аналогии выглядели убедительными, автору необходимо найти в истории, постоянно действующие силы.
Так, Л. Фейхтвангер видел их в противоборстве разума и Гварваретва, в борьбе «маленького, способного к суждению меньшинства против страшного сплоченного большинства (слепцов, ведомых инстинктом, лишенных суждения».
Б. Франк в «Сервантесе» тоже рассматривает борьбу одиночки-интеллигента против варварства в мире.
Ст. Цвейг считает такими силами Разум и Фанатизм. Противопоставление Разума и Фанатизма у Ст. Цвейга при некотором сходстве с указанными взглядами Л. Фейхтвангера и Б. Франка имеет свою отличительную особенность, а именно: антиподом разума является у него фанатизм, т. е. приверженность определенной идее. Ст. Цвейг убежден, что разум и фанатизм являются извечными и полярными силами в истории, причем разум представляют люди Духа, а фанатизм свойственней широким народным массам. Люди Духа, люди Разума поднимаются над узко национальными интересами и зовут к общему благу, к взаимопониманию и миру. Казалось бы, что такие идеалы должны получить широкую поддержку и восторжествовать, но у них, по Ст. Цвейгу, есть враг — широкие народные массы: «...к сожалению, мы должны осознать и признать, что никогда ни один идеал, ставивший своей единственной целью общее благополучие, не удовлетворяет широкие народные массы».
Понятию «народные массы» Ст. Цвейг не придает массового, содержания. Сюда относятся не определенные классы, а лишь «заурядные натуры», в которых «наряду с чистой силой любви живет и требует своего мрачного права ненависть; корысть единицы ожидает от каждой идеи также немедленной выгоды. По Ст. Цвейгу, «народные массы» — лишь коллектив этих заурядных натур, на который оказывают исключительное воздействие идеи, враждебные общему идеалу: «Массе всегда будет ближе конкретное, осязаемое, чем абстрактное, поэтому в политике всегда легче всего будет находить сторонников любой лозунг, который вместо идеала прокламирует вражду; легко понятный, удобный антитезис, направленный против другого класса, другой расы, другой религии, так как фанатизм легче всего раздувает свое ужасное пламя на почве ненависти».
Таким образом, Цвейг полностью связывает воздействие конкретных идей, или, как он их часто называет, — «дух нетерпимости, односторонности» — с враждебностью, свойственной заурядной натуре от рождения, с фанатизмом, живущим в ней и ждущим лишь случая, чтобы вырваться наружу, ждущим направляющего импульса от Духа нетерпимости. При этом утверждается, что любые идеи, ставящие конкретные задачи, враждебны Духу общего идеала, отрицается какая-либо взаимосвязь и взаимодействие между общим идеалом и конкретной идеей.
Такая контраверза общего и частного лишает общее каких-либо реальных сил, поддерживающих его, ибо идея, не ставшая достоянием широких масс, не может обладать жизненной силой. Ст. Цвейг замечает эту оторванность общего идеала от реальной силы, но вместо того, чтобы искать взаимосвязь общего с частным, т. е. искать в историй или в современности силу, способствующую становлению идеала общего благополучия, он видит воплощение общего идеала лишь в далеком будущем, «когда появится другой народ, склонный к пониманию общего идеала, а до этого он остается духовно-аристократической идеей».
Итак, Ст. Цвейг в поисках историографического метода обращается к простой формуле — Разум и Фанатизм — как определяющие историю, постоянно действующие компоненты. Эта формула исключает какое-либо взаимодействие, так как компоненты ее взаимоисключают друг друга. Разум представляет общий идеал, а Фанатизм представляет любую конкретную временную идею. Такая формула позволяет Цвейгу сопоставлять разные эпохи, приравнивать одну к другой.
Но эта формула Ст. Цвейга порочна: она не допускает взаимодействия общего идеала и конкретной идеи, все конкретные идеи (и консервативные, и прогрессивные) ставятся в общий ряд врагов общего идеала. Истории, таким образом, отказано в развитии, в движении вперед. Подобный подход к истории неизбежно должен привести либо к прямо антиисторическому объяснению событий, либо к попытке ретушировать наиболее яркие несоответствия этой формуле, либо к модернизации истории.
В соответствии со своей формулой Ст. Цвейг считает правомерным обратиться к событиям периода Реформации, чтобы дать ответ на вопросы современности и оправдать свою нерешительную позицию, свой нейтралитет. Сходство событий эпохи Реформации и событий 20-30-х годов нашего века Ст. Цвейг видит в том, что единство Европы было разбито, образовались враждебные лагери, и фанатизм получил свободу действий. Представителями Разума и Фанатизма в книге об Эразме являются соответственно Эразм Роттердамский и Лютер. И Эразм, и вслед за ним Лютер выступают лишь в качестве исторических символов идей, выражаемых автором.
Стефан Цвейг сразу же стремится обрушить на читателя свои взгляды на историю, ее силы, на роль и место художника в ней, используя при этом весь свой богатый арсенал выразительных средств и эффектов.
В пользу такой точки зрения может свидетельствовать и построение книги. Книга об Эразме сострит из почти самостоятельных новелл, в каждой из которых автор настойчиво повторяет свои основные положения, как бы приглашая читателя еще и еще раз поразмыслить над ними. Эразм, по мнению Ст. Цвейга, является классическим примером человека, целью жизни которого были идеалы всеобщего добра, идеалы сотрудничества и терпимости, идеалы духовной свободы, который во всех конфликтных ситуациях сохранял строгий нейтралитет.
Чтобы обосновать свое видение личности Эразма Роттердамского, Ст. Цвейг обращается к анализу произведений самого Эразма и не может не почувствовать при этой, что исторический Эразм Роттердамский во многих отношениях не вмещается в схему, заготовленную для него в книге.
Не случайно поэтому Эразм у Ст. Цвейга изображен то как кабинетный ученый, то как литератор, то как символическое выражение духовных стремлений эпохи Реформаций. Как антипод Эразма в книге задуман Лютер — «революционер, демонически ведомый смутными народными силами». Но и в этом случае, обратившись к историческим документам, Ст. Цвейг не может пройти мимо того факта, что Эразм во многом предшествовал деятельности Лютера, и писатель признает, что долгое время их пути шли вместе, правильно определяет причины их расхождения. Но цвейговская формула «Разум — Фанатизм» требует создания ситуаций полярных напряжений, и Ст. Цвейг пытается доказать полную противоположность Эразма и Лютера, обращаясь к психофизической характеристике: «Лютер — сын горняка и потомок крестьян, здоров и даже чересчур здоров, кипуч, его почти разрывает застоявшаяся сила... Если перенести взгляд с этого полнокровного человека на человека Духа Эразма, на пергаментного, тонкокожего, ломкого, осторожного человека, если посмотреть на обоих лишь физически, то сразу видно: между такими противоположностями невозможны продолжительнее дружба или взаимопонимание».
Подобные противопоставления вновь и вновь заполняют страницы и лишь иногда в них вкрапливаются как физические доказательства отдельные предложения из речей и работ Лютера. Сетью, вытканной из импрессионистских вчувствований в создаваемые образы, автор все время направляет читателя в нужном ему направлении и заранее предопределяет решение будущих взаимоотношений Эразма и Лютера. Ст. Цвейг обращает внимание читателя на полнейшую, по его мнению, несовместимость природы мышления Эразма и Лютера, что тоже должно привести к полярности в их действиях: «Даже по своему интеллекту они принадлежат к совершенно различным расам мышления. Безусловно, Эразм дальше видит, больше знает, ничего в мире он не чуждается. Чисто и бесцветно, как дневной свет, проникает его абстрактный ум сквозь все щели я пазы тайн и освещает любой предмет. Все эразмианское направлено в конце концов на покой и умиротворение духа, в Лютере на сверхнапряжение и потрясение чувств.
Эта красиво изложенная декларация отражает лишь желание автора видеть своих героев таковыми. Но сам Цвейг не довольствуется и этим субъективным противопоставлением природы мышления. Он уводит читателя во все более глубокие слои человеческой природы, обращаясь к области иррационального. «В самой глубине натуры Эразма было что-то, что стихийно должно было раздражать Лютера, и в самой глубине сущности Лютера было, нечто, что также стихийно должно раздражать Эразма, ...их различие было органическим. Оно проникало из верхних слоев мозга в дебри инстинкта и по каналам крови в те глубины, над которыми уже не имела власти сознательная мыслительная воля. Поэтому из политических соображений и ради общего дела они могли долго беречь друг друга, они могли, подобно двум бревнам, плыть некоторое время рядом в одном течений, но на первом же изгибе и повороте пути они должны неизбежно наскочить друг на друга: этот всемирно-исторический конфликт был неизбежен».
Приведенные высказывания свидетельствуют о том, что для поддержания напряженности повествования, автору приходится прибегать к противопоставлению субъективных: качеств героев, которые красочно представлены, но не помогают последовательно выдержать линию Разум — Фанатизм. Как Эразм не получается чистым воплощением Разума, так и Лютер не является чистым фанатиком. Тем более, что когда автор обращается к описанию причин расхождения, к анализу работы Эразма «О свободной воле» и работы Лютера «О несвободной воле», то оказывается, что он ясно осознает то главное, что разделяло Эразм и Лютера. Их разделяли не физические качества, не «природа интеллекта, не цвет, крови; а понимание роли человека в общественной жизни, они ставили разные цели и выражали интересы разных общественных групп. Их объединяло неприятие засилия Рима, злоупотреблений церкви.
Но их разделяло гораздо большее. Лютер стремился обновить религию, усилить ее влияния на людей. Эразм же, оставаясь в католической церкви, практически выходил из нее. Его деятельность фактически носила антирелигиозный характер. Это «безбожие» Эразма первым и заметил Лютер, опять-таки в силу своей глубокой религиозности.
Но формула Разума-Фанатизм оказывается слишком тесной для более объективного воплощения Эразма и Лютера: она приводит к тому, что действие не может развернуться, что невозможны широкие исторические описания (как у Л. Фейхтвангера, Г. Манна, Т. Манна и др.). Автор вынужден часто уходить в область субъективных сравнений физических, психологических и иррациональных характеристик героев, что ведет к многократным повторениям. Но Ст. Цвейг стремится всеми средствами изобразить Эразма и Лютера представителями совершенно противоположных сил, автору важно любой ценой создать напряженность в книге.
Так, исходя из своего убеждения в том, что Разум иногда получает историческую возможность достичь господства и тем самым перестроить мир по своим законам, Ст. Цвейг рисует картину восхождения гуманизма на вершину своей власти, возникновение «империи» Эразма. Но и сам автор, пожалуй, ощущает, что все это построение не обосновано, ибо эта империя Эразма состоит лишь из просвещенных людей, хотя и принадлежащих к разным сословиям. Сюда входят папа, короли, князья, ученые из всех стран. Такой империи Эразма не существовало. Это видит и сам автор, когда обращается к анализу творчества Эразма. От внимания писателя не ускользает, что вся деятельность Эразма происходила в противостоянии другим воззрениям, что он имел не только друзей, но и противников и среди гуманистов.
Но историческая достоверность не нужна автору, она разорвала бы тесные рамки его концепции. Ему необходимо создать, хотя бы на время, «империю» Эразма, и он ее создает, чтобы тотчас же показать ее несостоятельность, нежизненность, чтобы иметь возможность представить реформаторов как воплощение народного фанатизма. «Но как благородное рыцарство пало от грубой, огнедышащей силы пушек, так и эта благородная, идеалистическая группа падет во всей красе, но без борьбы от мощного крестьянского удара народной революции Лютера Цвингли»...
Но такого сравнения автору явно недостаточно, тем более, что он не может пройти мимо того факта, что все движения Реформации направляли свой удар против Рима, против засилья католической церкви, и он заканчивает главу «Величие и пределы гуманизма» на высшем напряжении: «Как германцы ворвались в классический Рим, так и Лютер, этот фанатик действия, врывается с непреодолимым натиском национального народного движения в наднациональный, идеалистический сон. И прежде, чем гуманизм вообще успевает по-настоящему начать свое дело, объединения мира, Реформация разбивает железным ударом надвое последнее духовное единство Европы — универсальную церковь».
Насколько эта мысль красочна и категорична, настолько же она и спорна и туманна, особенно не ясна роль гуманизма. Теперь оказывается, что гуманизм ещё и «не успел начать свое дело объединения мира»; и, значит, автор сам отрицает существование «империи» Эразма. А если Реформация направлена против универсальной церкви, «последнего», по мнению Ст. Цвейга, «духовного единства Европы», то категоричное противопоставление Лютера Эразму не получает доказательств.
Ст. Цвейг, не останавливается на создании драматических сцен в истории, он переносит этот опыт на свой художественный метод, на представителей его идей (Эразма и Лютера), снова и снова выискивает, а чаще просто создает драматизм в их действиях, поведении, характере. Так, глава «Великий противник» полностью строится на противопоставлениях физической и иррациональной природы Эразма и Лютера. Ст. Цвейг, досадуя, что Эразм и Лютер лично никогда не встречались, даже упрекает в этом историю: «История лишила нас большого драматического действия, так как что за упущенная возможность увидеть обоих больших конкурентов, стоящими с глазу на глаз, друг против друга! Редко мировой рок сотворял двух людей настолько совершенно контрастными по характеру и по плоти, как Эразма и Лютера».
Ощущая неподатливость исторического материала, Ст. Цвейг, чтобы достичь своей цели — создать образ Эразма как историческое воплощение Разума, использует и свой испытанный прием — описание живописного портрета, что должно, по его замыслу, внести в сюжет большую историческую реальность и правдивость. Для большей убедительности Ст. Цвейг, как правило, называет и автора портрета. И в этом случае Ст. Цвейг, чтобы показать свою объективность, сначала представляет читателям портреты Эразма, выполненные разными художниками и в разное время и по ним дает как бы собирательный литературный портрет. Но уже сразу слишком очевидна схема, которая кладется в основу литературного портрета: противопоставление физической слабости и духовной силы: «Природа не была щедра к этому духовно богатому человеку, она лишь в малой степени наполнила его действительной жизнью и жизненностью».
В соответствии с этим сначала дается физический облик Эразма; при этом автор не забывает ни одной детали; все дается в прозрачных красках, которые призваны создать бескровный физический портрет: «маленькая фигурка с узкой головкой», «жидкая, бледная, нетемпераментная кровь», поверх чувствительных нервов натянута нежная, болезненная, безжизненная кожа, которая с годами свертывается, как ломкий пергамент и ломается на тысячи морщин и рун, «белокурые волосы, слишком тонкие и не насыщенные пигментом, бесцветно обрамляют пронизанные синими прожилками виски, бескровные руки кажутся прозрачными как алебастр, слишком острый нос; слишком узко вырезанные губы с их слабым, беззвучным голосом, слишком малы и скрыты, несмотря на их светимость глаза, нигде не горит сильный цвет, не округляется полностью форма в этом строгом обыденном и аскетическом лице». Все описание выражает тенденции автора представить Эразма оторванным от всякой жизни, гиперболизировать его «кабинетность». В физическом облике Эразма нет ничего внешне привлекательного, нет никакой жизни, нет ничего сильного.
И этому внешне бесцветному, пергаментному человеку автор стремится противопоставить его духовный мир: «Лицо Эразма становится значительным лишь в атмосфере духа: поэтому несравненна, незабываема картина Гольбейна, которая представляет Эразма во время самого священного мгновения, в миг творческого труда...» Эразм стоит перед письменным пультом и непроизвольно ощущается до глубины нервов: он один <...>, но если приглядеться ближе, то это состояние не покой, а полный уход в себя, таинственный, происходящее лишь внутреннее состояние жизни».
Литературный портрет еще раз доказывает мастерство Ст. Цвейга в создании литературных портретов, которые чрезвычайно ярки, подчинены строгому плану и призваны доказать достоверность воспроизводимого образа Эразма в книге. Факты жизни Эразма, его привычки, слабости его творчества служат поэтому не столько раскрытию собственной сущности Эразма, сколько желанию автора представить свою схему Разум — Фанатизм во плоти и крови. Ст. Цвейг решительно отделяет друг от друга мысль, и действие в творчестве Эразма и приходит к выводу, что влияние Эразма можно искать лишь в развитие мысли, но не в материальной жизни: «Немецкая Реформация и Просвещение, свободное исследование Библии и, с другой стороны, сатира Рабле и Свифта, европейская мысль и современный гуманизм — все это мысли из его мыслей и ничто из его собственных дел».
Казалось бы, многочисленные драматические ситуации должны были привести Цвейга к созданию романа, который все время держит читателя в напряжении. Но, на наш взгляд, автор не добивается подобного эффекта. Концепция автора (Разум не признает Фанатизма) оказывается слишком узкой, чтобы объяснить общественные силы, действующие в истории, Чтобы создать широкое историческое полотно. Концепция Ст. Цвейга приводит к созданию запрограммированных противопоставлений, и поэтому автору не всегда удается представить их действительно драматическими. Они становятся скорее драматизированными, и то чаще всего благодаря психологизации образов героев.
Роман «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» свидетельствует о том, как настойчиво в 30-е годы Ст. Цвейг пропагандирует свои философско-эстетические воззрения, желая доказать право художника не вмешиваться в политическую борьбу, поскольку художник якобы призван сохранять общие идеалы гуманизма в надежде на лучшие времена. Тем самым Ст. Цвейг стремится не только оправдать свою нейтралистскую позицию в 30-е годы, но и представить ее единственно приемлемой для художника.
Л-ра: Проблемы реализма в зарубежной литературе XIX-XX веков. – Саратов, 1975. – С. 92-103.
Произведения
Критика