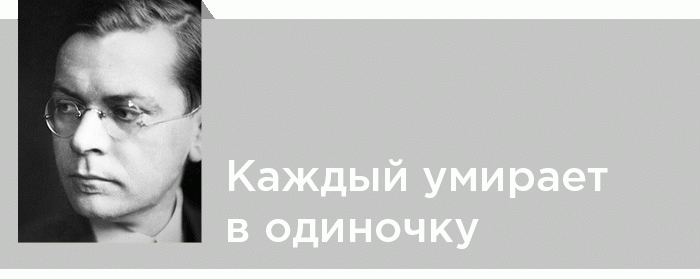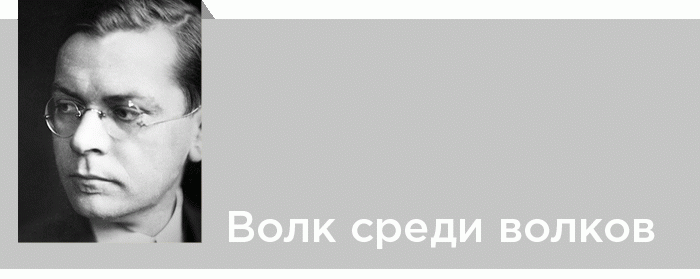Йозеф Рот. Направо и налево

(Отрывок)
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I
Помню еще то время, когда Пауль Бернгейм обещал стать гением.
Он был внуком торговца лошадьми, скопившего небольшое состояние, и сыном банкира, копить уже не умевшего, однако весьма удачливого. Отец Пауля, господин Феликс Бернгейм, шествовал по жизни беззаботно и высокомерно и приобрел немало врагов, хотя и была ему присуща та мера глупости, которую столь высоко ценят его сограждане. Его необыкновенная удачливость возбуждала их зависть. Судьба будто вознамерилась довести их до полного отчаяния: однажды господину Бернгейму выпал главный приз в лотерее.
Такой выигрыш обычно скрывают в лоне семьи как позорное пятно. Господин Бернгейм же, словно опасаясь, что счастье его будет воспринято окружающими с известной долей ненависти, удвоил свое демонстративное презрение к ним и сократил и без того малое число ежедневно получаемых им знаков внимания, отвечая тем, кто с ним еще здоровался, с оскорбительной и равнодушной рассеянностью. Не довольствуясь своим вызывающим отношением к людям, он дошел до того, что бросил вызов самой природе. Жил он в просторном доме своего отца неподалеку от города у широкой, ведущей в еловый лесок, проселочной дороги. Дом, окрашенный в желтый цвет, с красной островерхой крышей, стоял в старом саду среди фруктовых деревьев, дубов и лип и был обнесен серой каменной стеной в человеческий рост. Деревья, растущие по краю сада, возвышались над стеной, и кроны их свисали до середины дороги. С давних времен подле стены стояли две широкие зеленые скамьи, на которых отдыхали уставшие путники. Под крышей гнездились ласточки, в листве деревьев летними вечерами щебетали птицы, и среди пыльной, залитой жарким солнцем улицы длинная стена, деревья и скамейки утешали путника прохладой, а в суровые зимние дни возвещали близость человеческого жилья.
Однажды летом зеленые скамейки исчезли. Вдоль стены и над ней поднялись строительные леса. В саду рубили старые деревья. Было слышно, как с треском разламываются могучие стволы, как шелестят в последний раз их кроны, впервые припадая к земле. Стена рушилась, и сквозь бреши в ней и стропила лесов люди видели оголившийся сад Бернгеймов, желтый дом, окруженный гнетущей пустотой, — и негодование охватывало их, как если бы и дом, и стена, и деревья принадлежали им самим.
Несколькими месяцами позже на месте желтого островерхого дома стоял новый — белый, сияющий, с каменным балконом, который держал на своих плечах атлант из известняка, с плоской крышей, напоминавшей о южных краях, с модной штукатуркой между окон, с головками ангелов и гримасами чертей вперемежку под коньком крыши и весьма помпезной аппарелью, которая достойна была окружного суда, парламента или университета. Вместо каменной стены поднялась частая серо-белая решетка из железных прутьев с заостренными зубцами, выставленными против небес, птиц и воров. В саду виднелись убогие круглые и сердцевидные клумбы, искусственные лужайки с густой короткой почти синей травой и тонкие, чахлые кустики роз, подпираемые деревянными рейками. В середине клумб стояли улыбчивые седобородые гномы из разноцветной глины, в красноватых капюшонах, с заступами, молотками и лейками в крошечных ручках, — сказочный народец с фабрики «Грютцер и компания». Затейливо переплетающиеся, посыпанные мелким гравием тропинки, шуршащие уже при одном взгляде на них, извивались между клумбами как змеи. Нигде не было никаких скамеек. И, стоя снаружи и наблюдая все это великолепие, чувствуешь такую усталость в ногах, будто уже часами бродил по этому саду. Тщетно улыбались гномы. Тонкие побеги роз дрожали, анютины глазки казались раскрашенным фарфором. И даже когда длинный шланг садовника разбрызгивал нежную влагу, не ощущалось никакой свежести, никакой прохлады, а скорее всплывала в памяти струйка дурманящей жидкости, которую билетер распыляет поверх обнаженных голов зрителей в зале кинематографа. Над балконом господин Бернгейм приказал выбить золотыми, затейливыми, с трудом читаемыми буквами слово «Сан-Суси».
Люди видели, как господин Бернгейм в сопровождении садовника день за днем прогуливается между клумбами и строит новые козни против беззащитной природы. Затем слышались щелканье садовых ножниц и хруст веточек низкорослой, только-только посаженной живой изгороди, которая, едва начав расти, уже познакомились со строгим регламентом садового искусства. Окна дома никогда не раскрывались и обычно были занавешены. Иногда по вечерам сквозь плотные желтые шторы можно было разглядеть тени прохаживающихся по гостиной и сидящих в креслах людей, очертания и световые узоры люстры — и все понимали, что в доме Бернгеймов справляют праздник.
Праздники Бернгейма протекали с неумолимо холодным достоинством. Вино, которое пили в его доме, не пьянило, хотя было отменного качества. Его пили и только трезвели. Господин Бернгейм предпочитал приглашать окрестных землевладельцев, кое-кого из офицеров — всегда людей аристократического склада, — избранных представителей из мира промышленности и финансов. Почтение к гостям и боязнь нарушить дистанцию мешали ему быть веселым и непринужденным. Те в свою очередь чувствовали скованность хозяина и весь вечер держались подчеркнуто вежливо. Госпожа Бернгейм не понимала нелепости ситуации и не находила анекдоты гостей остроумными. Она была из еврейской семьи, а поскольку большинство анекдотов начинались со слов: «Ехал как-то один еврей в поезде…» — хозяйка дома чувствовала себя в известной мере оскорбленной и, как только кто-нибудь намеревался рассказать «маленькую историю», огорченно умолкала, опасаясь, что речь снова пойдет об «одном еврее». Говорить с гостями о своих делах господин Бернгейм считал неуместным. Они тоже полагали излишним рассказывать ему о своем хозяйстве, об армейских делах или о лошадях. Иногда Берта, единственная дочь и выгодная партия, играла на фортепиано Шопена с обычной виртуозностью девицы, получившей хорошее воспитание. Иногда в доме Бернгейма танцевали. Через час после полуночи гости расходились. Лампы за окнами гасли. Все засыпало. Только сторож, собака да гномы в саду бодрствовали.
Пауль Бернгейм шел спать, как и положено в приличных домах, в девять часов вечера. Он делил комнату со своим младшим братом Теодором. Засыпал он, впрочем, лишь когда во всем доме воцарялась тишина. Пауль был чувствительным юношей. Его называли «нервным ребенком» и потому считали особо одаренным.
Проявить свою одаренность он старался с юных лет. Когда Бернгейму выпал главный выигрыш, двенадцатилетний Пауль обладал умом восемнадцатилетнего юноши. Быстрое превращение добропорядочного буржуазного дома в богатый, с аристократическими претензиями, обострило его природное честолюбие. Он понимал, что богатство и положение родителя могут обеспечить сильную «позицию» сыну. Пауль подражал «благородству» отца. Вызывающе держался с одноклассниками и учителями. У него были вялые бедра, замедленные движения, полные красные губы, полуоткрытый рот с мелкими белыми зубами, зеленоватая лоснящаяся кожа, светлые пустые глаза, затененные длинными черными ресницами, и длинные мягкие волосы. Вялый, постоянно улыбающийся, сидел он за партой. Всеми своими повадками Пауль давал понять: мой отец может купить всю вашу школу. Беспомощными и ничтожными, подавленными превосходством школы, были здесь другие. Он единственный противопоставлял ей мощь своего отца, своей собственной комнаты, своего английского завтрака — «ham-and-eggs» и свежевыжатый апельсиновый сок с мякотью, своего домашнего учителя, дополнительные уроки с которым получал каждый день вместе с горячим шоколадом и кексом, своего винного погреба, своего экипажа, своего сада и своих гномов. Он пахнул молоком, теплом, мылом, ваннами, гимнастикой, домашним врачом и служанками. Казалось, школа и уроки почти не занимают его. Одной ногой он уже был в высшем свете, отзвук его голосов звучал в ушах Пауля, и в классе он сидел как случайный гость. Он не был хорошим товарищем. Иногда его забирал из школы отец. В экипаже и за час до конца занятий. На следующий день Пауль приносил справку от домашнего врача.
И все же временами казалось, что он тоскует по другу. Однако не знал, как его обрести. Между ним и одноклассниками вечно стояло его богатство. «Заходи ко мне сегодня днем, когда будет мой учитель, — он сделает задание для нас обоих», — говорил он иногда. Но редко кто-нибудь приходил. Он ведь подчеркивал: «Мой учитель».
Пауль учился легко и многое хватал на лету. Он усердно читал. Отец устроил ему библиотеку и говорил иногда безо всякой нужды: «Библиотека моего сына», или, к примеру, служанке: «Анна, пройдите в библиотеку моего сына», — хотя в доме никакой другой и не было. Несколько дней Пауль пытался по фотографии нарисовать своего отца. «У моего сына поразительный талант!» — сказал старый Бернгейм и купил альбомы для эскизов, цветные карандаши, холст, кисти и масляные краски, нанял учителя рисования и принялся часть чердака перестраивать под ателье.
Дважды в неделю под вечер, с пяти до семи, Пауль упражнялся вместе с сестрой в игре на фортепиано. Прохожие слышали, как они играют в четыре руки, — всегда Чайковского. Иногда кто-нибудь говорил ему: «Я слышал, как ты играл вчера дуэтом». — «Да, с моей сестрой! Она играет еще лучше, чем я». И всех злило это словечко — «еще».
Родители брали его с собой на концерты. Он напевал потом мелодии, называл произведения, композиторов, концертные залы и дирижеров, которым любил подражать перед зеркалом. В летние каникулы он уезжал в дальние края — вместе с гувернером, «чтобы ничего не забыть». Он ездил в горы, плавал по морям к совершенно незнакомым нам берегам, возвращался молчаливым и гордым и высокомерно изъяснялся намеками, будто предполагал свое знание мира у всех остальных. Пауль был умудрен опытом. Он уже успел повидать все, о чем читал и слышал. Его быстрый ум всегда находил нужные ассоциации. Из «своей библиотеки» он выуживал массу бесполезных деталей и подробностей, которыми щеголял потом в разговоре. У него была подробная картотека «личного чтения». Ему прощали ленивую небрежность, поскольку она не бросала тень на его моральный облик. Предполагалось, что принадлежность к роду Бернгеймов служит достаточной гарантией добропорядочности. Строптивых учителей отец Пауля укрощал приглашением на «скромный ужин». Оробевшие при виде паркета, картин, лакеев и миловидной дочки хозяина, возвращались они в свои убогие жилища.
Девушки никоим образом не смущали Пауля Бернгейма. Со временем он стал заправским танцором, приятным собеседником, хорошим спортсменом. Менялись и его склонности и таланты. На полгода возобладала страсть к музыке, на месяц — фехтование, на год — живопись, еще на год — литература и, наконец, — молодая жена члена окружного суда, чью потребность в юношах лишь с трудом можно было удовлетворить в этом захолустном городке. В любви к ней объединились все его способности и увлечения. Для нее рисовал он пейзажи и белых коров, для нее фехтовал, сочинял музыку, писал стихи о природе. Наконец она переключилась на одного фенриха, и Пауль, чтобы забыть ее, погрузился в историю искусств. Ей одной решил он отныне посвятить свою жизнь. Вскоре он не мог видеть ни одного человека, ни одной улицы, ни кусочка поля без того, чтобы не припомнить какого-нибудь знаменитого художника и известную картину. Своей неспособностью воспринимать что-либо непосредственно он уже в юные годы превзошел всех именитых искусствоведов.
Однако и это увлечение угасло, уступив место общественному честолюбию. Возможно, все к тому и шло, и было оно, это увлечение, лишь привлекательной смежной наукой для политической карьеры. Честный, блаженно наивный, чарующий и вопрошающий взор Пауля Бернгейма, несомненно, был им подсмотрен на известных изображениях святых. Взгляд этот проникал в человека и в то же время был устремлен в небеса. Глаза Пауля, казалось, просеивали сквозь длинные ресницы свет небесный.
Наделенный энтузиазмом, с воспитанным на искусстве и комментариях к нему вкусом, он окунулся в общественную жизнь города, которая состояла по преимуществу из усилий матерей выдать замуж своих подросших дочерей. Во всех домах, где жили девицы на выданье, Пауля принимали весьма охотно. Он мог взять любой тон, какой только требовался. Он был подобен музыканту, владеющему всеми инструментами оркестра и умевшему не без грации брать фальшивые ноты. Целый час он мог произносить умные (выдуманные и вычитанные) слова. Часом позже он выказывал в разговоре уютную, улыбчивую болтливость, повторял в десятый раз плоский анекдот, придавая ему новые оттенки, ласкал кончиком языка какой-нибудь банальный афоризм, чуть надкусывая его и касаясь губами, затем рассказывал с чистой совестью остроту, которая уже снискала успех другому, и беззастенчиво насмехался над отсутствующими приятелями. А девицы хихикали непристойным хихиканьем; они лишь скалили зубы, но так, будто обнажали свои молодые груди; они хлопали в ладоши, но так, будто раздвигали ноги; они показывали ему книги, картины и ноты, но так, будто расстилали свои постели; они поправляли прически, но так, словно распускали волосы на ночь. В то время Пауль начал захаживать в бордель — дважды в неделю, с регулярностью стареющего чиновника, — чтобы рассуждать потом о прелести обнаженного девичьего тела, сравнивая его конечно же с какой-нибудь прославленной картиной. Какой-либо дочери почтенного семейства он сообщал об этих тайнах и описывал девичью грудь, которую хотел бы видеть и осязать.
Он все еще занимался живописью, рисовал, сочинял музыку и писал стихи. Когда сестра его обручилась — с ротмистром, — он изладил длинное стихотворение на случай, положил его на музыку, сам сыграл и спел. Позднее, поскольку его зять интересовался машинами, Пауль тоже увлекся техникой и мотор своего автомобиля — одного из первых в городе — чинил собственноручно. Наконец, стал он брать уроки верховой езды, чтобы сопровождать своего зятя на скаковой дорожке в ельнике. Жители города стали терпимее относиться к старому господину Бернгейму, так как ему удалось подарить родине гения. Иногда кто-нибудь из его врагов, который долгое время чувствовал себя оскорбленным, начинал — поскольку в семье его подрастала дочка на выданье — любезно здороваться с господином Феликсом.
В это время пошла молва, будто господина Бернгейма ожидает большая награда. Некоторые поговаривали о возведении в дворянство. Поучительно было наблюдать, как перспектива получения Бернгеймом высокого звания утишает ненависть его противников. Предстоящее событие казалось достаточным оправданием высокомерия мещанина. Отныне его спесь получала как бы естественное обоснование, а стало быть, и оправдание. По мнению горожан, надменность была украшением и аристократа по происхождению, и возведенного в дворянство, и даже того, кто скоро его получит.
Неизвестно, имел ли этот слух действительные основания. Возможно, господин Бернгейм мог стать лишь тайным коммерц-советником. Однако тут произошло нечто неожиданное, невероятное. История настолько банальна, что стыдно было бы, к примеру, пересказать ее в романе.
Однажды в город приехал бродячий цирк. Во время десятого или одиннадцатого представления произошел несчастный случай: юная акробатка упала с трапеции, причем прямо в ложу, где в одиночестве сидел Феликс Бернгейм — семейство его считало цирковое представление вульгарным зрелищем. Позже рассказывали, что господин Бернгейм, «сохраняя присутствие духа», подхватил артистку на руки. Однако это нельзя считать точно установленным; следовало бы также проверить, действительно ли господин Бернгейм увлекся этой девушкой еще с первого представления и дарил ей цветы. Известно лишь, что он отвез ее в больницу, навещал там и не дал ей уехать с цирком. Он снял ей квартиру и имел мужество в нее влюбиться. Гордость бюргерства, претендент на дворянский титул, тесть ротмистра — влюбился в акробатку! Госпожа Бернгейм объявила мужу: «Можешь взять свою метрессу в дом, я уезжаю к сестре!» И она уехала к своей сестре. Ротмистр перевелся в другой гарнизон. В доме Бернгейма теперь жили лишь два его сына и прислуга. Желтые гардины месяцами висели на окнах. Старый Бернгейм, разумеется, не изменил своих манер. Он оставался заносчивым, пренебрегал целым миром — он любил свою девушку. О его награждении речь больше не заходила.
Это был, возможно, единственный смелый поступок, на который Феликс Бернгейм отважился в своей жизни. Позднее, когда Пауль мог бы решиться на нечто подобное, я вспомнил о поступке его отца, и мне стало ясно на этом примере, как истаивает фамильное мужество и насколько сыновья оказываются слабее своих отцов.
Юная циркачка лишь несколько месяцев прожила в городе. Она словно только для того и упала с неба, чтобы побудить Феликса Бернгейма к мужественному поступку в последние годы его жизни, подарить ему на миг мелькнувшее сияние красоты и раскрыть истинную высоту его природного аристократизма. Однажды девушка исчезла. Возможно — если кто желает романтического завершения этой романтической истории, — цирк снова приехал в этот город, а девушка истосковалась по своей трапеции. Ведь и акробатика бывает призванием.
Госпожа Бернгейм вернулась. Дом немного оживился. Пауль, которого опечалило приключение отца, поскольку ожидавшееся награждение не состоялось и ротмистр уехал, вскоре оправился и даже находил удовольствие в том, что «старик оказался все же молодцом». Впрочем, он готовился к отъезду.
Скоро для него должна была начаться новая жизнь.
II
Пауль сдал выпускной экзамен — как и следовало ожидать, с отличием. Он обзавелся новыми костюмами. Старая школьная одежда казалась ему заразной, как халат, который пришлось носить во время долгой болезни. Новые костюмы были щегольскими, неопределенных светлых цветов, мягкими и ворсистыми, легкими и теплыми; сукно было родом из Англии — страны, в которую Пауль Бернгейм собирался поехать.
Никто из местной молодежи в Англии еще не бывал. Единственный юноша, выказавший робкое желание изучать в Париже «настоящий французский», выглядел подозрительным в глазах окружающих. Однако старый Бернгейм сказал однажды в компании: «Как только сын получит аттестат, пошлю его посмотреть мир». А «миром» для определенного круга солидных горожан была Англия.
Эти господа уже несколько лет заказывали себе костюмы в Англии, прославляли политику Британии и британскую конституцию, часто и как бы невзначай встречались с королем Эдуардом VII на променадах в Мариенбаде, заключали сделки с англичанами, пили виски и грог, хотя нравилось им пльзеньское пиво, запирались в клубе, хотя с большим удовольствием посидели бы в кафе, играли в молчанку, хотя от природы были болтливы, коллекционировали всевозможные бесполезные предметы, так как вообразили себе, что благородный человек должен страдать от «сплина», занимались по утрам гимнастикой, проводили лето на побережьях и в плаваниях, чтобы кожа их просолилась и покраснела от морского ветра, и рассказывали чудеса о лондонских туманах, лондонской бирже и лондонских полицейских. Некоторые доходили до того, что говорили «well» вместо «да» и выписывали английские газеты, которые приходили слишком поздно, чтобы можно было узнать из них какие-нибудь новости. Однако подписчики игнорировали события, если не прочли о них по-английски. «Подождем! — говорили они, когда что-нибудь происходило. — Завтра придет газета». Их дети учили английский так же, как немецкий. И некоторое время казалось, что в гуще города растет маленькая англосаксонская нация, чтобы при случае добровольно присоединиться к Британской империи. В этом городе, который был расположен всецело в зоне континентального климата, в котором никогда не замечалось и следа тумана, следовало есть, пить и одеваться так же, как при шуме морского прибоя на побережье Англии.
Поносив пару недель свои английские костюмы, Пауль заявил, что хочет пожить несколько лет в Англии. И вероятно, опасаясь, что значение его учебы и жизни в Англии может быть недооценено, добавил: «Поступить в английский университет не так легко, как это кажется. Иностранца должны рекомендовать двое уважаемых англичан, иначе он сроду туда не попадет! И прежде всего следует вести себя безукоризненно, а это у нас, к сожалению, большая редкость. Я поеду в Оксфорд! На следующей неделе потренируюсь еще в плавании».
Это прозвучало так, будто он намеревался добраться до университета вплавь.
Поскольку англичане, по его представлению, очень мало были расположены к истории искусств, а имели склонность, так сказать, к вещам практическим, Пауль решил изучать общественные науки — историю и юриспруденцию. О картинах и художниках не было больше речи. И в мгновение ока в его библиотеке оказались все научные труды, которые ему были нужны. Из проспектов он знал, как и что происходит в Оксфорде. Он рассказывал истории об Оксфорде, будто уже приехал оттуда и даже не собирался туда ехать. Однако еще замечательнее не сам факт, что говорил он об Оксфорде с авторитетом многоопытного знатока, а тот интерес и доверчивость, с которыми люди его расспрашивали. Не только Пауль, но и его отец рассказывали об обучении в Оксфорде; и все члены клуба, которые выслушивали разглагольствования старого Бернгейма, цитировали дома учебный план и расписание занятий в университете. И девицы на выданье сообщали друг другу: «Пауль едет в Оксфорд!» Они говорили «Пауль» — так его называли во всем городе. Он был его любимцем. Такова участь людей, удостоившихся любви окружающих, — зваться по имени посторонними.
В один прекрасный июньский день Пауль поехал в Оксфорд; несколько молодых девушек провожали его на вокзал. Его родители оставили город еще неделей раньше — было время летних отпусков, — поскольку мать Пауля заявила: «Я не останусь здесь, раз Пауль уезжает так надолго! Если я буду в дороге, мне легче будет это перенести!» В одном из своих костюмов неопределенного цвета, с короткой трубкой в левом углу рта, Пауль стоял, как на картинке из журнала мод, за окном купе. В то время как поезд отъезжал от перрона, он с изумительным изяществом бросил каждой из трех прекрасных девушек по розе. Лишь одна из них упала на землю; девушка нагнулась, а когда выпрямилась, Пауль был уже далеко. Он уехал совсем, и, казалось, весь город в тот тихий летний вечер почувствовал это — так он был печален.
Время от времени от Пауля приходила корреспонденция. Это были образцовые письма. На втрое сложенной бумаге, напоминавшей старинный пергамент, в левом верхнем углу которого рельефными буквами с темно-синим оттенком сверкал вензель Пауля, шествовали строем широкие старинные литеры, изысканные, немного напыщенные, с большими интервалами и широкими полями. Он никогда не писал на конверте своего имени. Приблизительно в середине конверта из темно-синего сургуча выпирала монограмма — буква П, искусно размещенная в утробе Б, как плод в материнском лоне. В этих письмах по большей части были общие фразы. Спортивные термины, странные названия весельных и парусных лодок чередовались с аристократическими фамилиями, а короткие односложные имена приятелей — Боб, Пит, Тэд — рассыпались по тексту как звонко стучащие горошины.
Однажды в Лондоне Паулю пришла повестка от консульского врача относительно поступления на военную службу. Он получил несколько лет отсрочки. И разумеется, определен был в кавалерию.
О своем вступлении в воинское братство он писал следующее:
«Итак, мой дорогой, время пришло! Кавалерия, надеюсь, — драгуны. Тотчас телеграфируйте старику. Два года отсрочки, затем скачу на Дикий Запад. Здесь куплен конь, Кентукки наречен. Лицо мне лижет, нрав — как у кота. Доктор был великолепен, есть тут классный парень из знатных, трюкач, другие — сплошь приказчики, один-единственный — рабочий. Жалкая раса! Все-таки принят. Пахнет войной. Затем на два дня остался в Лондоне, за ромом гонялся в самых злачных углах. Хоть женщину — ах! — увидел после долгой монашеской жизни в колледже. Вспомнил преподавателя катехизиса — все же был славный малый. Он жив еще? Итак, старик, еще год, и я дома. А сейчас — бежать, готовиться к следующей неделе. Черт знает что! Турнир по фехтованию — одновременно с балом! Танцевать почти разучился, придется заново заняться. Видишь — дел невпроворот. Удачи!»
Подобные письма он писал и домой. Казалось, он не сообщал вообще ничего, и вся его корреспонденция была подчинена учебному плану университета, в который переписка с родными входила так же, как гребля или фехтование.
— Хотелось бы только знать, — говорил старый Бернгейм в клубе, — когда эти сорванцы находят время учиться! О науках он совсем ничего не пишет.
Фабрикант Ланг, который имел с Англией «наилучшие отношения» и не допускал никаких сомнений в методике обучения в университете, ответил не без легкого негодования:
— Уж англичане-то знают, что делают! Взгляните только на английских господ, которые понимают больше нашего! В здоровом теле здоровый дух, видите ли, — вот их принцип!
— Mens Sana in corpore sano, — поспешно отозвались на это четверо или пятеро господ одновременно, с такой горячностью перекрикивая друг друга, что лишь одному удалось досказать цитату до конца.
Господин Ланг, которому стало досадно, что не он сам привел эту классическую мудрость на языке оригинала, поспешил бросить карты на стол и произнести впервые за долгие годы: «Alea jacta est!» Из этого со всей очевидностью следовало, что все наши господа-англоманы были совершенными гуманистами — в ренессансном значении этого слова.
И начался тарок.
Здесь уместно припомнить, что любовное приключение старого господина Бернгейма уже через несколько недель после исчезновения артистки бесследно выветрилось из памяти людской. Прямо-таки рекорд забывчивости, если принять во внимание значительное число недоброжелателей и завистников у Феликса Бернгейма. Из этого можно сделать вывод, что людям не нравится, когда даже неприятное им авторитетное лицо рискует своей репутацией. История эта не имела особых далеко идущих последствий, кроме перевода зятя и переезда дочери. Госпожа Бернгейм давно уже пребывала у своего домашнего очага. Возможно, она еще хранила в сердце горькое чувство к своему мужу, но «держала себя безукоризненно», как о ней говорили, и ни с кем не делилась своими переживаниями. Она обладала заурядным, но вполне здравым — внутри своих узких границ — умом, и самомнения ей было не занимать. Случалось, она высказывала суждение о каком-нибудь министре или писателе, о Ренессансе или религии или о чем-нибудь еще в том же пренебрежительном тоне, в каком говорила обыкновенно о домашней прислуге. А иногда капризным голоском изрекала какую-нибудь несуразность, которую непременно сочли бы симпатичной и даже очаровательной, будь госпожа Бернгейм моложе лет на тридцать. Казалось, ее хорошенький свежий ротик однажды так восхитил своею глупостью весь мир, что обладательница его мало-помалу уверилась, будто ей позволено вмешиваться во все, чего она не понимала. Она забыла, что постарела. Забыла настолько прочно, что, несмотря на свои седые волосы, которые потихоньку подкрашивала, в те мгновения, когда она произносила глупость, прежний девичий блеск возвращался на увядшие черты ее лица, и тогда на миг можно было увидеть, как над ним витает призрак ее юности. Однако призрак этот исчезал очень быстро, а отзвук произнесенной глупости долго еще парил в воздухе; слушатели же пребывали в замешательстве, пока господин Бернгейм прилагал тщетные усилия спасти положение плоской остротой.
Сколько же лет он снова и снова попадал в такое затруднительное положение! Он один из всех присутствующих знал, какое убийственное различие существовало между наивным словцом, что родилось однажды на цветущих устах его супруги, и тем же наивным словцом, которое теперь, поблекнув, сорвалось с ее губ. Он пугался и выдавал шутку, как иной, испугавшись, исторгает крик ужаса. Госпожу Бернгейм, однако, «возмущала» пошлость мужа. Она надувала губы, как в юности, и из-за этого казалась еще лет на десять старше. Она считала, что имеет особое право на мудрые мысли, и была убеждена, что образованность, о которой она была очень высокого мнения, — преимущество не только привилегированного класса, но и ее семейного положения, и что вполне достаточно иметь богатого мужа и сына, обладавшего «библиотекой», чтобы беседовать на ученые темы.
Когда-то госпожа Бернгейм была избалованной хорошенькой девушкой. Ее широкое, с правильными чертами лицо — у нее были такие же волосы и такой же цвет лица, как у Пауля, — выражало невозмутимое спокойствие, холодную, неприступную безмятежность, которая напоминала запертые врата, а не вольный воздух уединенной деревни. Лицо госпожи Бернгейм не ведало печати заботы, а морщины воспринимались ею как обида, как незваные гости. Ее сверкающие серые кокетливые глаза смотрели завлекающе и в то же время враждебно. Взгляд госпожи Бернгейм могли бы счесть «королевским» — и таковым его считала она сама, — не будь столь заметно, что величие свое он упражнял на шторах, платьях, кольцах и колье, на так называемом интерьере и предметах домашнего обихода. Да, на предметах домашнего обихода. Ведь госпожа Бернгейм, при ее претензиях жить по-княжески и выглядеть по-королевски, хотела еще быть и «скромной женщиной». Вышивая перед Рождеством никому не нужный узор на никому не нужном покрывале, только чтобы кого-нибудь «поразить», она была убеждена, что приносит одну из тех жертв, что поддерживают добродетель бережливости, и готовилась к сладкому приятному страданию, столь же благотворному, как слезы.
— Посмотри-ка, Феликс! — говорила она. — Госпожа Ланг конечно же так не сделает.
— Тебе тоже нет нужды этим заниматься, — отвечал Феликс.
— Но как же? Ведь иначе за это придется платить!
— Я вообще могу без этого обойтись.
— Да, а не будь здесь вышивки, то-то гримасу бы скорчил!
— Проверь-ка лучше пуговицы на моем зимнем пальто. Одна сегодня чуть было не оторвалась.
— Давай его сюда, — говорила, обрадовавшись, госпожа Бернгейм. — На Лизи нельзя положиться. Все, буквально все приходится самой делать!
И с веселым вздохом, который изображает и тяжесть, и важность работы и успокаивает совесть труженицы, госпожа Бернгейм начинала укреплять пуговицы.
— Пауль мне пишет, — сказала она как-то раз, — что ты ему мало посылаешь.
— Я знаю, что делаю.
— Да, но ты не знаешь Оксфорда!
— Ты знаешь его не лучше.
— Ах, так! Разве мой кузен Фриц не был в Сорбонне?
— Это совсем другое, и вообще не имеет никакого значения.
— Ну, Феликс, прошу тебя, не будь таким грубым!
И Феликс задумывался, действительно ли он был так груб. Он молчал, а госпожа Бернгейм вскоре забывала о своей обиде.
— Ну, теперь пуговица будет сидеть вечно! — говорила она с ребяческой радостью.
И они шли спать.
О Теодоре, младшем сыне, редко заходила речь. Поскольку он больше походил на отца, чем на мать — по крайней мере, госпожа Бернгейм подчеркивала это при каждом удобном случае, — в доме его не считали гением, как брата. Ведь госпожа Бернгейм считала мужа баловнем судьбы. Она полагала его неспособным приобрести знания или развить в себе какие-либо дарования. К торговцам и сделкам она испытывала презрение, которое дочери иных добропорядочных семейств обретают к девятнадцати годам вместе с образованием, приданым, умением играть на фортепиано и любовью к литературе. По мнению госпожи Бернгейм, государственный чиновник по рангу стоял чуть выше банкира, а финансист был не способен воспринять «плоды культуры». Когда двоюродный брат госпожи Бернгейм стал адвокатом, она уверовала, что ее брак навеки останется мезальянсом. В более молодые свои годы она еще подумывала так или этак изменить мужу с академиком или офицером, чтобы благодаря адюльтеру с более достойным по социальному положению лицом получить удовлетворение за необходимость отдаваться обыкновенному банкиру. Кто слышал, как госпожа Бернгейм, у которой, естественно, «сдавали нервы», восклицала: «Ах, Феликс!», или как она жаловалась на «этот шумный дом», когда ветер стучал ставнем или дверью, или говорила мужу: «Будь поосторожней!», когда он случайно опрокидывал стул, — тот мог уловить в этих выражениях ту безмерную обиду, которую причинила его супруге судьба.
И все же она умела дать мужу на удивление хороший совет, предугадать опасность в рискованном деле, почувствовать злой умысел в действиях какого-нибудь человека, возбудить подозрения касательно некоторых служащих, сомнительных счетов, поставщиков, поддерживать порядок в доме, устроить летнюю поездку и вызывать уважение проводников, морских офицеров и служащих гостиницы. Госпожа Бернгейм обладала неким животным чувством дома и семьи; оно и было источником ее предусмотрительности, ее житейской сметки, а также порядка в усадьбе, обнесенной оградой из толстых железных прутьев.
Ко всему, что находилось за пределами этой ограды, она была неумолима, непреклонна, слепа и глуха. Она делала различие между бедняками, которые каким-либо образом получали доступ в ее дом, и нищими, слоняющимися по улицам. Госпожа Бернгейм умела так организовать свою благотворительность, что сердце ее отзывалось на беды ближнего в определенные часы определенных дней. Делать добро с равномерными промежутками было ее потребностью. Если ей рассказывали, к примеру, о несчастье, которое постигло чужую семью, то перво-наперво ее интересовали обстоятельства, при которых это несчастье произошло: случилось это, например, в среду или в четверг, ночью или днем, на улице или в комнате. И все же, несмотря на любопытство к деталям, она никогда не принимала беду слишком близко к сердцу. Она сторонилась несчастий и болезней, избегала кладбищ и необходимости выразить соболезнование. Повсюду ей чудилась опасность заразиться. Когда муж говорил ей: «Ланг… или Шнайдер… или госпожа Ваграм больны», — она всегда отвечала: «Только не ходи туда, Феликс!» Всякий фанатизм ожесточает. Фанатизм благополучия тоже.
Госпожа Бернгейм тосковала по своему сыну Паулю. Она по нескольку раз читала его сухие письма, никогда не понимая смысла написанного, и старалась вычитать между строк, здоров ли «ее ребенок» или утаивает какую-нибудь болезнь. Она ведь принимала его за «благородное дитя», которое молчит, испытывая боль. Она писала ему дважды в неделю: не для того, чтобы ответить или сообщить что-то, а только слова, буквы, призванные заменить поцелуи и прикосновения, установить некую физическую связь. Пауль мельком просматривал эти письма и сжигал. Он был недоволен матерью. Ему хотелось, чтобы его мать была «настоящей леди». В таковую он и превращал ее, когда приходилось рассказывать о ней посторонним. Иногда он мечтал о том, чтобы заново воспитать ее. Пауль представлял себе, как жил бы с нею в английском поместье. У нее белокурые волосы, она читает Гарди и пользуется большим уважением окрестной знати. В его рассказах она становилась такой, какой сама себя видела. Если он упоминал об отце, то слегка шаржировал его в манере своей матери. Однако Пауль редко говорил о своей родине и своем доме, поскольку правду рассказать не мог, а лгал неловко и чувствовал себя при этом неуютно.
Он должен был провести в Англии по меньшей мере полтора года, но как-то раз получил телеграмму, которая звала его домой.
Старый господин Бернгейм за несколько недель перед тем отправился в далекое путешествие — в Египет, лечить подагру. Однако умер, едва взошел на пароход в Марселе. При нем находилась юная дама, которую он выдавал за свою дочь и которая — кто знает? — могла послужить причиной его неожиданной кончины. Когда забирали тело покойного, то денег при нем не нашли. Кое-кто полагал, что эта молодая женщина и была той самой акробаткой. Людям свойственно романтически толковать простейшие события. Скорее это было вполне обычное влечение стареющего мужчины к молодой девушке, а верность его некой особе, которую и распознать-то было бы нелегко, просто-напросто выдумка. И все же его смерть на борту парохода, среди волн морских и на руках, будем надеяться, хорошенькой девушки была свободнее и достойнее, чем большая часть его жизни или, по меньшей мере, той жизни, о которой мы знаем. Вполне возможно, что господин Феликс Бернгейм никогда не вел вполне однозначное существование. Не исключено, что он и впрямь, как сказал его сын Пауль, был «молодцом» — заносчивым, здоровым, удачливым, беззаботным.
Его зять, ротмистр, забрал покойника. Пауль приехал прямо к похоронам.
Госпожа Бернгейм плакала у могилы — может быть, впервые в жизни. Она стояла в окружении своих детей. Ее красивые холодные глаза покраснели и напоминали окровавленные сверкающие льдинки. Господин Бернгейм был погребен в мраморном склепе. На широкой, с голубыми прожилками плите все его заслуги были перечислены строгими черными буквами — более солидными, чем в надписи «Сан-Суси» на фронтоне его особняка.
Однако печальный ангел, прислонившийся к кресту, был все же братом тех маленьких ангелочков, что украшали конек крыши дома Бернгейма.
Произведения
Критика