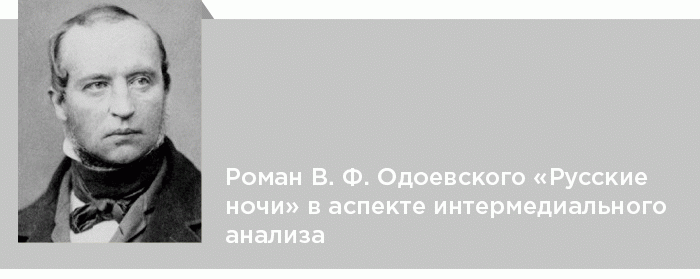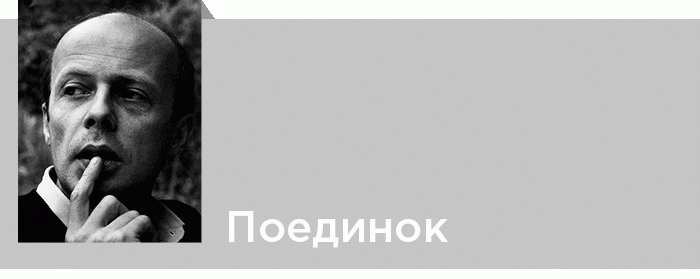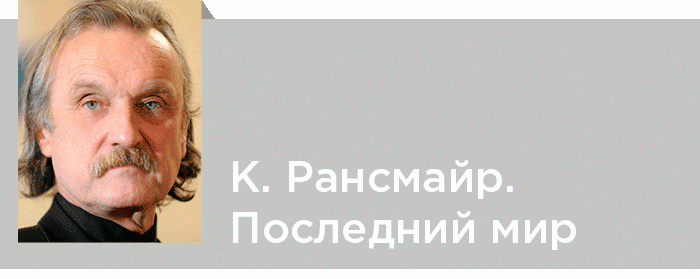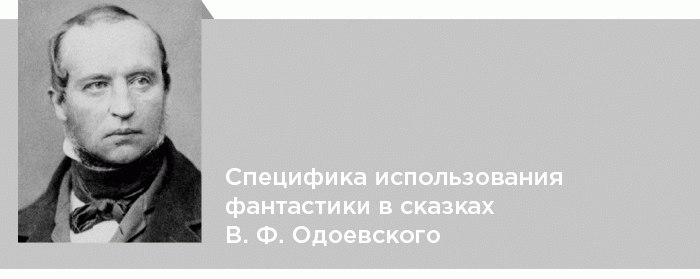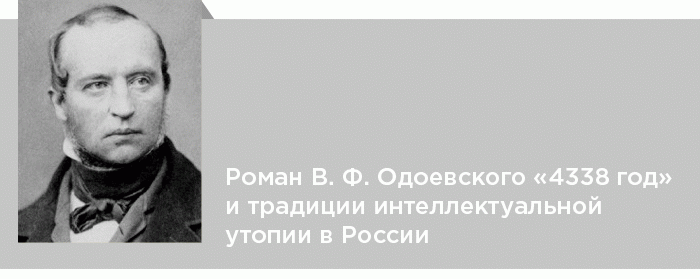Кристоф Рансмайр. Болезнь Китахары

(Отрывок)
Фрэду Ротблатту и памяти моего отца Рихарда Рансмайра
Глава 1.
Пожар в океане
Черные, лежали среди бразильского января двое мертвецов. Пожар, что уже много дней бушевал в дебрях острова, оставляя за собой полосы гари, высвободил трупы из путаницы цветущих лиан и заодно испепелил одежду на их ранах, а были это двое мужчин. Они лежали под сенью каменного карниза, на расстоянии нескольких метров друг от друга, меж стеблей папоротника, в нечеловечески вывернутых позах. Красная веревка, которая связывала одного с другим, спеклась от жара.
Огонь опалил мертвецов, выжег глаза, стер черты, потом, фыркая и треща, ушел прочь, но воротился, влекомый тягой собственного жара, и плясал на рассыпающемся прахе, пока ливень не вогнал пламя в чугунно-серую золу рухнувших каресмейровых деревьев и еще дальше – в нутряную сырость стволов. Там пожар угас.
Так и случилось, что третий покойник в пепел не обратился. Вдали от останков мужчин, под пологом воздушных корней и колышущихся побегов, лежала женщина. Худенькое ее тело, пропитание красивых здешних птиц, было сплошь исклевано и изъедено – целый лабиринт ходов прогрызли в нем жуки, личинки, мухи; они ползали по этой обильной пище, вились вокруг, отпихивали друг друга – шуба из шелковисто поблескивающих крылышек и панцирей; праздничный пир.
Пилот топографической службы, который на своем самолете с ревом кружил в ту пору над бухтой Сан-Маркус и, уходя от надвигающегося грозового фронта, вновь и вновь поворачивал к мысу Кабу-ду-Бон-Жезус, – этот пилот обратил внимание, что на скалистом острове, расположенном милях в десяти от Атлантического побережья, беспорядочно змеятся полосы гари, дымная сумасшедшая дорога сквозь джунгли. Топограф дважды прошел над пожарищем и закончил свое радиодонесение, полное треска атмосферных шумов, тем словом, что стояло на его карте под названием острова: Deserto. Необитаем.
Глава 2.
Моорский крикун
Дитя войны, Беринг знал только мирное время. Всякий разговор о часе его рождения был напоминанием о том, что первый крик он издал ночью, дождливой апрельской ночью, когда Моор единственный раз подвергсябомбардировке. Случилось это незадолго до подписания перемирия, которое после войны на школьных уроках истории называли не иначе как Ораниенбургским миром.
Эскадра бомбардировщиков, отходившая к побережью Адриатики, сбросила тогда во тьму над Моорским озером остатки своего бомбового груза. Мать Беринга, беременная, с отечными ногами, как раз несла от подпольного мясника мешок конины. Обеими руками она прижимала к себе тяжелое, мягкое, едва-едва обескровленное мясо и невольно думала о мужнином животе – и тут у самого озера взметнулся над прибрежными платанами исполинский огненный кулак, потом еще и еще… Она бросила мешок на дорогу и, не помня себя, побежала в сторону пылающей деревни.
Адское пекло пожара – ничего подобного ему по силе она в жизни не видала – уже опалило ей брови и волосы, когда чьи-то руки вдруг схватили ее, втащили в черноту какого-то дома и дальше, в глубины подвала. Там она разрыдалась и плакала до тех пор, пока судорогой не свело горло.
Среди заплесневелых бочонков, на несколько недель раньше срока, и явился в мир ее второй сын, а мир этот словно откатился вспять, в эпоху вулканов: под багровым ночным небом земля вспыхивала дрожащими отблесками огня. Днем фосфорные облака омрачали солнце, и в каменных пустынях пещерные жители охотились на голубей, ящериц и крыс. Шел пепловый дождь. А отец Беринга, моорский кузнец, был далеко.
Спустя годы этот отец, глухой к кошмарам ночи рождения сына, будет пугать семью, расписывая страдания, каких натерпелся в войну он, он сам. И у Беринга всякий раз – и сотый, и тысячный – пересыхало горло и саднило глаза, когда он слышал, что на фронте отец, истерзанный жаждой, на двенадцатый день боев напился собственной крови. Было это в Ливийской пустыне. У перевала Хальфайях. Ударная волна бронебойного снаряда швырнула отца на каменную осыпь. И когда в этом пекле, в этой пустыне по лицу вдруг побежала красная, на удивление прохладная струйка, отец по-обезьяньи выдвинул вперед нижнюю челюсть, сложил губы ковшиком и начал втягивать в себя жидкость, сперва оторопело, с отвращением, потом все более жадно: ведь в этом источнике было его спасение. Из пустыни он вернулся с широким шрамом на лбу.
Мать Беринга много молилась. Год от году война с ее погибшими уходила все глубже в землю и, наконец, исчезла под свекловичными полями и люпинами, а она по-прежнему слышала в летних грозах раскаты артиллерийской канонады. И ночами ей, как тогда, бывало, являлась Богородица и шептала на ухо прорицания и вести из рая. Когда священный образ угасал, и Берингова мать подходила к окну остудить лихорадочный трепет, она видела мрачный берег озера и черные волны невозделанных холмов, катящиеся к еще более черным горным кряжам.
Обоих Беринговых братьев семья потеряла; младший погиб, утонул в Моорском озере, ныряя в ледяную воду одной из бухт за клыками – так назывались затопленные, обросшие красными водорослями и пресноводными ракушками боеприпасы разбитой армии, медные пули, которые он камнями отколачивал от патронных гильз, просверливал и носил, точно клыки хищника, на шнурке вокруг шеи. А старший брат эмигрировал в Америку и сгинул где-то в лесах штата Нью-Йорк. Последней весточкой от него, полученной много лет назад, была открытка с видом Гудзона, чьи серые воды неизменно воскрешали и печаль по утонувшему.
Когда в годовщину смерти утонувшего сына мать Беринга пускала по волнам озера букетик голубых анемонов и зажженные свечи в деревянных плошках, один из плавучих огоньков всегда был памятью о польке Целине, которая пришла ей на помощь в ночь бомбежки.
Целина – ее вывезли из Подолии на принудительные работы – спряталась тогда в земляном подвале горящей винодельни и затащила в это безопасное место мать Беринга. Меж дубовых бочонков она постелила мешки и сырой картон и уложила на них рыдающую кузнечиху, у которой внезапно начались схватки, а после завязкой от фартука перетянула пуповину, перегрызла ее зубами и вином обмыла новорожденного.
Кое-как освещенное сальными свечками подземелье содрогалось от грохота разрывов, и полька, обнимая мать с младенцем, громко молилась Черной Ченстоховской Богоматери, а заодно все чаще прихлебывала скверное кислое вино и под конец вперемежку с короткой скороговоркой молитв и монотонными литаниями начала вершить суд над минувшими годами.
Теперешняя огненная буря – это кара, посланная Матерью Божией за то, что Моор вверг своих мужчин в войну и заставил их прошагать в страшных полчищах до Шоновиц, даже до Черного моря и Египта, возмездие за то, что ее жениху Ежи, улану, пришлось на берегах Буга идти в атаку против танков, а потом под гусеницами… его красивые руки… красивое лицо…
Царица Небесная!
Кара за спаленную Варшаву и за каменотеса Бугая, которого со всей его семьей и соседями пригнали на лесной двор к углежогам, чтобы они вырыли себе там могилу.
Матерь Божия, утешительница скорбящих!
Отмщение за поруганную честь невестки Кристины…
Пристанище грешников!
…и за скорняка Зильбершаца из Озенны… Два года прятался горемыка в известковой яме, потом кто-то выдал его, и вытащил оттуда, и в Треблинке навеки бросил в известь…
Владычица милосердная!
Воздаяние! за пепел на польской земле и растоптанные луга Подолии…
Так жаловалась и плакала полька Целина, когда наверху давно уже настала мертвая тишина, а мать Беринга от изнеможения уснула.
Моорские мужчины, шептала Целина в крохотные кулачки младенца, снова и снова прижимая их к губам и целуя, моорские мужчины поднялись против целого мира – и теперь этот мир в ярости Своей хлынет на здешние поля, как Страшный суд, со всеми живыми и мертвыми, ангелы с огненными мечами, калмыки из степей России, орды неприкаянных душ, которых без церковного утешения выбили из их бренных оболочек, призраки!.. И польские уланы в бешеной скачке, и евреи из Святой земли, бряцающие пулеметными лентами и штыками, и все, кому уже нечего было терять, все, кто не мог уже обрести иной веры, кроме веры в отмщение… Аминь.
Именно подневольная работница Целина Кобро из Шоновиц в Подолии стала в Мооре первой жертвой, что погибла четыре дня спустя под пулями батальона, прошедшего через деревню в победоносном наступлении. Виной всему была ошибка. В потемках трусоватый пехотинец принял закутанную польку, которая крадучись вела в поводу лошадь, за снайпера, за удирающего врага, дважды тщетно крикнул на непонятном языке: Стой! иТревога! – а потом выстрелил.
Первая же очередь полоснула Целину по груди и шее и ранила лошадь. Целина завязала коняге храп, а копыта обмотала тряпками, чтобы втихомолку отвести бесхозную животину из захваченной деревни в укрытие, в сосновую рощу, и тем спасти от конфискации или забоя; коняга этот был ее трофеем. Он, прихрамывая, бросился прочь, а Целина осталась лежать на замшелых камнях и приближающиеся беглые шаги пехотинца слышала уже как далекий, странно торжественный шум своей смерти: шелест листьев, хруст веток, глубокое, бездонно глубокое дыхание – и, наконец, сдавленный возглас, брань солдата, после чего все шорохи замерли и навсегда вернулись в лоно тишины.
Наутро Целину схоронили под обугленными привокзальными акациями, рядом с рабочим из моорской каменоломни, военнопленным грузином, который умер от голода всего через час-другой после того, как в деревню вошли победители.
Уже в первые недели после гибели Целины вроде как начали исполняться не только пророчества, слетевшие с ее губ в ту ночь, когда родился Беринг, но и сокровеннейшие ее мечты об отмщении, которыми она жила, все эти годы на чужбине.
Моорских жителей выгоняли из домов. Дворы побежденных приверженцев войны стояли в огне. Надзиратели из местной каменоломни, прежде наводившие панический страх, теперь волей-неволей молча сносили все унижения; на седьмой день после освобождения, в пятницу, двое из них качались на холодном ветру, с петлей на шее.
Моорских кур и тощих свиней гоняли по площади Героеви по черным от копоти полям, они стали теперь подвижными целями, на которых тренировались снайперы: расстреливали живность, а трупы швыряли собакам – в голодающем Мооре… А в одночасье потерявшие всякую ценность знаки отличия, ордена и бюсты героев, завернутые во флаги и никчемные уже мундиры, тонули в навозных ямах либо исчезали в чердачных и подвальных тайниках, и в огне их тоже сжигали, и в землю спешно закапывали. В Мооре властвовали победители. И какие бы жалобы на эту власть ни поступали в комендатуру, ответы и справки оккупационных войск сводились, как правило, лишь к ядовитым напоминаниям о жестокости той армии, в которой покорно несли службу моорские мужчины.
На перепачканных глиной ломовых лошадях разъезжали по деревне, понятно, не всадники Страшного суда, и из танковых люков и с открытых платформ армейских эшелонов смотрели не ангелы мщения и не призраки из пророчества Целины – но в бывшей общинной канцелярии, а ныне комендатуре водворился, первый в череде иностранных начальников, полковник из Красноярска, беловолосый сибиряк с бесцветными глазами; не в силах забыть своих убитых близких, он стонал в ночных кошмарах, а, назначая, нарочито нерегулярно, комендантский час, приказывал открывать огонь по всему, что об эту пору двигалось на улицах и в садах Моора.
Война кончилась. Но Моору, такому далекому от полей сражений, за один только первый мирный год суждено было увидеть больше солдат, чем за все унылые столетия прежней его истории. Порой казалось, будто на окруженных горами моорских холмах не просто осуществляются планы стратегического развертывания войск, а идут какие-то путаные титанические маневры, которым надлежит продемонстрировать именно здесь, в этой глуши, совокупную глобальную мощь: на изрытых полях и виноградниках Моора, на пустых дорогах и хлюпающих под ногами топких лугах в этот первый год наслаивались и пересекались оккупационные зоны шести разных армий.
На карте в комендатуре холмистый моорский край выглядел всего-навсего лоскутной выкройкой капитуляции. Соперничающие победители без конца вели переговоры, определяли и меняли демаркационные линии, передавали долины и трассы из благосклонных рук одного генерала в жестокие руки другого, делили изрытый воронками ландшафт, передвигали горы… Но уже через месяц новая конференция опять все перекраивала. Однажды Моор на две недели угодил во вдруг разверзшуюся между армиями нейтральную зону, был оставлен войсками – и снова оккупирован. Беринговская усадьба постоянно находилась в тисках переменчивых границ, однако всегда была не более чем жалкой добычей – закопченная кузница, пустой хлев, овечий загон, заброшенная земля.
Первые две недели после прекращения огня в Мооре распоряжались исключительно сибиряки красноярского полковника, потом они ушли, и в деревню вступила марокканская батарея под французским командованием. Настал май, но тепла все не было. Марокканцы забили двух дойных коров, спрятанных в развалинах моорской лесопилки, расстелили на мостовой перед комендатурой молитвенные коврики, а когда, к ужасу Беринговой матери, которая глазам своим не поверила, один изафриканцев выстрелом снес Мадонну кладбищенской часовни с золоченого деревянного облака, он остался безнаказанным, перуны небесные его не поразили.
Батарея стояла в деревне до середины лета, после чего ей на смену явился шотландский Хайлендский полк, гэльские снайперы, которые, по меньшей мере, раз в неделю отмечали годовщину каких-то незабвенных баталий – с торжественным подъемом флага, игрой на волынке и распитием темного пива; и, наконец, когда с немногих засеянных полей убрали урожай, и они снова лежали черные и голые, как и весь скованный морозом здешний край, шотландцев сменила американская рота – и начался режим майора из Оклахомы.
Майор Эллиот был человек своенравный. По его приказу к дверям комендатуры привернули большое зеркало, и каждого просителя или жалобщика из оккупированных районов он спрашивал, кого или что тот, входя в помещение, видит в этом зеркале. Если майор был рассержен или просто не в духе, он нудно повторял одни и те же вопросы, пока проситель, в конце концов, не говорил то, что комендант хотел услышать: мол, свинячью голову, щетину да копыта.
Впрочем, майор Эллиот не только подвергал деревню странным репрессиям – с этими унижениями побежденные в итоге примирились, сочтя их непонятными чудачествами, – в целом жить при нем стало полегче: безудержный, стихийный самосуд освобожденных подневольных рабочих и маршевых частей отступил перед военным законом армии-победительницы. В первую мирную зиму майор чуть не ежедневно издавал хотя бы один новый приказ, направленный на пресечение опасной анархии, – распоряжения насчет мародерства, саботажа, хищений угля. Сухопарый сержант, страстный поклонник бейсбола и немецкой поэзии XIX века, переводил параграфы новых уголовно-правовых норм на диковинный канцелярский язык, а затем приколачивал свое творение к доске объявлений в комендатуре.
Родная деревня нищала день ото дня, а Беринг, запеленатый в лоскутья флагов, лежал себе тем временем в бельевой корзине, подвешенной к потолочной балке, лежал и заходился криком, худенький, чесоточный младенец, лежал в своей пахнущей молоком слюнявой беспомощности – и рос. Пусть Моору суждено погибнуть – у сынишки пропавшего в пустыне кузнеца с каждым днем прибывало сил. Он орал – и его кормили, орал – и его брали на руки, орал – и кузнечиха, которая ночи напролет бодрствовала, качая колыбель и молясь Божией Матери о возвращении мужа, целовала его и тетешкала. Младенец не выносил твердой почвы, словно любой контакт с землей повергал его в ужас, и бушевал, не смыкая глаз, если измученная мать брала его из корзины в свою постель. Как ни старалась она унять его, как ни увещевала, он орал не своим голосом.
Первый год жизни Беринг провел в темноте. Еще долгое время после войны оба окна в его комнате оставались заколочены: хотя бы эту комнату, единственную в доме кузнеца, которую пощадила ночная бомбежка – ни трещин в стенах, ни следов пожара, – нужно было защитить от мародеров и жужжащих на лету железных осколков. В полях по-прежнему попадались мины. Вот так Беринг и покачивался, парил, плыл в своей темноте, иногда слыша в глубине под собою надтреснутые голоса трех несушек, спасенных в бомбежку из пылающего курятника и, в конце концов, вместе со всем мало-мальски ценным скарбом запертых в невредимой комнате.
Квохтанье и шебаршение кур в их проволочной клетке неизменно слышались в беринговской темноте куда громче любого внешнего шума. Рев танков, маневрирующих на лугах, и тот проникал сквозь забитые окна к люльке младенца глухо, как бы из дальней дали. Беринг, летун среди крылатых пленниц, пожалуй, любил этих кур, и когда одна из них ни с того ни с сего, хлопая глазами и дергая головой, подавала голос, он, бывало, обрывал даже самый отчаянный крик.
Мать ходила по дворам, а иной раз целыми днями скиталась из одной деревни в другую, выменивала болты, подковные гвозди, а, в конце концов, и спрятанный в подвале кузницы сварочный аппарат – на хлеб, мясо или банку плесневелого джема; тогда за Берингом присматривал старший брат, вспыльчивый, ревнивый подросток, люто ненавидевший крикливый сверток в колыбели. В бессильной ярости он терзал насекомых, ночных бабочек и тараканов, выгонял их из щелей в деревянной обшивке стен, отрывал одну за другой тоненькие ножки и швырял искалеченных тварей под братишкину корзину, курам, а после таких кормежек, вооружившись зажженной свечой, поднимал среди несушек панику. Не шевелясь, Беринг прислушивался к голосам страха.
Даже спустя годы петушиный крик будил в нем непонятные, загадочные ощущения. Нередко это был меланхолический, бессильный гнев, который не имел определенного адреса и все же более, чем всякий звериный или человечий звук, связывал его с родным домом.
Мать Беринга уверовала в небесное знамение и с ужасом вынесла куриную клетку вон из комнаты, когда снежным февральским утром младенец – он целый час вел себя спокойно, только внимательно прислушивался – снова раскричался и голос его походил на кудахтанье курицы: крикун квохтал, словно несушка! Крикун размахивал руками, высовывал из корзины скрюченные белые пальчики – словно птичьи когти. И голову вроде как рывками поворачивал…
Крикун думал, что он птица.
Глава 3.
Вокзал у озера
В ту сухую осень, когда моорский кузнец вернулся из Африки и из плена, Беринг умел произнести десятка три слов, но гораздо больше ему нравилось копировать птичьи голоса, множество птичьих голосов, да так похоже – онбыл курицей, и горлинкой, и сычом. Шел второй мирный год.
Накарябанная на открытке полевой почты весточка о приезде отца преобразила кузницу: за каравай хлеба беженец из Моравии заштукатурил щели и побелил стены, и заколоченные окна беринговской комнаты наконец-то опять открылись. Теперь шум внешнего мира обрушился на Беринга со всей своей силой. Младенец кричал от боли. Уши, сказал моравец, окуная кисть в известку и щедро замазывая побелкой пятна копоти, у ребенка слишком чуткие уши. Слух очень уж тонкий.
Беринг заходился криком, и утихомирить его было невозможно – он, и правда, будто спасался бегством в собственный голос, искал у голоса защиты… будто собственный крик и правда был терпимее – не такой пронзительный и резкий, как грохот мира за открытыми окнами. Крикун еще не сделал первого шага в этот мир, но, кажется, давно почувствовал, что, имея тонкий слух, куда лучше искать прибежища в голосе птицы, нежели в грубом рыканье людей: промежуток от низов до верхов животной песни заключал в себе всю бестревожную защищенность, о которой можно тосковать в расколотом доме.
Когда моравский беженец ушел из кузницы, из побеленных, еще не просохших комнат, там остался запах тухлой воды – и ублаготворенный ребенок. Мать Беринга, вняв совету моравца, за две рюмки шнапса купила у него восковые пробки, про которые он сказал, будто отлиты они из слез метеорских свечей – целительных свечей пещерных обителей Метеоры! – и теперь, как только сын принимался орать, затыкала ему уши.
Моорский кузнец приехал домой на праздник урожая, в зараженном дизентерией эшелоне. У озера, в руинах вокзала, освобожденных дожидалась густая толпа. На железнодорожных насыпях царила мрачная тревога. В приозерье ходили упорные слухи, что этот эшелон – последний в Мооре, железная дорога будет демонтирована.
День выдался пасмурный, земля белела первым инеем, и холод резко пах сожженной стернею полей. В октябрьской тишине давно уже слышалось мало-помалу приближающееся ритмичное пыхтение паровоза, и вот, наконец, над тополями возле пруда, где разводили карпов, появился и пополз к озеру желанный шлейф дыма.
Беринг, щупленький полуторагодовалый мальчик, крепко держался за материнскую руку, он был в самой гуще толпы, невидимый среди множества ног, пальто – и плеч, то смыкавшихся над ним, то снова размыкавшихся; однако ж он раньше других различил вдали пыхтение поезда и навострил уши. А звук приближался – загадочное, никогда еще не слышанное дыхание.
Поезд, который буквально шагом въехал, наконец, в разбомбленный дебаркадер, состоял из закрытых «телятников» и на первый взгляд походил на те скорбные, битком набитые подневольными рабочими и пленнымиврагами эшелоны, что в годы войны, как правило, на рассвете, вползали в моорскую каменоломню. Такой же стон доносился из вагонов, когда состав тащили к берегу, на запасный путь, и там он с металлическим лязгом останавливался у тупикового бруса. Такой же смрад бил в нос, когда, наконец, раздвигались двери. Только на сей раз вдоль насыпей стояли не вооруженные до зубов надзиратели в мундирах и не горластая полевая полиция, а всего лишь несколько скучающих пехотинцев из роты майора Эллиота, которым было приказано только наблюдать за этим спектаклем – прибытием эшелона.
Вагоны замерли без движения, но тотчас в движение пришла толпа. Сотни людей, сбросив груз многолетнего ожидания, кишели вокруг эшелона, точно вокруг исполинского, наконец-то убитого зверя. Невнятный их говор набрал силу, стал громким криком. В большинстве они были такие же истощенные и оборванные, как и те бывшие солдаты, что, пошатываясь словно пьяные, ладонями прикрывая глаза от света, без вещей, вылезали теперь из вагонов. Море приветно машущих рук, одинаковые серые пятна лиц, неузнаваемые в ослеплении. Растрепанные цветы и фотографии пропавших без вести – точно козыри в карточной игре со смертью; имена, просьбы, мольбы:
Ты видел вот этого человека, моего мужа?
А моего брата не видел, может, знаешь его…
Он-то с вами ли…
Наверняка с вами…
Вы же из Африки…
…Толкотня, давка, пока уже нашедшие друг друга обнимаются, что-то бессвязно шепча или не говоря ни слова, но вот они, в конце концов, делают вместе первые шаги, уходят из войны – и тут же опять начинают орудовать локтями и кулаками, чтобы в числе первых добраться до зала ожидания, над которым нет крыши. Говорят, там можно разжиться хлебом.
В этом зале под открытым небом стоит майор Эллиот, уронив руки по швам, рядом с моорским секретарем, за ними – духовой оркестр в штатском, который по знаку секретаря играет сперва медленную старинную песню, а уж потом – марш. На слух заметно, что оркестр в неполном составе. Кларнет всего один. А труба вообще отсутствует.
Потом наступает тишина. Кто именно произносит речь там, под двумя флагами, с перрона разглядеть невозможно. Динамики, укрепленные на деревянных столбах, разносят слова оратора над рельсами, над головами, над озером.
Мы рады вашему возвращению… родина в развалинах… будущее… и мужайтесь!
Кому теперь охота слушать речи. Берингу физически больно от вылетающих из динамиков нестройных визгливых звуков, которые представляются ему одним противным грохотом.
Оратор умолкает – и снова музыка, писклявый напев цитры и аккордеон, как в довоенных ресторанчиках; потом певица, она дважды сбивается, поскольку то ли плачет, то ли чихает – не поймешь.
Музыканты, певцы, ораторы и сам майор Эллиот исчезают в толпе. Официальная встреча завершена. Только теперь эшелонным бедолагам выдают хлеб и сухое молоко – недельный рацион; секретарь ведет списки и подписывает накладные. Некоторые обладатели пайков уже не в силах держаться на ногах и, скорчившись, оседают на колени. Каждый волен идти куда хочет, впервые за много лет – куда хочет. Но куда?
Кузнечиха стоит как потерянная среди этой суматохи, за одну ее руку цепляется Беринг, за другую – его брат, который по обыкновению злится, но помалкивает, опасаясь, что мать приведет в исполнение свои угрозы. Беринг тоже не раскрывает рта. В ушах у него еще вовсю пыхтит паровоз.
Кузнечиха не размахивала фотографией. Толпа увлекала ее и мальчишек то в одну сторону, то в другую, и она не сопротивлялась. Потому что знала, потому что отчаянно хотела верить, что на сей раз ее ожидание в черных стенах моорского вокзала не будет напрасным. Она пришла с цветами, Берингов брат сжимает их в кулаке. Цикламены, сорванные возле запруды.
С детьми кузнечиха не может, как другие, пробиваться сквозь толпу. Она и он вообще никогда не спешили навстречу друг другу, подходили нерешительно, порой даже стыдливо и смущенно. Потом война намела между ними песчаные барханы Северной Африки, расплескала целое море. Они ведь не успели толком познакомиться.
Но как прежде, так и теперь кузнечихе приходится ждатьего. Ждать в гуще толпы, и вставать на цыпочки, и осматриваться, пока на холодном озерном ветру не начинают болеть глаза и по щекам не текут слезы.
Она не знает, что плачет, не слышит, что повторяет имя кузнеца, вновь и вновь, точно заклинание. Беринг льнет к ногам матери, ошарашенный первой в жизни толпой и бешеным пульсом, который чувствует в руке, сжимающей его ладошку.
После раздачи хлеба суматоха вокруг возвращенцев стала беззаботнее, прямо-таки повеселела; маленькие группки, обнявшись, одна за другой выбирались из толчеи, слышался смех, подъезжали телеги и даже грузовик. Эллиотовские солдаты изъяли у какого-то горлана возницы запрещенный флаг – полотнище разорвали, мужика затолкали в свой джип. Никто почти не обратил на это внимания. Лишь перепачканная глиной кудлатая собака арестованного с лаем металась вокруг машины, норовя куснуть хозяйских недругов, и отстала, только когда один из солдат огрел ее по голове прикладом.
Не измерить,
не измерить время, которому суждено пройти до той минуты, когда плечи и головы в вышине над Берингом исчезают и толпа редеет. Будто судорожное, успокоившееся теперь дыхание расчистило место – мать внезапно тянет Беринга и его брата прочь.
Наконец-то и кузнечиха может пройти вперед, туда, где среди серого дня еще стоит множество серых фигур, так и не смешавшихся с ожидающими. Дважды ей мнится, что она нашла потерянное и такое знакомое лицо, и дважды это лицо оказывается чужим; только спустя целую вечность она видит кузнеца – совсем рядом, без малого в трех метрах. Сердце у нее колотится как безумное, отнимая все силы, и она чувствует, что уже готова была примириться с тщетностью поисков.
Исхудалый человек – это и есть кузнец – остановился так резко, что идущий следом с размаху ткнулся ему в спину. Устояв на ногах, он смотрит на нее. Оброс бородой. На лице черные пятна. В ее воспоминаниях он и такой, и совершенно не такой. О шраме на лбу ей известно из письма с фронта. Но лишь сейчас она пугается. Что же это была за война, на которой он так долго пропадал и с которой теперь вот так возвращается? Она уже не помнит. Полмира погибло вместе с Моором, это она помнит; помнит и что с полькой Целиной и четырьмя коровами ее собственной усадьбы исчезла в земле и в огне половина человечества. Пресвятая Дева Мария! Но из всех пропавших он единственный когда-то держал ее в объятиях. И он вернулся домой.
Сыновья робеют. Брат упорно не желает вспомнить этого человека, а Беринг еще никогда не видел его. Сыновья цепляются за мать, у нее же руки теперь заняты, как у всех счастливцев в руинах вокзала.
Так они и глядят друг на друга, сыновья – на страшного незнакомца, незнакомец – на мать, и на брата, и на Беринга. Все молчат. А потом незнакомец делает шаг, который исторгает у Беринга вопль ужаса. Исхудалый человек показывает на него, медленно делает два шага, хватает его под мышки, забирает от матери – к себе на руки.
Беринг чувствует: в этом человеке не иначе как живет то дыхание, что слышалось ему издалека. А сейчас перед глазами – шрам на лбу кузнеца, рана, из-за которой этот, наверно, и стал таким одышливым и тощим, и Беринг истошно вопит наверху, на отцовских руках, выкрикивает слова, которые должны сказать матери – она у него за спиной, – чем этот так его пугает, он вопит
Кровь!
вопит
Воняет!
и бьется в руках исхудалого, и знает, что слова не помогут. Мать – всего лишь тень далеко за спиной.
Так проходит секунды три-четыре, и внезапно Беринг чувствует, как что-то дергает, рвет его крик и словно молотком вколачивает обрывки голоса в самую верхушку головы, и, наконец, он вновь слышит из собственных уст тот, другой, хранящий голос, который пронес его сквозь тьму первого года, – и квохчет, квохчет на руках у отца! Квохчет неистово, безумно – перепуганная курица, хлопающая руками-крыльями, до смерти перепуганная птица, которую исхудалый мужчина не в силах удержать. Трепыхаясь, она падает наземь.
Глава 4.
Каменное море
Через три недели после возвращения кузнеца поезд свободы все еще стоял в тупике. Из открытых настежь «телятников» разило мочой и дерьмом, в прелой соломе ворковали голуби, на которых охотились беженцы, обитавшие в палатках возле насыпи, – стреляли из рогаток, ловили сетями. Глубокие колеи приозерной дороги уже поблескивали в эти дни первым ледком, коробейники стучались в двери и окна, но даже за опущенной железной ставней моорской колониальной лавки качались на сквозняке одни только сухие пучки лаванды – и майор Эллиот, удовлетворив прошение кузнеца, на время выделил этому «возвращенцу» сварочный аппарат из армейского имущества.
Первые вспышки и отсветы огня из вновь открытой кузницы, а вслед за ними – оглушительные удары молота по тяжелым дышлам, сетчатым загородкам хлевов и флюгерам; и железная, докрасна раскаленная дубовая ветвь тоже плясала по наковальне – первый заказ вновь созданного Союза ветеранов. Кузнец разговаривал сам с собой, жалобно стонал во сне, но в шуме своих трудов нет-нет, да и начинал вдруг напевать, солдатские песни или просто ля-ля-ля, а Беринг между тем все еще не оправился от падения из отцовских рук. Голова в бинтах, как в тюрбане, отчего лицо казалось крохотным и совсем уж птичьим.
Впрочем, кузнецу этот грязный тюрбан на голове сынишки напоминал только о фронте, о пустыне, и он рассказывал про барханы, под которыми погибали усталые конвои, рассуждал за кухонным столом про летучие пески – предвестья бури, которые сотнями фонтанов и фонтанчиков в одну секунду взметались в воздух и тотчас опадали, а при этом звенели, будто иголочки сыпались на стеклянную землю… Живописал он и оазисы, дарившие приют каравану, прежде чем тусклое солнце гасло в песчаных тучах.
Однако, невзирая на все отцовы старания растолковать семейству, что такое пустыня, невзирая на все попытки изобразить гримасы дромадера или хохот гиен, Беринг так боялся исхудалого мужчины в постели у матери, что неделями не говорил ни слова и даже птичьих криков не издавал.
Шло время, а поезд, на котором приехал исхудалый мужчина, – девять вагонов да паровоз с тендером – все стоял в руинах моорского вокзала, словно выпавший из расписания, забытый всеми властями и комендатурами, и, как видно, не суждено ему было покинуть эту конечную станцию.
Безоблачным морозным днем прибывшая с равнины американская инженерная колонна начала разборку путей. Будто в знак особой кары, первые удары кувалды обрушились на пост централизации, пресловутое моорское распутье, снискавшее себе печальную славу в каменоломне, среди подневольных рабочих. Это распутье – стрелка, спрятавшаяся в зарослях глухой крапивы, мяты и куманики, – в войну делило все составы, подходившие к моорскому берегу, на белые и слепые.
Белые поезда и в войну привозили к озеру тех же пассажиров, что и в мирное время: курортников со свистящим астматическим дыханием, тучных подагриков, покупателей на рыбный рынок, открытый по вторникам, и «челноков» с равнины. Где-то далеко шли бои, а в Мооре становилось все больше отпускников с фронта и тяжелораненых офицеров, которые доживали последние свои дни в полосатых шезлонгах под тентами «Гранд-отеля». Для белых поездов стрелку всегда переводили вправо, и они катились по отлогому спуску к конечной станции – моорскому вокзалу.
Слепые составы до этого вокзала не добирались никогда. Слепые, потому что без окон, потому что без табличек, из Ниоткуда в Никуда. Слепые – запертые товарные вагоны и «телятники» эшелонов с военнопленными. Только на площадках вагонов, в тормозных будках, а иногда на закопченных крышах виднелись люди – надзиратели, солдаты. Для таких поездов стрелку с лязгом переводили налево. Потом они тоже катились под уклон, к пыльному берегу, смутно вырисовывающемуся вдали. К берегу каменоломни.
С опорного каркаса разбитой артобстрелом наблюдательной вышки, что находилась возле распутья, открывался великолепный вид на озеро. Десятилетия спустя Беринг, пленник Бразилии, вспомнит этот пейзаж как образ родины: казалось, там, внизу, лежал зеленый фьорд, сверкающий на солнце морской рукав. Или это была река, что за долгие зоны пробила себе русло в камне и теперь, укрощенная, ползла по каньонам собственного упорства? Меж лесистых и голых склонов змеилось это озеро далеко в глубь гор, пока не упиралось в скалистые кручи бездорожной глухомани.
Если смотреть с другого берега, в ясную погоду террасы каменоломни казались всего лишь огромными светлыми ступенями, ведущими из облаков вниз, к воде. А в вышине, где-то над вершиной этой исполинской гранитной лестницы, высоко над пыльными тучами от взрывных работ, над просевшими кровлями барачного лагеря при камнедробилке и над следами всех пыток, выстраданных на Слепом берегу, начинался дикий край.
В том мире, который открывался взгляду из Моора, не было ничего мощнее и величавее гор, вздымавшихся над каменоломней. Каждый поток, что, струясь по галечному ложу, сбегал с ледников и терялся в туманной дымке, каждая пропасть и щель каньона, над которой мельтешились галочьи стаи, уводили в глубь каменного лабиринта, где любой свет обращался в тени – пепельно-серые, и синие, и окрашенные всеми цветами неорганической природы. На большой, во всю стену, карте, что висела в комендатуре, имя этих гор, написанное поверх обозначений высот и причудливых линий изогипс, было обведено красным: Каменное Море. Запретное, бездорожное, заминированное на всех перевалах, раскинулось это Море меж зонами оккупации – голая, погребенная под глетчерами ничейная земля.
Когда дождевые шквалы атлантического циклона туманили панораму озера, горы с их снегами, не тающими даже в разгар лета, подчас были совершенно неотличимы от косматых хмурых туч. В такие дни Каменное Море как бы расплывалось, представая взору нечетким барьером из скал, облаков и льда, – и неизгладимо в памяти Беринга запечатлелась на этом барьере надпись:
Здесь лежат убитые –
числом одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три,
и убили их уроженцы этой земли.
Добро пожаловать в Моор
На пяти незасыпанных ступенях гранитного карьера, на пяти неровных циклопических строчках, по приказу майора Эллиота была поставлена – сооружена! – эта надпись, над которой в принудительном порядке трудились и каменотесы, и строители. Каждая буква в рост человека. Каждая буква как отдельная, скрепленная цементом скульптура из обломков лагерных бараков, из опор сторожевых вышек и железобетонных осколков взорванного бункера… Так Эллиот превратил в памятник не только заброшенный карьер приозерной каменоломни, но и сами горы.
Конечно, обитатели Моора, Ляйса, Хаага и других береговых деревушек пытались возражать против этой надписи в карьере – рассылали протесты, заверяли в своей невиновности, даже провели на набережной жиденькую демонстрацию и перед саботажем не остановились: дважды обрушивались украдкой подпиленные подмости вокруг букв, а как-то ночью превратилась в обломки длинная, почти сорокаметровая строка, сообщавшая число убитых, – смотреть на нее было невмоготу.
Но Эллиот был комендант. И достаточно зол и силен, чтобы не бросать слов на ветер: он пригрозил, что за каждый следующий акт саботажа велит сделать на обрывах, холмах и стенах домов новые обвинительные надписи, еще похуже этой. И, в конце концов, огромные буквы в карьере стали во весь свой рост, корявые, выкрашенные известкой, заметные издалека, стали плечом к плечу, как пропавшие без вести моорские солдаты, как строй подневольных рабочих на поверке, как победители под знаменами своего триумфа. И какова бы ни была увековеченная в них страшная цифра, никто не подвергал сомнению, что в каменных осыпях и проросшей корнями елей и сосен земле у подножия надписи лежали мертвецы из барачного лагеря при камнедробилке.
Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три… Конфискованные лагерные книги записи смертей, бесконечные перечни имен, выведенные почерком, похожим на орнамент из ножевых клинков, Эллиот держал под замком в сейфе комендатуры и, пока был у власти, доставал их оттуда только в годовщины Ораниенбургского мира, но впервые он это сделал в те дни, когда в карьере сооружали надпись. Целую неделю лагерные книги лежали тогда под охраной военной полиции в стеклянной витрине у пароходной пристани, открытые, выставленные на всеобщее обозрение, а на фонарных столбах вдоль набережной хлопали на ветру черные флаги.
Когда в последний день этой выставки прибыла инженерная колонна и, уничтожив «моорское распутье», начала превращать железнодорожную насыпь в пустой, никчемный вал, мать Беринга заткнула воском чуткие уши сына: лязг цепей и сорванных рельсов гулко разносился по деревушке и окрестному прибрежью.
Перепуганные этим лязгом и буханьем кувалд, за какой-то час к насыпи сбежались сотни людей. И становилось их все больше. Столбы дыма от костров, в которых сгорали просмоленные деревянные шпалы важнейшей магистрали, связывавшей Моор с равниной и большим миром, были видны из таких, дальних деревень, как Ляйс или Хааг.
Возмущенная толпа грозила солдатам кулаками, выкрикивала вопросы, проклятия. Сейчас, на самом пороге зимы, сбывались наихудшие слухи о закрытии железной дороги. Закрытие! Моор вновь отброшен на проселок! Отрезан от мира.
Солдаты невозмутимо срывали рельсы, один за другим, и сваливали на грузовые платформы, которые затем оттаскивали паровозом чуть дальше от озера. Товарняк потихоньку отползал к равнине, забирая с собой свою дорогу.
Возмущение и растерянность Моора, казалось, только раззадорили солдат. Несмотря на холод, некоторые скинули френчи и рубахи, будто надрывали пуп в летнюю жару, и выставили на обозрение свои татуировки: чернильно-синие орлиные головы и птичьи крылья на плечах, синих русалок, синие черепа и скрещенные огненные мечи.
В ответ на крик и брань толпы один из татуированных соорудил из двух ломиков подобие ножниц и принялся отплясывать – во все более узком пространстве между своими товарищами и населением приозерья. Он притопывал и кружился, затянул что-то жалостное и разыграл гротескную пантомиму, изобразив, будто ножницы перерезают ему горло. Неотрывно глядя на зрителей, он завывал все громче и мало-помалу перешел на крик, в котором моорцы распознали собственный исковерканный язык: Тыквудолой-тыквудолой-тыквудолой!
Двое-трое приятелей плясуна подхватили: Ву-до-лой! Ву-до-лой! – отбивая такт кирками, лопатами и кувалдами.
Внезапно в воздухе просвистел камень. И еще один. А секунду спустя ярость взметнулась с насыпи градом щебня и обрушилась на татуированных полуголых солдат. Но еще в тот миг, когда были брошены первые камни, начальник караула, сержант, успел выпустить над головами предупредительную автоматную очередь.
В тишине, мгновенно воцарившейся вокруг, были слышны только шаги коменданта. Майор Эллиот соскочил с грузовой платформы, оттолкнул сержанта, стал между притихшей толпой и готовыми к контратаке татуированными – и устроил разнос. Кричал он долго – что-то про начало, про первый шаг, и поминутно повторял одно и то же странное слово. Это было имя, которого здесь еще не слыхали: Стелламур.
Произведения
Критика