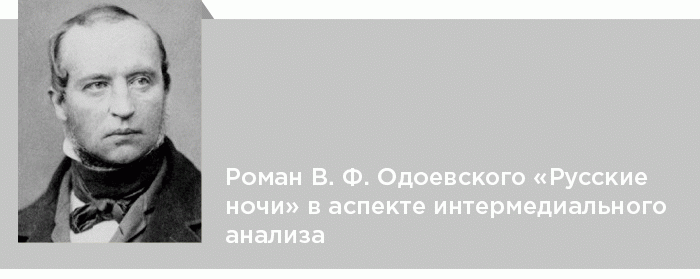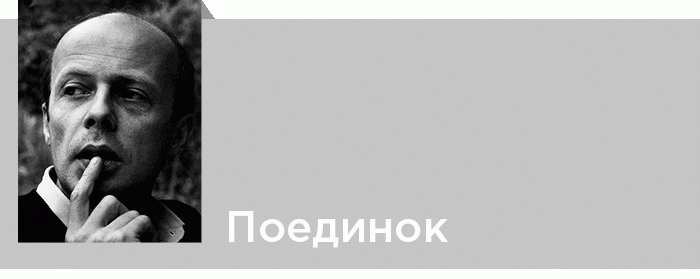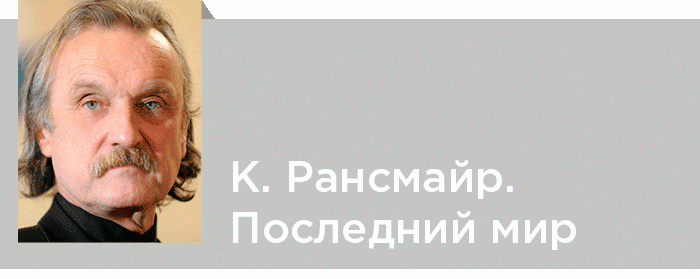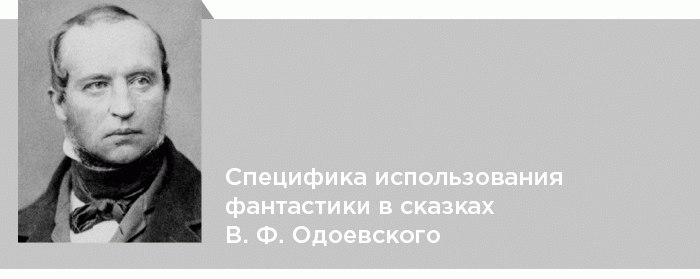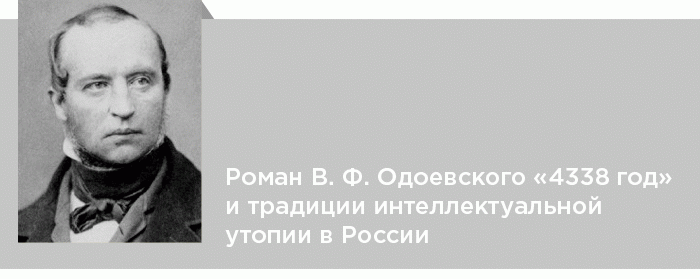Кристоф Рансмайр. Последний мир
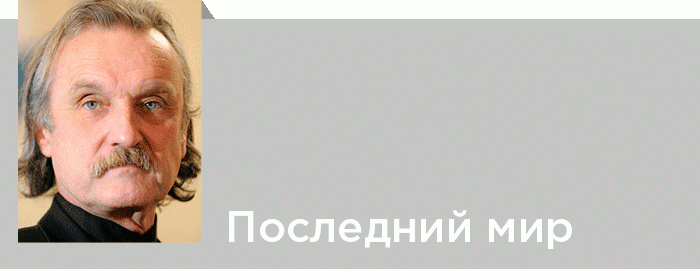
(Отрывок)
Посвящается Андреасу Тальмайру
Глава первая
Буря — птичья стая высоко в ночи, белая стая, которая, с шумом приблизившись, неожиданно обернулась верхушкой исполинского вала, налетевшего на корабль. Буря — крики и стоны во тьме под палубой и кислая вонь блевотины. И еще — пес, обезумевший средь опрокидывающихся водяных гребней и порвавший сухожилия одному из матросов. Рана окуталась пеной. Буря, путь в Томы. Хотя Котта и днем, во все более дальних закоулках корабля, пытался бежать от своей беды в беспамятство или, по крайней мере, в сны, он глаз не смыкал ни в Эгейском, ни в Черном морях. Едва лишь изнеможение начинало внушать надежду на сон, он затыкал уши воском, завязывал глаза синим шерстяным шарфом, ложился и считал свои вдохи и выдохи. Но штормовые волны поднимали его, и корабль, и весь мир высоко над соленою пеной пути, одно летучее мгновенье держали все на весу, а затем вновь роняли мир, корабль и его, изнемогшего, в водный провал, в бодрствование и страх. Никто не спал.
Семнадцать мучительных дней пережил Котта на борту «Тривии». А когда он апрельским утром наконец покинул шхуну и, стоя на пристани, до блеска отмытой волнами прибоя, повернулся к стенам Томов, обомшелым стенам у подножия береговых круч, его так зашатало, что двое матросов, смеясь, подхватили его под руки и довели до кучи драного такелажа возле конторы портового смотрителя. Там Котта лежал среди запахов рыбы и смолы, пытаясь унять море, все еще бушевавшее у него внутри. По пристани катились заплесневелые апельсины из груза «Тривии» — память о садах Италии. Утро было холодное, без солнца. Черное море лениво набегало на Томский мыс, разбивалось о рифы или гулко ударяло в отвесно встающие из воды скалы. В иных бухточках прибой выбрасывал на берег покрытые мусором и птичьим пометом льдины. Котта лежал, и смотрел, и не пошевелился, когда тощий мул принялся жевать его пальто. Мало-помалу море внутри успокаивалось, волны опадали одна за другой, и его сморил сон. Он добрался до цели.
Томы, глухомань. Томы, край света. Томы, железный город. Кроме канатчика, который сдал чужаку неотапливаемую, увешанную яркими гобеленами комнатушку в мансарде своего дома, почти никто здесь не обратил внимания на приезд Котты. Лишь исподволь и, против обыкновения, без красочных подробностей за чужаком пополз слушок, который в иные времена, возможно, стал бы поводом для враждебных выходок: чужак, зябнущий вон там, под аркадами, чужак, списывающий расписание автобусов на изъеденной ржавчиной остановке и с непонятным терпением увещевающий брехливых собак, — этот чужак явился из Рима. Но Рим в эти дни был далек как никогда. Ведь Томы отвернулись от мира, чтобы отпраздновать окончанье двухлетней зимы. На улицах шумела духовая музыка, ночи полнились гомоном гостей — крестьян, собирателей янтаря и свинопасов, пришедших из уединенных селений и самых дальних горных долин. Канатчик, который даже в морозы ходил босой и только в особых случаях совал грязные ноги в башмаки и тогда при каждом шаге громко скрипел ими в тишине дома, — канатчик на эти дни обулся. В темных, крытых сланцем дворах меж террасных полей возле города пекли сладкий хлеб с шафраном и ванилью. По крутым прибрежным тропам тянулись процессии. Оттепель. Впервые за два года каменистые склоны, стекающие из облаков между скальными гребнями, утесами и острыми зубцами, очистились от снега.
Из девяти десятков городских домов многие в ту пору уже пустовали, разрушаясь и исчезая под покровом ползучих растений и мха. Казалось, дома целыми порядками постепенно вновь возвращались в лоно прибрежных гор. И все же по крутым улочкам еще тянулся дым из печей рудоплавов, которые давали городу низкосортное железо — единственное, чего здесь от веку было вдоволь.
Железными были двери, железными — оконные ставни, ограды, коньки крыш и узкие мостики через бурную речку, которая делила Томы на две неравные части. И все это разъедал соленый ветер, разъедала ржа. Ржавым был цвет города.
В домах хлопотали рано стареющие, неизменно одетые в черное женщины, а в штольнях высоко над крышами, высоко на кручах трудились покрытые пылью, изможденные мужчины. Выходя в море за рыбой, здесь проклинали пустые воды, а засевая поля — вредителей, мороз и камни. Лежа ночами без сна, слышали, бывало, волчий вой. Томы были столь же унылы, столь же стары и лишены надежды, как и десятки иных приморских городов, и Котте казалось странным, что в этом поселке, одинаково беззащитном перед морем и горами, так крепко опутанном своими обычаями, так бедствующем в тисках холода, нищеты и тяжкого труда, вообще могло происходить что-то, о чем говорили в далеких салонах и кафе европейских метрополий.
Весть из железного города, по следу которой так долго шел он сам и, несомненно, пойдут другие, настигла Котту на застекленной веранде в одном из домов на римской виа Анастазио — светская болтовня среди бегоний и олеандров. Виды Томов, фотографии дымных улиц, развалин, утонувших в бурьяне, и ледяных заторов на реке, были в тот зимний вечер как нельзя более подходящим обрамлением для новости, которая без этого украшения, пожалуй, прозвучала бы слишком сухо и неубедительно. Весть эта затем растеклась вширь, будто ручеек на крутой дороге к пристани, разветвилась, тут и там побежала быстрее, зажурчала на разные голоса, в иных же местах, где не знали таких имен, как Томы, Назон или Трахила, остановилась и иссякла.
Но, преображаясь, обрастая красотами, а не то слабея и даже наталкиваясь на полнейшее неприятие, эта весть все равно оставалась лишь коконом для одной-единственной фразы, таила ее в себе, точно куколку, о которой никто ведать не ведал, что из нее в конце концов вылупится. И фраза эта гласила: Назон умер.
Поначалу ответы, услышанные Коттой в Томах, были бессвязны и нередко попросту сводились к воспоминаниям обо всем, что здесь бывало странного и удивительного. Назон?.. Не тот ли это сумасшедший, который время от времени заявлялся сюда с пучком удочек и даже в метель сидел на скалах в холщовом костюме? А вечерами пьянствовал в погребках, играл на гармонике и горланил среди ночи?
Назон… Ну как же, это ведь лилипут, в августе он приезжал со своим фургоном в город и, как стемнеет, показывал на белой задней стене бойни шумные фильмы про любовь. Между сеансами он продавал эмалированную посуду, кровоостанавливающий квасцовый камень и турецкий мед, а собаки выли под музыку из его динамиков.
Назон. Только через неделю после приезда Котте встретились воспоминания, от которых повеяло чем-то знакомым. Терей, мясник, — голос у него был могучий, громовой, быков заглушал, когда они, с кожаной повязкой на глазах, истошно ревели, лишенные последнего взгляда на мир; и вдова торговца колониальными товарами, Молва, — она без конца приколачивала к полкам в своей лавке крапивные гирлянды, чтобы страдающий падучей сын-подросток не совался к запечатанному в красные обертки мылу, пирамидам консервных банок и склянкам с горчицей. Обжегши пальцы об эти гирлянды, эпилептик так пронзительно орал, что в соседних домах с лязгом захлопывали ставни… Терей, Молва или вот еще Арахна, глухонемая ткачиха, которая читала вопросы по губам чужестранца и в ответ качала головой либо кивала, — все они хорошо помнили, что Назон был римлянин, ссыльный, поэт, обосновавшийся со слугою-греком в Трахиле, заброшенном селенье в четырех-пяти часах ходьбы на север от города. Публий Овидий Назон,несколько раз выпалил эпилептик следом за матерью, многозначительно произнесшей это имя, когда однажды дождливым днем Котта стоял в полутемной лавке.
Ну конечно, Назон, римлянин этот. Жив ли он еще? Где похоронен? А что, разве есть такой закон, который обязывает беспокоиться о римлянине, сгноившем себя в Трахиле? Закон, по которому надлежит отвечать на вопросы одного чужестранца о местопребывании другого? На этих берегах жили и умирали скрытно, под камнями, словно мокрицы. В конечном счете Котта узнал не многим более того, что на краю земли не любят разговаривать с приезжими из Рима. Вот и Ликаон, канатчик, тоже помалкивал. В письме, спустя долгие месяцы добравшемся до виа Анастазио, было написано: Мне здесь не доверяют.
В один из последних апрельских дней Котта отправился в Трахилу. У самой воды, на берегу, усеянном ракушками, звенящем от каждого шага, ему встретилась процессия, взывавшая к какому-то всемогущему божеству с незнакомым именем, чтобы оно даровало плодородные поля, большие уловы, рудные жилы и спокойное море. Эта процессия ненадолго увлекла Котту за собой; кое-кого из богомольцев он узнал, даже под личинами из пепла, которые искажали их черты. Был среди них и канатчик. Затем Котта свернул в сторону и зашагал по змеящейся вдоль склонов тропинке, окаймленной полынью и терном. Когда он поднялся уже довольно высоко и, на миг задержавшись посреди осыпи, глянул вниз, процессия была всего лишь длинной вереницей безликих существ. Они безмолвно ползли по берегу; трепетали крохотные флаги, крохотный балдахин колыхался над тележкой, которую толкала и двигала черная гурьба. Порывы ветра делали неслышным пение, вопли причитаний и звон кимвалов. Там, внизу, обитатели Томов пытались заключить мир с небесами, которые были к ним неблагосклонны. В дымке они слились воедино с серым прибрежьем. Котта наконец остался один. Он пересек неширокий луг горной долины, спотыкаясь, проковылял по старому ломкому насту в тени скальных круч, и все время глубоко внизу покоилось море. Здесь ходил Назон. Это был Назонов путь.
Котта теперь поневоле смотрел только под ноги; склоны каров были настолько круты, что порой он мог продвигаться вперед лишь на четвереньках. А потом вдруг перед ним вырос каменный пес, грубо обтесанное, разбитое изваяние без задних лап. Тяжело дыша, Котта встал. Его окружали руины.
Трахила: проломленные известняковые стены, эркеры, из окон которых тянули свои ветви корявые сосны, крыши из тростника и сланца, дырявые, провалившиеся в закопченные кухни, спальни и горницы, и уцелевшие средь пустоты арки ворот, сквозь которые лишь утекало время, — некогда здесь, должно быть, стояли пять-шесть домов, конюшни, сараи…
И из этого запустения поднимались каменные монументы, десятки стройных пирамид, самые крупные — в рост человека, самые маленькие едва достигали Котте до колен. На верхушках пирамид трепетали матерчатые флажки, лоскутья всех цветов радуги, то была разрезанная и разорванная на ленточки одежда, а подойдя к одному из небольших памятников, Котта увидел письмена — псе лоскутья были с надписями. Он осторожно потянул поблекшую светло-красную ленточку. Материя была вплетена в камни так, что, едва он, желая разобрать письмена, вытащил флажок, пирамида рассыпалась. Камни покатились по ступеням, вздыбленным корнями сосны, и Котта прочитал: Не сохраняет ничто неизменным свой вид.
Струйка песка, сбежавшая за камнями, замерла. Опять стало тихо. И Котта увидел среди разоренья уцелевшую крышу, на которой сидели галки, увидел дом среди руин. Он пошел туда, к этому крайнему отдалению, и еще на ходу принялся кричать, выкрикивать имена — свое и Назона, вновь и вновь, кричал, что приехал из Рима, из Рима сюда. Но ответом по-прежнему была тишина.
Ворота во внутренний двор были только притворены. Он толкнул их, открыл, а секундой позже, еще не опустив руки, застыл, точно объятый великим ужасом: там, в светлом углу двора, в стуже этих гор, меж остатков снега и замерзших луж, спокойная и зеленая, стояла шелковица; ее ствол был выбелен известкой, для защиты от диких животных, и снег под нею синел пятнами сока от упавших ягод.
Как люди, очутившиеся в потемках, начинают от страха насвистывать и напевать, так Котта начал вновь звать Назона, пересек двор под заслоном собственного голоса, вошел в арку и, наконец, в дом поэта. Все двери были распахнуты. В комнатах ни души.
На маленьких оконцах парусом вздувались льняные занавески и в такт с порывами ветра открывали вид на запущенный сад и дальше, вниз, в молочно-белую глубину. Под этой белизной, наверно, пряталось море. Вот оно что: от Назонова стола видно море. Печка была совсем холодная. Между заскорузлыми горшками, чайными стаканами и оглодками хлеба сновали вереницы муравьев. На полках, на стульях, на кровати лежал тонкий белый песок, поскрипывавший и под ногами, песок, тихо струившийся с потолка и стен.
Дважды, трижды обошел Котта этот каменный дом, рассматривал пятна сырости на штукатурке, римский уличный пейзаж под стеклом в черной деревянной раме, провел рукой по корешкам книг и громко прочел их названия, но по имени больше никого не звал, опять прошагал к лестнице на верхний этаж, все так же рассеянно сжимая лоскуток, который дуновенье сквозняка выхватило у него из рук и сразу опять уронило. Котта нагнулся поднять его и вдруг уперся взглядом в близкое лицо какого-то человека. В темноте под лестницей, поджав колени, сидел старик, он кивнул на лоскуток и, не дав остолбеневшему Котте опомниться, сказал: Отнеси обратно.
Котта почувствовал, как неистово забилось сердце. Назон, пробормотал он. Старик быстрым движением схватил лоскуток, смял, бросил Котте в лицо и хихикнул: Назон — это Назон, а Пифагор — это Пифагор.
И вот уже час минул с той поры, как Пифагор был обнаружен, а он все сидел под лестницей. Напрасно Котта обращался к нему, напрасно повторял свои вопросы. Пифагор, Назонов слуга, не внимал более никаким обращениям, порою, однако, заводил тихие, торопливые монологи без жестов и тогда бранил Котту стервятником, который питается трупами родичей и убивает самых преданных своих слуг, хихикал, умолкал, начинал сызнова и невесть откуда, проклиная вдруг какого-то эгейского диктатора, который непотребничал с козами, после чего собственноручно ломал им хребет; потом он вдруг подобрел, раз даже весело хлопнул в ладоши и благословил чудо переселения душ; сам-де он уже побывал в образах саламандры, канонира и свинарки, да и ребенком безглазым сколько лет прожил, пока это злосчастное тельце не упало наконец со скалы и не утонуло.
Котта не произносил больше ни слова, безмолвно слушал. В мир этого старика, похоже, нет пути. Лишь позднее, в долгой тишине пауз, когда Пифагор молчал, он все же вновь заговорил — сначала довольно безразличным тоном, каким говорят с идиотами, и просто чтобы, по возможности, приобрести доверие старика. Но в конце концов Котта понял, что пустился в разговор всего-навсего из стремленья выставить против этой идущей из тьмы, путаной болтовни порядок и здравый смысл хорошо знакомого мира: Рим против невообразимости шелковицы в снегу под окном; Рим против торчащих в безлюдье каменных пирамид, против одиночества Трахилы.
Он описывал слуге бури своего путешествия и печаль расставанья, говорил о горьком вкусе диких померанцев из рощ Сульмона и все глубже тонул во времени, пока не увидел наконец тот пожар, что девять лет назад пылал у Назона в доме на Пьяцца-дель-Моро. Из комнаты с балконом, где заперся Назон, тянулся тонкий дымок. Пепел хлопьями летел из распахнутых окон, а в передней, среди багажа и световых узоров, которые оставило на мраморном полу предвечернее солнце, сидела и плакала женщина. То был последний день Назона в Риме.
Как смерть отворяет порой закрытые наглухо дома и впускает туда не только родных и друзей, но и наемных плакальщиков, любопытных и даже равнодушных чужаков, так и спрятанный за кипарисами и пиниями дом на Пьяцца-дель-Моро был в эти дни распахнут настежь известием, что Назон должен отправиться в ссылку. Хотя трусливых беда разогнала и они здесь не появлялись, на лестницах и в салоне все равно царила толчея дома скорби. Приходили и уходили те, кто хотел попрощаться, а с ними приходили и уходили продавцы лотерейных билетов, попрошайки и уличные мальчишки, предлагавшие букеты лаванды и тащившие со столов бокалы, а из витрин — серебро. Никто не обращал на это внимания.
Бледный, с черными руками, Назон тогда лишь после долгих уговоров открыл дверь своего кабинета: синий ковер был, словно снегом, запорошен пеплом; на столе, интарсии которого от жара закрутились этакими деревянными кудрями, сквозняк листал обугленную пачку бумаг; связки тетрадей и книги тлели на полках и в нишах; одна стопка еще горела. Назон, видимо, ходил по комнате с огнем, поджигая рукописи, как церковный служка ходит с фитилем от одного канделябра к другому; он подпалил свои заметки и манускрипты прямо на тех местах, куда в иные, счастливые времена сам бережно и любовно их положил. Назон был невредим. Его труд стал пеплом.
Пифагор опустил голову на колени и, казалось, ничего не слышал и не понимал из того, о чем Котта рассказывал. Котта придвинул к темноте под лестницей стул и сидел там, молча ожидая, когда слуга посмотрит ему в глаза.
Конечно, пожар на Пьяцца-дель-Моро поглотил только Назоновы рукописи. Те из его элегий и повествований, что были опубликованы, овеяны славой и подвергнуты нападкам, к тому времени давно уже были укрыты в хранилищах государственных библиотек, домах его читателей и в архивах цензуры. В газетном комментарии из Падуи, конфискованном сразу после выпуска, написали даже, что Назон устроил этот пожар лишь затем, чтобы огненным знаком выразить протест против запрета на свои книги и изгнания из римского мира.
Но трактовок было великое множество. Костер из книг — человек содеял это со злости, в отчаянии и беспамятстве. Акт благоразумия — человек понял правоту цензуры и собственными руками истребил двусмысленное и неудачное. Мера предосторожности. Признание вины. Обманный маневр. И прочая, и прочая.
При всех домыслах это сожжение осталось таким же загадочным, как и причина ссылки. Власти отмалчивались или прибегали к пустословью. А поскольку некий манускрипт, который долгое время полагали в надежных руках, за все эти годы тоже не объявился, в Риме мало-помалу начали догадываться, что пожар на Пьяцца-дель-Моро был не отчаянным поступком и не огненным знаком, а самым настоящим уничтожением.
Глава вторая
Лилипут Кипарис объявился в полдень, возникнув из пыльных туч приморской дороги, из первой, студеной пыли этого года. В фургоне, запряженном парой буланых, Кипарис, как и в минувшие лета, правил вдоль берега, выводил кнутом в воздухе свистящие, путаные знаки и громко оглашал Томам имена героев и прекрасных женщин: так лилипут еще издали возвещал услады, боль, и скорбь, и все страсти, которые во тьме ближайших вечеров будут по его мановенью мерцать на облезлой белой стене скотобойни. Кипарис-киношник приехал. Но была весна. В погребке кабатчика или в зареве горна, в мелочной лавке Молвы или в сумраке амбара — там и здесь в Томах люди бросали свои дела, выходили на крыльцо либо отворяли окошко и растерянно вглядывались в медленно наплывающие клубы пыли. Киномеханик. Кипарис впервые приехал весной, а не в августе.
Как в минувшие лета, за упряжкой и на этот раз брел тощий, усталый олень, длинной веревкой привязанный к фургону. В приморских деревнях лилипут неизменно демонстрировал этого оленя как царя среди животных своей родины, которая, по его рассказам, находилась где-то у подножий Кавказа; под звуки трескучего марша он заставлял оленя плясать на задних ногах, а после этакого кунштюка часто притягивал к себе его тяжелую голову, что-то шептал ему в ухо на странном мягком языке и год за годом продавал сброшенные рога тому из деревенских, кто больше даст, — какому-нибудь собирателю трофеев, для которого эти рога обращались в символ и опору неутолимой охотничьей страсти. Ведь в полных шипов и колючек непроходимых лесах здешнего прибрежья оленей не водилось.
На площади, перед лавкой Молвы, толпились у повозки киномеханика старики и бездельники, да кой-какие пепельные личины из береговой процессии, да чумазые, боязливые дети. Батт, сын Молвы, нюхал дымящиеся бока лошадей, ладонью утирал взмыленные морды. Почему ж так рано, говорили-вопрошали в толпе, пока лилипут распрягал буланых, почему не в обычное время? А попона-то, а роспись на фургоне, а латунные бляшки упряжи — все другое, все новое? И до чего красивое.
Кипарис отвел коней к выложенному камнем водопою, из которого порскнули лысухи, кинул оленю каштанов да горсть сухих розовых бутонов и, занимаясь всем этим, как всегда, с увлечением и легкостью молол языком, в манере, совершенно несвойственной железному городу: такому, как он, Кипарис, время года не указ, зачем ему ждать с приездом до лета? Наоборот, лето ждет его. Где появляется Кипарис, всегда август. И он засмеялся. Эту упряжь он получил на ярмарке в Византии в обмен на три сеанса — замечательная штука. Там же некий театральный живописец украсил ему фургон сценой смерти греческого охотника Актеона, дурака, по-дурацки погибшего от клыков своих собственных легавых. Темно-красные брызги, вот здесь, поверх складок брезента, насыщенные, яркие, — это все кровь охотника. И он опять засмеялся.
Таким или примерно таким лилипута знали большинство обитателей Томов. Он всегда норовил рассказать какую-нибудь историю, о чем бы ни шла речь — о том ли, откуда и куда он направляется, или о тонком устройстве черного, с матовым блеском проектора, лежавшего в задрапированном тюлем футляре той самой машины, в которую Кипарис вкладывал целые судьбы, а затем, под стрекот механизма, наделял движением, жизнью. Из года в год на Тереевой стене возникал под руками лилипута мир, казавшийся людям железного города столь далеким от их собственного, столь недосягаемым и волшебным, что и после того, как Кипарис опять исчезал в просторах времени, они еще долгими неделями только и знай на все лады обсуждали истории вновь погасшего на год экрана, поворачивая их то так, то этак.
Кипарис любил свою публику. Когда проектор после бесконечных приготовлений увеличивал до огромных размеров лицо какого-нибудь героя и стена бойни превращалась в окно, распахнутое в джунгли и пустыни, лилипут, укрытый в темноте, разглядывал озаренные голубым отсветом лица зрителей. В их мимике он словно бы узнавал порою всю мощь и несбыточность своих собственных мечтаний. Этот Кипарис, который, даже выпрямившись во весь рост, видел только лица согбенных, увечных и поставленных на колени и для которого дворовый пес был что твой теленок, мечтал здесь, во мраке, о стройности, о внушительности и величии. Ему хотелось возвыситься. И Кипарис, исколесивший со своей упряжкой такое множество городов и через верховые болота и глухие безлюдья забиравшийся в такие дальние края, что томскому рудоплаву и вообразить невозможно, — Кипарис мечтал тогда о земных глубинах и заоблачных высях, о прочном месте под прочными небесами. Иногда во время сеанса он засыпал с этими мечтами и грезил о деревьях — кедрах, тополях, кипарисах, грезил о том, что его твердая, изрезанная трещинами кожа покрывается мхом. И вот уже лопаются ногти, и кривые его ноги пускают корни, которые вмиг набирают силу и упругость и все глубже, глубже привязывают его к месту. Надежным щитом откладываются вокруг сердца кольца лет. Он растет.
И когда затем, разбуженный звяканьем пустой бобины или хлопком оборванной пленки, Кипарис вскакивал, он еще чувствовал во всем теле легкое поскрипывание древесины, последний, легкий трепет дерева, в кроне которого запутался и угомонился ветерок. В эти сумбурные мгновенья, когда он, просыпаясь, еще чувствовал в ногах утеху и прохладу земли, а руками уже хватался за бобины, барашковые гайки и лампы, — в эти мгновенья Кипарис, этот лилипут, был счастлив.
Больших домов в Томах только и было что бойня да мрачная, воздвигнутая из песчаниковых глыб церковь; неф ее украшали отсыревшие бумажные венки, плесневеющие образа, скособоченные, словно оцепенелые от страшных пыток фигуры святых и железная статуя Спасителя; зимой она так остывала, что у молящихся, когда они в отчаянье целовали ее ноги, губы иной раз примерзали к металлу. Однако, за исключением бойни и этой церкви, в Томах не было ни зала, ни вообще какого-либо помещения, способного вместить Кипарисову публику или же его великолепные, захватывающие картины.
Вот почему на исходе этого редкостно мягкого апрельского дня, в ту пору, когда налетевшая с северо-востока ледяная буря вполне бы могла трясти оконными ставнями и звенеть стеклом даже в глубине домов, обитатели Томов сидели под открытым небом на задворках бойни и ждали начала первой из тех драм, которые Кипарис сулил им с самого обеда. Из прикрученного проволокой к сосне динамика, доносился громкий стрекот цикад. Зрители жались поближе друг к другу, многие кутались в одеяла из конского волоса, и парок дыханья слетал с их губ белыми облачками, как зимой, — но возле проектора, как летними вечерами в минувшие годы, толклись перепуганные мотыльки; когда один из них погибал на горячем стекле, в воздух поднималось колечко дыма, а лавочнице мерещились в просторах небес звезды лета. Наконец Тереева стена осветилась. Итак, был август…
Долгий, медлительный взгляд поплыл в глубь страны, над лесами пиний, над волнами черных холмов, над крышами усадеб, затем скользнул по длинным гребням прибоя, облетел излучины пляжей, погрузился в густой сумрак аллеи и, вновь скользя, приблизился к дворцу, что сиял огнями в ночи будто праздничный корабль, — купола, аркады, наружные лестницы и висячие сады. Теперь взгляд стал внимателен, он неторопливо изучал пилястры и карнизы фасада, пока на внешнем, размытом краю обзора не обозначился вдруг узкий оконный проем. Словно притянутый мощным магнитом, взгляд устремился к этому окну и в слабо освещенном покое ненадолго замер на лице молодого мужчины, на губах, и эти губы произнесли: «Я уезжаю». Взгляд камеры скользнул теперь вниз и назад — туда, где, прислонясь к двери, стояла женщина. Она прошептала: «Останься». Батт застонал, увидев слезы в ее глазах. Молва привлекла сына к себе, положила руку ему на лоб, успокоила. В дворцовых садах гремели цикады и лимонные деревья гнулись под тяжестью плодов. А на задворках бойни, в тепле жаровен, все сильнее пахло кровью и навозом.
Печальная пара на стене у Терея была не иначе как знатного рода. Молва дважды переспросила, как их звать, хотя имена обоих давно прозвучали сквозь треск и шорох динамиков: ее звали Алкионой, а его — Кеиком. И они так нежно и печально прощались друг с другом, как на берегах железного города не прощался с женой ни один мужчина.
Отчего этот знатный господин уезжал, зрители в тот вечер уразуметь, похоже, не могли; они недовольно ворчали, с досадой махали руками на киномеханика. Они и ид ели на белой стене, как любящие заключают друг друга в объятия, видели их в легких одеждах, а затем обнаженными и сознавали только, что велико было горе и этой комнате, где гобелены смягчают звуки. И все до одного принимали сторону Алкионы, недоумевая, как это можно уехать от своей любви.
Конечно, Кеик, владыка этого дворца, и объятого ночью края, и бивачных костров, пылавших за палисадами и во дворах, говорил о великом разладе с самим собой и надежде на утешение оракула, говорил о паломничестве в Дельфы… или о военном походе, о войне? Ах, он говорил о неизбежности путешествия за море. Он уезжал. Все прочее не имело значения.
Когда весть об отъезде Кеика, покинув тесные комнаты и коридоры, достигла дворов, там поднялся шум. Пьяные конюхи гонялись за женщинами, которым загодя подбросили в суп или в горячее пряное вино дурману и теперь думали, что в темноте этот взвар, этот любовный напиток приведет к ним наконец тех, кто среди дня от них убегал. С крепостных стен доносился хохот часовых: передавая от поста к посту пузатую бутыль, они большими глотками тянули обжигающее пойло и выполаскивали из головы всякую мысль о грозной опасности. Ближе к полуночи в одном стойле вспыхнул пожар; кое-как сумели утаить его от хозяйских глаз, свинопасы затушили. И челядь, и придворные начали отпадать от своего господина, от его законов и установлений, будто он давно уехал и пропал без вести.
Далеко в глубь этой августовской ночи достигали прежде лучи Кеиковой власти, одной лишь слепящей их силы было довольно, чтоб поддерживать здание его могущества. Безмолвно несли вахту часовые, безмолвно повиновались рабы. А теперь это здание начало ветшать, более того, разваливаться, словно на каждом палисаде, на каждом шанце и гребне стены взрастало предчувствие, что на сей раз господин уезжает навсегда.
Кеик как будто и жену не в силах был утешить. Шесть или, быть может, семь недель, сонно прошептал он и спрятал лицо на плече Алкионы, шесть-семь недель, и он благополучно вернется, целый и невредимый. И Алкиона кивнула сквозь слезы. Черная, красивая, легкая как перышко, поднималась и опускалась бригантина в мерцающих водах гавани; чадили у поручней смоляные факелы, а в трюме иногда позванивали цепями спящие животные. Измученный, Кеик уснул в объятиях Алкионы.
Когда, нарушив этот безмятежный покой, Терей проревел какую-то непристойность, поддержки он не получил: никто не засмеялся. Но никто и не одернул его, не призвал к молчанию, когда он взялся громогласно давать несчастным советы. Терей был вспыльчив и прекословья не терпел. Нынче был день убоя, и все видели, как он много часов подряд работал в кровавой пене речушки — стоя на перекате, кроил быкам черепа. Едва его топор с треском обрушивался между глаз связанного животного, всякий иной звук настолько утрачивал смысл, что плеск воды и тот словно бы на миг замолкал и превращался в тишину. После такого дня, когда Терей, перемазанный с головы до пят, складывал в грузовик аккуратно разрубленные туши, а собаки на берегу грызлись из-за ошметков внутренностей, он был настолько усталым, необузданным и злющим, что все, кто мог, старались держаться подальше от него. Тучная и бледная, завороженная зрелищем расставанья, в этот вечер рядом с ним сидела и жена, Прокна. Мясник иногда на несколько дней исчезал из Томов, и ни для кого не было секретом, что в это время он в горах обманывал Прокну с безымянной шлюхой, вопли которой как-то слышал один пастух. А Прокна словно бы ни о чем не подозревала. Рыхлая, безропотная, шла она за мужем по неприглядной жизни, исполняя все, что он от нее требовал. Ее единственной защитой от Терея была растущая полнота, умащенный притираньями и душистыми маслами жир, в котором эта некогда хрупкая женщина как бы постепенно пропадала. Терей часто бил ее, молча и без злости, как животное, приведенное к нему на убой, точно каждый удар предназначался лишь для того, чтобы подавить жалкие остатки ее воли и омерзение, которое она к нему питала. Уже в день их свадьбы в Томах видели дурные знаки. На коньке крыши у них сидел тогда без всякой опаски огромный, неподвижный филин, вестник беды, сулящий всем новобрачным тяжкое будущее. Наконец Терей замолчал.
Алкиона будто оцепенела рядом со спящим мужем. Она лежала с открытыми глазами, не смея пошевелиться, чтобы не дать спящему повода со вздохом, в грезах отвернуться от нее. Теперь она была наедине со своими страшными виденьями. И Кипарисов проектор делал зримым каждое из этих видений, которые она сама же и призывала весь минувший вечер, умоляя Кеика остаться или хотя бы позволить, чтобы она поехала с ним и с ним погибла. Алкиона видела ночное море и небо словно в руинах, волны и тучи, сбитые в бушующую мглу, которая в такт ее дыханью то вздымалась, то опадала. И тогда с отвесных круч лавинами обрушивались пенные брызги. Алкиона видела тяжелые от дождя, рвущиеся паруса, до странности четко различала каждый шов, каждую нить грубой ткани. Вот беззвучно переломилась мачта. Вот кипящий пенный поток хлынул по трапу во тьму междупалубного пространства, яростно, как мчится по уступам речушка в Томах. Толстые, словно бревна, водяные струи ринулись через люки в трюм, а могучий вихрь швырнул альбатроса ввысь над этим разором, где-то там, в вышине, сломал ему крылья и бросил в волны комок плоти и перьев. Когда среди сполохов на несколько мгновений вновь возникал горизонт, его прежде спокойная, плавная линия была иззубрена водяными гребнями, точно пильное полотно, исковерканное таившимся в древесине обломком железа. Над этими зубцами вставал теперь новый, черный шатер небес, он стремительно надвигался и наконец укрыл собою все, что морю изначально не принадлежало. Корабль тонул. И то, что еще раньше очутилось за бортом или до поры до времени сумело уцелеть, уходило за ним в пучину в медленном, а затем все более и более бешеном круженье. И вот уже только поднятый со дна песок вихрился в коловращенье водяных воронок.
Грандиозный фарс; зрителям на деревянных лавках были знакомы черноморские бури, и, наблюдая ход катастрофы, они давным-давно сошлись на том, что у Терея на стене мелькают всего-навсего сцены плохонькой подделки, что этот океан там наверху всего-навсего теплая водичка, взбудораженная в корыте, а затонувший корабль едва ли больше игрушки. Конечно, Томы привыкли к такого рода подделкам и миражам и среди однообразия долгих месяцев частенько мечтали об этом ошеломительном развлечении, но то, что Кипарис показывал нынче вечером, касалось очень уж близкого и знакомого, собственной их жизни, бедствий на берегу и на море… даже дурачок Батт мог видеть, что в картинах этой бури нет ни крупицы правды. Ломались игрушечные мачты, рвались игрушечные паруса, и ураган-то, поди, тоже создавал ветряк, наподобие вентилятора, которыми лилипут охлаждал раскаленные лампы своего аппарата. В прошлом году Тереев сын Итис покалечился, сунув палец в жужжащий вентилятор; лопасти тысячью капелек разбрызгали его кровь по проектору лилипута.
Конфуз был замечен. Сообразив, что его драма рискует потерять всякую силу, Кипарис увеличил громкость музыки и ураганного рева и перекрыл таким манером грубые насмешки публики.
Только теперь, среди вновь взъярившихся стихий, увидела Алкиона своего любимого. Уцепившись за обломок доски, Кеик совсем один плыл в кипенье брызг и пены. В волосах у него блестели водоросли, на плечах лепились морские анемоны и ракушки; он простирал к Алкионе окровавленную руку, с открытых губ рвался немой крик. И Алкиона закричала вместо него. И проснулась. И увидела Кеика, глубоко и спокойно дышавшего рядом на ложе. Но вид его не дал ей утешения.
Наутро усталые солдаты побрели в гавань. У трапа бригантины они остановились. Кеик поднялся на борт, то и дело оглядываясь на этом коротком, отвесном пути, а потом долго стоял у поручней, бригантина же тем временем скользила сквозь густой, будто дышащий лес мачт и рей в открытое море и мало-помалу скрылась из глаз провожающих. С этой минуты все происходило так, как виделось во сне, только в более темных, насыщенных красках.
На исходе третьего дня после отплытия грянула буря из сновиденья. Спутники Кеика работали как безумные, стремясь отвратить свою погибель, в отчаянии швыряли в пучину балласт, а затем и жертвенные дары, и все же, когда корабль пошел ко дну, он был безжизненным остовом. Первым умер парусный мастер: не дожидаясь смерти в волнах, он наложил на себя руки; остальные еще час с лишним боролись за жизнь, но тоже сгинули. Под конец Кеик был совсем один, каким и видела его тогда Алкиона, он еще крепко цеплялся за свой обломок, хрипя и захлебываясь, выкашливал из себя ее имя и последнюю надежду. Лишь теперь он понял, что источник силы и утешенья таится в объятиях Алкионы, а не в Дельфах и тому подобных святилищах. Как же мечтал он теперь о ней и о земле, по которой она ходила, о твердой почве. Но вот и его поглотила бездна. На доске остались кровавые пятна, быстро смытые водой, да несколько лоскутьев кожи; морские птицы опустились на обломок и склевали эти следы. И тогда море утихло.
Тем временем все же похолодало. Флер тумана окутал черные деревья Томов, лабиринт улочек, кованые украшения; каждый вечер этот туман поднимался от берега, а за ночь выпадал инеем. На фургоне киномеханика поблескивали первые ледяные кристаллы. Жаровни уже едва теплились, и углей в них больше не подкладывали. Зрители знали обычную продолжительность Кипарисовых драм и, догадываясь, что сегодняшняя идет к концу, начали громко обмениваться предположениями насчет ее исхода. Кипарис сдался и убавил громовой звук.
Сон Алкионы сбылся; однако пока еще вдова сидела с двумя подругами среди лавров и роз на дворцовой террасе и шила платье, которое собиралась надеть на торжества в честь возвращения Кеика. Мыслями она далеко опередила и эту работу — плела гирлянды, видела, как по крутой дороге к ней навстречу идет Кеик, и раскрывала объятия.
Помер! — гаркнул Батт и захохотал на радостях, что он, именно он узнал так много важного прежде этой красавицы и всех остальных. Помер! Помер он!
Каждое утро, каждый полдень и каждый вечер Алкиона то ходила, то бегом бегала по берегу, до боли в глазах всматривалась в искрящуюся даль и не верила своим снам. Лишь мало-помалу, как сама жизнь, иссякала ее надежда. И вот настал день, когда в гавань вошла испанская галера с пятью потерпевшими кораблекрушение на борту. Точно фурия, Алкиона прокладывала себе дорогу в толпе, сгрудившейся на молу; рыдая, расталкивала она всех и вся на своем пути, будто еще можно было что-то исправить, хотя выбора меж гибелью и спасеньем давно уже не существовало. Лица потерпевших крушенье были опалены солнцем и разъедены солью, губы совсем без кровинки, а плечи так изранены, что они не могли ничего надеть, а только кутались в широкие светлые полотнища, на которых медленно проступали мокнущие пятна ожогов. Двадцать три дня, толковали на пристани, море носило их плот, захлестывая его волнами, все это время они почти ничего не ели, а жажду утолили только дважды, после ливней. Спасенные шатаясь шли сквозь строй любопытных и на оклики не отвечали. Один из них, похоже, повредился рассудком; он вдруг захохотал, потом залаял по-собачьи, вскинул вверх руки и распластался на мостовой. Его подняли, поволокли дальше. Алкионе же внезапно почудились в его израненном лице черты Кеика; среди ссадин и порезов горели Кеиковы глаза. Алкиона кинулась ему на грудь, ощутила у себя на лбу его пот, услышала его стон и увидела наконец, что это не Кеиково лицо, а лик смерти. Потерпевшие крушенье были чужаками. О бригантине они знать не знали. Ни один не помнил иной беды, кроме своей собственной.
Во дворец Алкиона не вернулась; она осталась на морском берегу, возле прибоя, со своей верой, что благосклонное теченье положит к ее ногам хотя бы труп Кеика. За эти несколько дней слуги перенесли домашнюю утварь, платье, корзины хлеба, сушеного мяса и фруктов в пещеру, вход которой находился между огромными скалами, усыпанными перьями чаек и пеликанов.
Исполнив эту последнюю службу, челядь разбрелась. Алкиона вместе с подругой-прислужницей осталась во тьме пещеры, а на побережье тем временем рушилась власть пропавшего без вести. Конюхи в платье Кеика, едва держась на ногах, шатались по набережным и рынкам, передразнивали его жесты и голос и забрасывали бутылками и камнями его статуи. В залах и под аркадами дворца бесчинствовала голытьба. Лошади и свиньи, голуби, павлины и даже дворцовые собаки разбежались-разлетелись из открытых вольеров, денников, хлевов и загонов в леса. Кто замешкался, тех растащили или зарезали. Алкиона ничего этого не видела. Она сидела у входа в пещеру или у самой воды, неотрывно смотрела вдаль, а то вдруг вскакивала и бежала по мелководью в полосе прибоя, и плакала, и всхлипывала, пока прислужница, догнав ее, не заключала несчастную в объятия, обезумевшую, недоступную ни уговорам, ни утешенью. Тогда море, серое и спокойное, катилось к этим двум женщинам, серое под небом, которое становилось порою высоким и огромным, а затем вновь стремительно опускалось и, холодное, непроглядное, лежало над водами. Так пришла зима.
Иные из зрителей, от нетерпения или озябнув от ночного холода, поднялись с откидных скамеек и грелись возле погасших жаровен, притопывая и с силой хлопая руками по бокам, — и тут в первом ряду какая-то молодая женщина испуганно вскрикнула. Это была Прозерпина, слывшая среди женщин железного города нимфоманкой. Все на нее пялятся — торговцы скотом как на корову, искатели янтаря как на драгоценность, а она и рада, говаривала, прикрыв рот ладонью, Молва у себя в лавке; вот и приезжему из Рима она уже строила глазки. А ведь Прозерпина много лет обручена с Дитом, немцем, которого вынесла к этим берегам забытая война и которого в Томах все как один звали Богачом, потому что дважды в год ему привозили морем деньги из какого-то инвалидного фонда. Но Дит-немец страдал очень тяжкой болезнью — его грызла тоска по болотистым маршам и сырым лесам Фрисландии; о Фрисландии он часто говорил, когда стриг овец. Еще Дит умел стричь волосы и бороды, зашивать раны, составлял мази и продавал целительный зеленый ликер, утверждая, что он-де из швейцарских монастырей. Когда такие средства не действовали и все врачебное искусство оказывалось бессильным, Дит хоронил покойников железного города и ставил на могилах каменные надгробия. В этот вечер Прозерпина, надувшись, села подальше от нареченного; она все еще зажимала рукой рот и через просвет в полосе тумана, медленно плывущей по Тереевой стене, неотрывно смотрела на длинный белый риф у побережья. Там, омываемое мелкими легкими волнами, лежало тело Кеика.
Словно вспугнутая отчаянным криком Прозерпины, Алкиона, которая, как всегда, сидела на берегу, подняла голову и тоже увидела мертвеца. Как близко и отчетливо проступило вдруг перед нею воспоминание о его облике, о каждой черточке, каждом выраженье. Схож ли еще с выброшенным на берег телом тот портрет, что спрятан в медальоне у нее на шее? Точно обеспамятев, она вскочила и побежала по остроребрым камням, по рифам в море, наконец-то одержимость ее обрела цель, она перепрыгивала, перескакивала с камня на камень, мчалась через проломы, летела по прибрежным скалам. Тут надвинулась полоса тумана и замутила изображение; зрители на секунду потеряли одержимую из виду, а в следующий миг увидали всего лишь птицу, вспорхнувшую над камнями, зимородка, который в трепетном полете замер над бурунами, — несколько плавных взмахов крыльями, и вот он уже над телом, вот опустился на расклеванную стервятниками грудь. Кеик. Закрытые глаза обведены кольцами соли, и соляные выцветы были в углах рта. Казалось, будто зимородок ласкает крылами исклеванное лицо, растерзанные щеки, лоб. И вдруг в этом омертвелом лике открылось что-то блестящее, крохотное, живое, вдруг поблекли лилово-черные краски тленья, зловонная пена в волосах стала венчиком пуха, белого, свежего пуха, — открылись бусины глаз: зеницы! Затем из подернутого легкой рябью морского зеркала поднялась изящная, с клювиком головка, как бы удивленно огляделась — маленькое оперенное тельце взмахнуло крыльями и встало на ножки, стряхивая соляные выцветы, воду и струпья ран. И зрители, что увидели теперь не труп и не горюющую женщину, а двух взлетевших птиц, поняли всё; иные даже облегченно засмеялись и захлопали в ладоши. Мелькнули и погасли титры. Имена актеров, композиторов, художников; благодарности. Затем Кипарис услыхал тарахтенье бобины и потянулся к своим кнопкам. Тереева стена погасла. В Томах была ночь. С моря дул студеный ветер, уносивший высоко в горы лай собак, шум кабаков и голоса расходящейся публики. Только в зарослях у дороги на Трахилу ветер словно бы стряхнул с себя последние шумы железного города и стал гулок и пуст.
Произведения
Критика