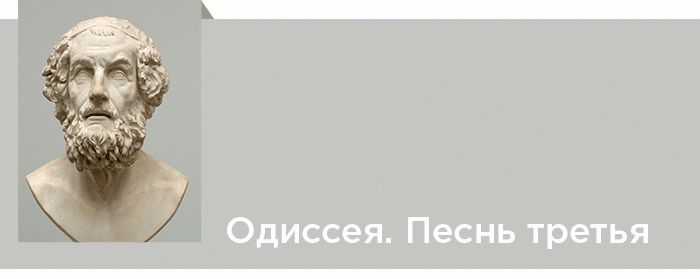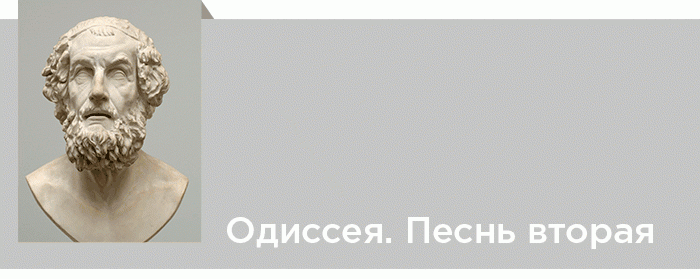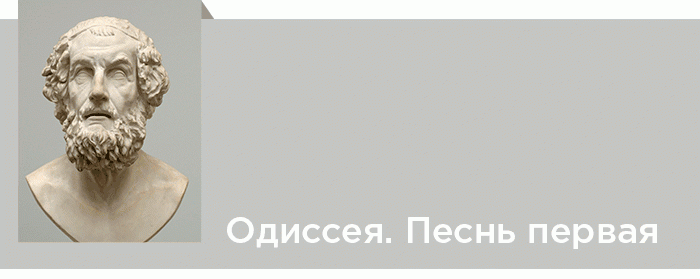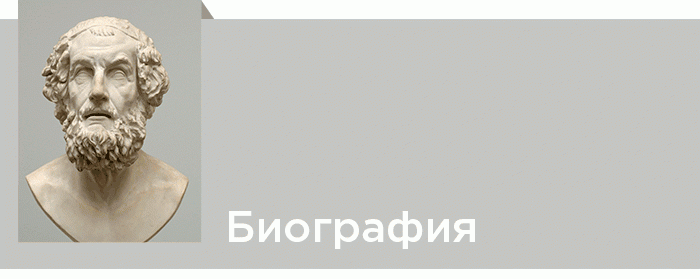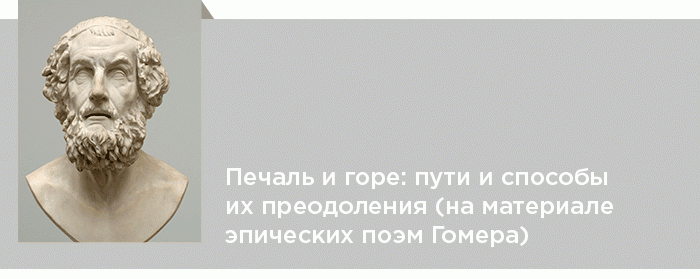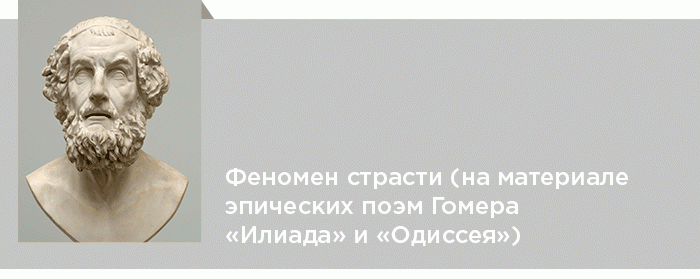Аксиологические мотивы в поэмах Гомера
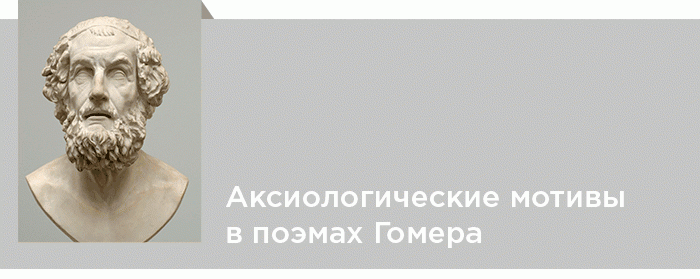
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет
SERGEY AVANESOV
Tomsk State Pedagogical University, Russia
AXIOLOGICAL MOTIVES IN HOME
ABSTRACT: Axiology as a sphere of value orientation and preferences is a base of every society.
The analysis of Homer’s poems gives an opportunity to explicate the value base of archaic Mediterranean culture. In the first part of the artcle (ΣΧΟΛΗ 4.2 (2010) 260–290) I have examined various patterns of behavior. Values such as honor, glory, devotion, self-sacrifice, friendship, mutual help, hospitality, justice-equality and justice-retribution are on the positive pole of this culture. Anger, insult, deception, greed, cowardice, audacity, and desecration of the enemy’s body are on the negative pole. Positive values are fixed in the sanctioned “standards” of social behavior. In the second part I turn to the foundation of decicionmaking and examine how the particular actions of epic heroes are determined by the fate, the will of the gods, the traditional moral standards, or various practical considerations.
KEYWORDS: Values in archaic society, Homer, Ancient literature, epic poems
Различение у Гомера аксиологически позитивного и аксиологически негативного[1] несёт в себе, разумеется, не только теоретический смысл; такое различение предполагает своё практическое приложение в форме предпочтения. К примеру, Телемах понимает, что есть разница между различением добра и зла и выбором наилучшего; если первое само приходит с возрастом и опытом, то для второго требуется, кроме того, усилие воли (Od XVIII 229−230). Телемах без труда отличает добро от зла, но выбрать наилучшее ему «не всегда удаётся» (Od XVIII 230).[2] Тема выбора «лучшего» и «славного» звучит как скрытая рекомендация в речи Аполлона (Il ХХIV 52). Именно тема предпочтения и предпочитаемого (προηγμένον) уже у ранних стоиков будет конституирована в качестве способа спецификации сферы суждения о ценном.[3] Предпочтение подразумевает выбор одного (лучшего, наиболее достойного) ориентира для действия из нескольких предложенных и, соответственно, является в самом общем смысле аксиологической операцией. В гомеровских поэмах мы иногда встречаем описания попыток героев рассуждать и сравнивать, выбирая наилучший (предпочтительный) способ поведения в неоднозначных ситуациях. Нас, конечно, прежде всего должен интересовать выбор, относящийся не к сфере жизнедеятельности или технологии,[4] а к сфере поступка, то есть именно к той сфере человеческой активности, которая предполагает актуализацию индивидуальных разума и воли для принятия ответственного решения в социальной ситуации и потому подлежит нравственной квалификации. Нас интересует гомеровский герой не тогда, когда он выбирает эффективное средство для достижения цели, но в тот момент, когда он решает вопрос, как себя вести. При этом для нас особенно важен тот решающий мотив, согласно которому гомеровский герой (или группа действующих лиц) предпочитает один способ поведения и отвергает другой.
Некоторые авторы, как отмечает Е. Доддс, считают, что «у Гомера отсутствуют слова для обозначения деятельности выбора или принятия решения»; однако заключение о том, что Гомер вовсе не предполагал никакой возможности самостоятельного принятия решения человеком, было бы «не совсем справедливым».[5] У Гомера, по утверждению А. Ф. Лосева, мы можем найти достаточно много «изображений самопроизвольных человеческих поступков».[6] Сама фраза Агамемнона о том, что в действии предводителя ахейцев виновен не он сам, но Зевс (Il XIX 86−87), ясно свидетельствует о возможности и индивидуальной вины. Иначе Агамемнону не пришло бы в голову оправдываться. Нельзя отрицать, что в некоторых случаях поведение гомеровских героев «является результатом некоего разумного личного решения, принятого после рассмотрения возможных альтернатив»,7 то есть выступает итогом рефлексивного акта. Для подобного решения, то есть для перехода избирающего субъекта (субъектов) от некоторого множества потенциальных возможностей к реализации одной из них, в каждом случае требуется определённое основание. Такими основаниями у Гомера выступают: судьба, божественное внушение, социальная норма, индивидуальная выгода.
Судьба
В одном случае у Гомера прямо указано, что единственным основанием выбора «субъективно» правильного решения из нескольких возможных явилась судьба, которой невольно подчинились избирающие. Когда троянцы «отворили Илион» известному коню, среди них возникло разномыслие по поводу дальнейшей участи этого подарка.
В граде стоял он; кругом, нерешимые в мыслях, сидели
Люди троянские; было меж ними троякое мненье:
Или губительной медью громаду пронзить и разрушить,
Или, её докативши до замка, с утёса низвергнуть,
Или оставить среди Илиона мирительной жертвой
Вечным богам: на последнее все согласились, понеже
Было судьбой (αἶσα) решено, что падёт Илион, отворивши
Стены коню, где ахейцы избранные будут скрываться,
Чёрную участь и смерть приготовив троянам враждебным
Od VIII 505−513.
В этом эпизоде сообщается, конечно, не о том, что «люди троянские» выбирали подходящий вариант с оглядкой на известное им решение судьбы; речь о том, что они, согласно комментарию самого автора (511−513), не могли сделать иного выбора, поскольку участь Трои была уже решена на уровне рока.[8]
В другом случае Одиссей, принуждённый выбирать между тяжкой жизнью и лёгкой смертью, сознательно избирает покорность судьбе (как он её понимает) и остаётся жить. Когда спутники Одиссея по ошибке выпустили ветры из меха Эола, устроив бурю, отбросившую корабли от Итаки, Одиссей от отчаяния чуть не покончил с собой:
Я пробудился и долго умом колебался, не зная,
Что мне избрать, самого ли себя уничтожить, в пучину
Бросясь, иль, молча судьбе покорясь, меж живыми остаться.
Я покорился судьбе
Od Х 50−53.
Одиссей, пишет В. Н. Ярхо, был готов утопиться; «но победила другая возможность: он вытерпел это испытание».9 Однако указанный «выбор» Одиссея демонстрирует скорее не терпение или самообладание героя (склонного, кстати, к рыданиям и стонам по любому поводу), но апатию фаталиста: он остаётся в живых, поскольку именно этот вариант действий воспринимается им как предписанная ему роковая необходимость.
Вмешательство божества
Нередко те или иные поступки гомеровских героев представлены как инспирированные богами. «Если всё личное у Гомера всерьёз подчинено надличному и общему, то, конечно, и мотивировка всех личных поступков должна идти извне. Настоящий эпический стиль не только мотивирует извне всякий человеческий поступок, но и вообще всякое человеческое переживание мыслит вложенным в человека богами или демонами»[10]. В гомеровском эпосе мы встречаем эпизоды, в которых божество прямо побуждает человека к выбору одного из двух возможных решений. Число этих примеров не слишком велико, но именно они породили ожесточённую полемику вокруг вопроса о «размышлении и решении» гомеровского человека.11 Ниже приведены пять сюжетов, в которых представлен механизм такого выбора; все эти сюжеты – из «Илиады».
1) Вот, пожалуй, самый известный пример принятия решения героем с помощью божества. Жестоко оскорблённый Агамемноном, Ахилл раздумывает, выбирая между «двух мыслей»:
Или, немедля исторгнувши меч из влагалища острый,
Встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида;
Или свирепство смирить, обуздав огорчённую душу
Il I 190−192.
Видимо, Ахилл не может сразу решить, какой образ действия соответствует его наличному статусу и соответствующему уровню достоинства. Что будет значить нападение на Агамемнона: восстановление публично попранной чести или унижение до междоусобной поножовщины на радость врагу? Раздумья героя, который так ничего и не решил, прерывает Афина, схватившая его сзади за кудри и повелевшая действовать не оружием, а языком: «Злыми словами язви, но рукою меча не касайся» (Il I 211). Герой освобождается от необходимости выбирать и предпочитать: за него всё решает богиня. Для Ахилла же теперь и сама ситуация меняется: на первый план выходит польза послушания, а не ценность предпочитаемого; об этом Ахилл и говорит:
Как мой ни пламенен гнев, но покорность полезнее (ἄμεινον=лучше) будет:
Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют
Il I 217−218.
Так борьба «между аффектом и рассудком» с вмешательством богини переводится в новую плоскость: вместо вопроса «убивать или смириться?» перед Ахиллом встаёт вопрос «подчиниться божеству или не подчиниться?»; но здесь уже никакого сомнения быть не может, и тем самым «противоречие исчерпывается».[12]
2) Примерно то же происходит с Одиссеем; при виде раненого Сарпедона («Зевсова сына»), которого друзья выносят из битвы,
вспыхнуло в нём благородное сердце;
Он между помыслов двух колебался умом и душою:
Прежде настигнуть ли сына громами звучащего Зевса
Или, напав на ликиян, у множества души исторгнуть?
Il V 670−673.
Поскольку же не Одиссею было суждено убить Сарпедона, постольку в дело пришлось вмешаться Афине:
Сердце его на ликийский народ обратила Паллада
Il V 676.[13]
При этом ничего не сообщается о том, как сам Одиссей отнёсся к такому внушению извне.14 Имея в виду то, что богиня в данном случае не обращала на себя внимания героя и не вела с ним никаких подобающих случаю бесед, ограничившись мгновенной операцией на сердце, мы можем думать, что герой принял это божественное внушение как своё собственное решение.
3) Во время удачной ночной вылазки в лагерь фракийцев Одиссей, захвативший коней убитого царя Реса, подаёт знак к отходу; однако Диомед колеблется и раздумывает,
что ещё смелого сделать:
Взяв ли царя колесницу, с оружием в ней драгоценным,
Быстро за дышло увлечь, либо вынести, вверх приподнявши,
Или ещё ему более душ у фракиян исторгнуть?
Думы герою сии обращавшему в сердце, Афина
Близко предстала и так провещала Тидееву сыну:
«Вспомни уже об отшествии, сын благородный Тидея!
Время к судам возвратиться, да к ним не придёшь ты бегущий,
Если троянских мужей небожитель враждебный пробудит».
Так изрекла, − и постигнул он голос богини вещавшей,
Быстро вскочил на коня. Одиссей обоих погонял их
Луком, и кони летели к судам мореходным ахеян
Il Х 503−514.[15]
4) Гектор пытается решить, сражаться ли ему вместе с троянским войском в поле или отступить под защиту городской стены.
Гектор же в Скейских воротах удерживал пышущих коней:
Думал, сражаться ль ему, устремившися к воинствам снова,
Или своим ратоборцам в стенах повелеть собираться?
Il XVI 712−714.
Тут Гектору является Аполлон в образе его дяди Асия и указывает ему правильный выбор – вернуться в битву (Il XVI 715−725).
5) Диомед, по совету Нестора отступающий перед Гектором, «волнуется в сомнительных думах»: продолжать бегство или вернуться в бой? Трижды Диомед ставит перед собой этот вопрос, и трижды Зевс удерживает его от возвращения, громом давая понять, на чьей стороне божественная поддержка (Il VIII 167−171).
Как видим, во всех этих эпизодах вмешательство бога, который всегда лучше знает, что происходит и особенно – что должно произойти (ср. Od I 263−264, 396), является решающим фактором выбора героем «Илиады» того или иного способа действия в сложившейся вокруг него неоднозначной ситуации. Этот выбор, как видим, никак не связан с личным предпочтением, а обусловлен лишь сознательным или бессознательным (как в случае с Одиссеем) подчинением божественной воле. В «Одиссее» нет ни одной подобной ситуации; мы встречаем здесь лишь описание коллективного внушения в эпизоде выбора между Аяксом и Одиссеем в их споре за вооружение Ахилла (Od XI 545−551), но этот эпизод относится ещё ко времени Троянской войны.
Наконец, ещё в одном эпизоде божественная воля участвует в принятии коллективного решения. Агамемнон, дабы испытать воинский дух греков, отдаёт провокационный приказ возвращаться на родину (Il II 140). Воины бросаются к кораблям, но Афина вдохновляет Одиссея «сладостью речи» убеждать ахейцев остаться (Il II 166−181). Под влиянием одиссеева красноречия все решают продолжать войну (Il II 333−335), а Афина своим божественным вмешательством как бы окончательно закрепляет и усиливает тот выбор, который уже совершён ахейцами самостоятельно:
богиня народ обтекала,
В бой возбуждая мужей, и у каждого твёрдость и силу
В сердце воздвигла без устали вновь воевать и сражаться.
Всем во мгновенье война им кровавая сладостней стала,
Чем на судах возвращенье в любезную землю родную
Il II 450−454.
Теми же точно словами описан результат воздействия на ахейцев ужасного крика Эриды (Il ХI 12−14); однако в данном месте указанный сюжет совершенно лишён смысла, ибо ни о каком выборе между сражением и возвращением на родину нет и речи.
Знание социально санкционированной нормы
В некоторых случаях герои Гомера, предпочитая ту или иную линию действий в неоднозначной ситуации, ориентируются на известную им общественно санкционированную норму поведения. Оставшись в одиночестве на поле боя, Одиссей говорит своему «благородному сердцу»:
Горе! что будет со мною? позор, коль толпы устрашася,
Я убегу; но и горше того, коль толпою постигнут
Буду один я: других аргивян громовержец рассыпал.
Но почто мою душу волнуют подобные думы?
Знаю, что подлый один отступает бесчестно из боя!
Кто на боях благороден душой, без сомнения, должен
Храбро стоять, поражают его или он поражает!
Il XI 403−410.
Здесь «предпочтение» героя основано не столько на выборе, сколько на воспоминании о навечно установленной и «однозначной» норме поведения благородного человека[16]; а это такое знание, которое делает выбор излишним. Как полагает В. Н. Ярхо, «неверно было бы отрицать во внутренних монологах героев “Илиады” способность к размышлению и к выбору решения; речь идёт, однако, о том, что этот выбор не носит трагического характера: человек сообразует своё поведение с постоянной нравственной нормой, не задумываясь над её справедливостью и не видя противостоящей ей другой, столь же справедливой нормы. Поэтому и принятие решения воспринимается не как акт внутренней борьбы, а как возвращение к заранее данному».[17] Так и в описанной выше ситуации Одиссей пресекает всякую возможность рассуждения о своём поведении, обуздывая свой порыв не размышлением о возможных способах действия, но «апеллируя к этической норме: о чём размышлять, если я наверное знаю».[18] Благородный человек должен сражаться – такова «бесспорная этическая норма, не вызывающая ни малейшего сомнения в её правильности».[19] Как видим, вопрос о предпочитаемом в данном эпизоде ставится, но не решается, а просто снимается. Итак, для «эпического вождя» в важнейших этических вопросах «в сущности не может быть выбора, ибо отступление от “сословной” нормы для него совершенно немыслимо».20
Этическая норма как социально санкционированная обязательность определённого действия 21 маркируется таким чувством, как стыд (αἰδώς).22 Именно стыд, позор («невыносимое чувство стыда»23) является внутренней реакцией на возможность утраты достоинства. Отголоски такого «эпического» понимания стыда можно обнаружить у Платона 24 и Аристотеля.[25] Стыд «стоит на страже» нравственно подобающего, «правого» поведения (θέμις).26 Внешней санкцией стыда является νέμεσις − общественное мнение, «позор молвы»27, то есть осуждение со стороны общества.28 Чувство стыда перед боевыми товарищами «выступает как нравственная норма, обязательная для всей массы племени, для каждого воина».29 Так, Аякс в разгар боя взывает к ахейским бойцам:
Други, мужайтесь! Наполните сердце стыдом (αἰδῶ) благородным!
Воина воин стыдися на поприще подвигов ратных!
Воинов, знающих стыд, избавляется боле, чем гибнет
Il XV 561−563.
Тем же призывом к стыду Агамемнон поднимает боевой дух ахейцев (Il V 529−531; VIII 228); к этому же чувству апеллирует и Нестор: «Будьте мужами, о други, почувствуйте стыд (αἰδῶ), аргивяне, стыд перед всеми народами!» (Il XV 661−662). Одиссей обращается к колеблющимся ахейцам, призывая их остаться под Троей: «Стыд (= позор, αἰσχρόν) нам – и медлить так долго, и праздно в дома возвратиться!» (Il II 298). Стыд удерживает на боевых позициях тех греческих воинов, которые обороняют корабли от прорвавшихся к ним троянцев (Il XV 657−658). Ахейцы стыдятся, не решаясь сразу принять вызов Гектора на поединок (Il VII 93, 97, 161). Посейдон напоминает об обязанности воинов сражаться: «Никому ни на миг уклониться не должно от брани» (Il ХIII 114); при этом он опять-таки напоминает о стыде: «Стыд, аргивяне» (Il ХIII 95); «стыд и укоры людей (αἰδῶ καὶ νέμεσιν)!» (Il ХIII 122); «стыд, о ахеяне! вы забываете бранную доблесть» (Il ХIII 116; см. также Il ХIII 111). Наконец, и Гера использует тот же мобилизующий приём (Il V 787).[30]
Согласно Эрику Доддсу, гомеровское общество есть по своей сути «культура стыда» − в отличие от более поздней «культуры вины».[31] Действие человека в этой культуре характеризуется как прекрасное (καλός) или безобразное (αἰσχρός) не потому, что оно «приносит какому-то лицу добро или зло», но исключительно из-за того, что оно выглядит прекрасным или безобразным «перед лицом общественного мнения».[32] Злое – это прежде всего позорное. Если Агамемнон откажется от продолжения войны, он, по словам Одиссея, покроет себя «вечным позором перед племенем ясноглаголивых смертных» (Il II 285). Самая грозная моральная сила, известная гомеровскому человеку – «это не страх Божий, но стыд (αἰδώς) с оглядкой на общественное мнение».[33] «О! стыжуся (αἰδέομαι) троян и троянок длинноодежных!» − восклицает Гектор (Il ХХII 105); «ему нестерпим стыд перед троянцами и троянками за плохое и неумное поведение на войне».34 О том же он говорит Андромахе:
Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой,
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя
Il VI 442−443.
Телемах заявляет, что если ему придётся вынудить мать выйти замуж за одного из женихов против её воли, то он не только навлечёт на себя гнев Одиссея и месть богов, но и покроется вечным стыдом «пред людьми» (Od II 133−136). Тот же Телемах взывает к женихам:
Ужель не тревожит вас совесть? По крайней
Мере, чужих устыдитесь людей и народов окружных,
Нам сопредельных[35] Od II 64−66.
Отметим, что и благородная Пенелопа воздерживается от брака не без учёта общественного мнения; она, по словам Телемаха,
рассудком и сердцем колеблясь, не знает, что выбрать,
Вместе ль со мною остаться и дом содержать наш в порядке,
Честь Одиссеева ложа храня и молву уважая,
Иль наконец предпочесть из ахейцев того, кто усердней
Ищет супружества с ней и дары ей щедрее приносит
Od XVI 73−77 (курсив мой. – С.А.).
Елена обвиняет Париса в легкомыслии и сердечном неблагородстве, ибо он не чувствует ни стыда, ни «укоров людских» (Il VI 350−353). Посейдон взывает к ахейским воинам, также напоминая о социальном характере стыда:
Опомнитесь, други! Представьте себе вы
Стыд и укоры людей! Решительный бой наступает!
Il ХIII 121−122.
Эвримах, не сумевший укротить лук Одиссея, переживает не столько о том, что ему не достанется Пенелопа, сколько о своём публичном посрамлении в сравнении с Одиссеем:
Горе мне! я за себя и за вас, сокрушенный, стыжуся:
Нет мне печали о том, что от брака я должен отречься, −
Много найдётся прекрасных ахейских невест и в Итаке,
Морем объятой, и в разных других областях кефалленских.
Но столь ничтожными крепостью быть с Одиссеем в сравненье −
Так, что из нас ни один и немного погнуть был не в силах
Лука его, − то стыдом (ἐλεγχείη=срамом) нас покроет и в позднем потомстве
Od XXI 249−255.
Тот же Эвримах признаётся Пенелопе, что женихи боятся не столько конкуренции со стороны притворившегося странником Одиссея (это – «вовсе несбыточно»), сколько вызывающего стыд осуждения со стороны общества за несоответствие реальных успехов благородных людей их собственным претензиям:
мы лишь боимся стыда, мы боимся
Толков, чтоб кто не сказал меж ахейцами, низкий породой:
«Жалкие люди они! За жену беспорочного мужа
Вздумали свататься; лука ж его натянуть не умеют.
Вот посетил их наш брат побродяга, покрытый отрепьем;
Лёгкой рукой тетиву натянул и все кольца стрелою
Метко пробил он». Так скажут. И будет нам стыд (ἐλέγχεια) нестерпимый
Od ХХI 323−329.
На это Пенелопа возражает, что благородным людям стыдно не проиграть соревнование в силе нищему страннику (который, кстати, может оказаться тоже благородным по своему происхождению), а, «правду забывши», грабить дом отсутствующего хозяина (Od XXI 330−335).
Наконец, Ахилл возвращается в битву, поскольку он, по словам Сократа, «из страха сделать что-нибудь постыдное до того презирал опасность», что не придал серьёзного значения предупреждению Фетиды о скорой своей гибели вслед за Гектором; Ахилл «не посмотрел на смерть и опасность, а гораздо больше убоялся оставаться в живых, будучи трусом и не мстя за друзей». Такова, согласно Сократу, позиция поистине благородного человека: «где кто поставил себя, думая, что для него это самое лучшее место, или же поставлен начальником, там и должен переносить опасность, не принимая в расчёт ничего, кроме позора, − ни смерти, ни ещё чего-нибудь» (Апология 28 с−d).36
Стыд есть некий архаический («героический») эквивалент совести, для обозначения которой в языке эпоса вообще нет соответствующего термина.[37] Невозможно говорить о том, что «стыд» гомеровского эпоса означает то же самое, что «совесть» в современной культуре.[38] Смысл термина αἰδώς точнее может быть передан как «чувство чести», «чувство долга», «сознание обязанности».[39] Это постоянное «давление социального конформизма», это ужас перед возможностью утраты лица, перед перспективой общественного презрения.[40] У Гомера это понятие отнесено прежде всего к сфере военных действий, хотя иногда употребляется и для обозначения взаимоотношений детей и родителей.41
Особо показательный случай стыда перед возможной потерей чести – колебания Гектора перед последним поединком с Ахиллом. Гектор, оставшись в одиночестве за пределами городской стены и увидев надвигающегося на него Ахилла, говорит своей возвышенной душе:
Стыд мне, когда я, как робкий, в ворота и стены укроюсь!
<...> Стократ благороднее (πολὺ κέρδιον=много выгодней) будет
Противостать и, Пелеева сына убив, возвратиться
Или в сражении с ним перед Троею славно погибнуть!
Il ХХII 99, 108−110.
С точки зрения возвышенности и благородства гораздо достойнее принять бой (и в результате или победить, или геройски погибнуть), чем трусливо укрыться за стенами Трои. Но тут же Гектору приходит ещё одна мысль: разоружиться, пойти на переговоры с Ахиллом и пообещать ему выдачу Елены и всех богатств Трои, тем самым избежав сражения. Однако Гектор понимает, что на самом деле это ложная альтернатива: Ахилл его не пожалеет и нападёт в любом случае – будет ли Гектор вооружён или безоружен (Il ХХII 111−125). Возникшие было соображения выгоды оказываются бесполезными, остаётся идти на то, что подсказывает правило сохранения чести и перспектива получения посмертной славы:
Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы;
Нечто великое сделаю, что и потомки услышат!
Il ХХII 304−305;
Нам же к сражению лучше сойтись! и немедля увидим,
Славу кому между нас даровать Олимпиец рассудит!
Il ХХII 129−130.
В этом эпизоде, по словам А. Ф. Лосева, «отчаяние героя и его несокрушимая героическая воля даны сразу и одновременно».[42] Гектор оказывается заложником собственного высокого (героического) статуса, равного в данном случае статусу его противника Ахилла. Индивидуальный человек Гектор отчаянно боится смерти, в то время как военный вождь Гектор обязан соблюсти долг, обусловленный общественным статусом героя.
Стыд выражает собой опасение героя уронить (понизить) свой социально фиксированный статус. В том же случае, когда статус социально маркирован как нижайший, стыд оказывается неуместным. Так, Телемах через Эвмея передаёт «нищему» Одиссею пожелание, «чтоб потом обошёл он всех женихов и у них попросил подаянья – стыдливым нищему, тяжкой нуждой удручённому, быть неприлично» (Od XVII 345–347). Поэтому, согласно Платону, ссылающемуся на данное место «Одиссеи», в самом общем смысле «стыдливость – это благо и одновременно не благо» (Хармид 161 а), ибо она прилична в одном случае и неприлична в другом.
Выгода (польза)
Нередко основанием выбора того или иного способа поведения гомеровского героя оказывается, как это отчасти уже ясно, осознаваемая им выгода.[43] «Тот неразумен, кто пользы своей различать не способен», − говорит Одиссей (Od VIII 209). Сам он, размышляя, находит «удобный и верный» способ действий в отношении Киклопа (Od IX 318) и «удобнейший» путь из его пещеры (Od IX 424); обдумав, как ему поочерёдно опросить тени знаменитых женщин в Аиде, он придумывает «удобнейший» метод: подпускать их к яме с кровью поодиночке (Od XI 229−234); помышляя о своей пользе, он скрывает правду о себе в разговоре с неузнанной им Афиной (Od XIII 255). Афина же предлагает Одиссею, «всё дело обдумав», выбрать тот способ действий в отношении женихов, который наиболее «полезен» (Od XIII 365). Одиссей предлагает Телемаху поразмыслить, что им полезней сделать, дабы отсрочить месть со стороны родственников убитых женихов (Od XXIII 117, 130). Без колебаний Одиссей соглашается задержаться у Алкиноя хоть на целый год, поскольку ему
выгодно будет (κέρδιον εἴν)
С полными в милую землю отцов возвратиться руками.
Больше почтен и с живейшею радостью принят я буду
Всеми, кто встретит меня при моём возвращенье в Итаку
Od XI 358−361.
Повторю, что в контексте данного исследования меня интересуют описанные Гомером ситуации, требующие такого выбора, который связан не с «технологией» достижением цели, а со способом «вести себя».
1) Троянец Деифоб, оказавшись один против ахейца Идоменея,
в нерешимости дум волновался:
Вспять ли идти и, с троянцем каким-либо храбрым сложася,
Выйти вдвоём иль один на один испытать Девкалида?
Так Деифоб размышлял, и ему показалося лучше (κέρδιον εἶναι)
Вызвать Энея
Il ΧΙΙΙ 455−459.
Здесь выбор обоснован соображениями безопасности, успеха и т. п., то есть (в конечном счёте) пользы, а не чести.
2) На том же основании делает свой выбор и Нестор:
Так нерешительно Нестор душой колебался, волнуясь
Думой двоякой: к рядам ли идти аргивян быстроконных
Или к владыке мужей, властелину народов Атриду?
В сих волновавшемусь думах, сдалося полезнее (κέρδιον εἶναι) старцу
К сыну Атрея идти
Il ΧΙV 20−24.
3) Менелай, защищающий тело убитого Патрокла, видит приближающегося Гектора и начинает «совещаться» со своей душой:
Горе! когда я оставлю доспех сей прекрасный и брошу
Тело Патрокла, за честь мою положившего душу,
Каждый меня аргивянин осудит, который увидит!
Если ж на Гектора я и троян одинок ополчуся, Бегства стыдяся, один окружён я множеством буду:
Всех троянцев сюда ведёт шлемоблещущий Гектор.
Но почто у меня волнуется сердце в сих думах!
Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться,
Богом хранимым, беда над главой того быстрая грянет.
Нет, аргивяне меня не осудят, когда уступлю я
Гектору сильному в брани: от бога воинствует Гектор
Il XVII 91−101.
Опять, как видим, на первый план выходят соображения пользы действия: если Менелай останется сражаться один против Гектора и троянского войска (а значит, и против богов), то он не добьётся успеха, такое сражение будет бесполезным. Разумный человек «не станет вступать в сражение против очевидной воли божества»[44]; кроме того, «умение воздержаться от столкновения с заведомо более сильным противником, к тому же находящимся в данный момент под особым покровительством бога, составляет такую же норму поведения знатных, как стойкость в бою с равными».[45] Эти соображения и заставляют Менелая отступить.
4) Оказавшись перед Навсикаей, Одиссей колеблется, обнять ли её колени или просить помощи издали; ему «показалось более выгодным» молить словами издали, чтобы не разгневать девушку своим прикосновением:
Одиссей же не знал, что приличней:
Оба ль колена обнять у прекраснокудрявыя девы?
Или, в почтительном став отдаленьи, молить умиленным
Словом её, чтоб одежду дала и приют указала?
Так размышляя, нашёл наконец он, что было приличней
Словом молить умиленным, в почтительном став отдаленьи
(Тронув колена её, он прогневал бы чистую деву)
Od VI 141−147.
«Не дерзаю тронуть коленей твоих», − говорит Одиссей Навсикае (Od VI 168−169).
5) Увидев дым, поднимающийся над жилищем Цирцеи, Одиссей раздумывает, идти ли к жилищу или вернуться к товарищам; более полезным представляется второе:
Долго рассудком и сердцем колеблясь, не знал я, идти ли
К месту тому мне, где дым от земли подымался багровый?
Дело обдумав, уверился я наконец, что удобней
Было сначала на брег, где стоял наш корабль, возвратиться,
Там отобедать с людьми и, надёжнейших выбрав, отправить
Их за вестями
Od Х 151−156.
6) Писистрат колеблется рассудком и сердцем, как ему поступить: отвезти Телемаха в дом своего отца Нестора, дабы последний мог исполнить благородный долг гостеприимства, или выполнить просьбу Телемаха о быстрейшем отплытии на Итаку. Писистрату показалось «удобнее» удовлетворить желание Телемаха (Od XV 194−206).
7) В драке с Иром Одиссей размышляет, убить ли противника одним ударом или только опрокинуть на землю; «более выгодным» показалось дать Иру лёгкий толчок,[46] чтобы женихи не могли опознать Одиссея:
Себя самого тут спросил Одиссей богоравный:
Сильно ль ударить его кулаком, чтоб издох он на месте?
Или несильным ударом его опрокинуть? Обдумав
Всё, напоследок он выбрал несильный удар, поелику
Иначе мог бы в сердцах женихов возбудить подозренье
Od XVIII 90−94.
Одиссей рассуждает здесь не о том, как расправиться с Иром, то есть решает не чисто техническую задачу; не руководствуется он и жалостью к слабому; он раздумывает, как поступить, чтобы не сорвать акт справедливого возмездия. Следовательно, решение вопроса «убивать или не убивать» мотивируется не принципом гуманности, но соображением пользы.[47]
8) По той же причине Одиссей воздерживается от немедленной расправы с неверными рабынями, хотя поначалу колеблется: догнать их и перебить или позволить в последний раз увидеться с женихами (Od XX 5−24). Одиссей не убивает рабынь не потому, что не может или не знает, как это сделать, а потому, что в данной ситуации делать это невыгодно.
9) Во время расправы Одиссея с женихами певец Фемий колеблется, броситься ли к алтарю во дворе или припасть с мольбой к ногам вернувшегося хозяина дома:
С своею он цитрой в руках к потаённой прижавшись
Двери, стоял там, колеблясь рассудком, не зная, что выбрать,
Выйти ли в дверь и сидеть на дворе, обнимая великий
Зевсов алтарь, охраняющий дом, на котором так часто
Жирные бёдра быков сожигал Одиссей многославный,
Или к коленям его с умоляющим броситься криком?
Дело обдумав, уверился он, что полезнее будет (κέρδιον εἶναι)
Став на колена, Лаэртова сына молить о пощаде
Od XXII 332−339.
Полезным, «выгодным»[48] показалось обнять колени царя и просить о помиловании.
10) Придя к отцу в сад, Одиссей раздумывает, открыться ли ему сразу или «испытать» (Od XXIV 216) Лаэрта:
Не знал он, колеблясь рассудком, что сделать:
Вдруг ли открывшись, ко груди прижать старика и, целуя
Руки его, объявить о своём возвращенье в Итаку?
Или вопросами выведать всё от него понемногу?
Дело обдумав, уверился он напоследок, что лучше
Опыту старца притворнообидною речью подвергнуть
Od XXIV 235−240.
Одиссею кажется полезным, пока старик не впал в радостную эйфорию, получить от него кое-какую правдивую информацию, в том числе, видимо, и о его подлинном отношении к отсутствующему сыну.[49]
В указанных случаях решение без вмешательства божества принимается самим героем, перед которым, однако, не стоит никакой нравственной проблемы; он выбирает не ценное, но лишь «наиболее целесообразное».50 Суждение героя здесь – ещё не ценностное суждение, а, скорее, суждение знания: если поступить определённым образом, то неотвратимо последует определённый результат. Суждение же ценности велело бы поступать как должно, несмотря на последствия; иначе говоря, такое суждение никак не было бы обусловлено знанием об эмпирическом исходе поступка. Гомеровский грек, выбирая, отметает не недостойное, а бесполезное, безуспешное, невыгодное и т. п.
Наконец, отметим, что в некоторых случаях герои Гомера понимают, какое решение надо было принять с точки зрения пользы, когда неверный выбор уже сделан и что-либо менять поздно. Гектор осознаёт, что «полезнее» было бы увести троянское войско в город, а не вступать в бой с Ахиллом (Il XXII 103). Ахилл считает, что сохранить отношения с Агамемноном было бы «полезнее», чем вступать с ним в ссору, и раскаивается в том, что не понял этого раньше:
Столько ахейских героев земли не глодало б зубами,
Пав под руками враждебных, когда я упорствовал в гневе!
Il ХIХ 61−62.
Елена в разговоре с Приамом сожалеет о своём неверном предпочтении:
Лучше бы горькую смерть предпочесть мне, когда я решилась
Следовать с сыном твоим, как покинула брачный чертог мой,
Братьев, и милую дочь, и весёлых подруг мне бесценных!
Но не сделалось так; и о том я в слезах изнываю!..
Il ΙΙΙ 173−176.
Отсутствие оснований − отсутствие выбора
Случается, что герои Гомера, осознавая необходимость выбора, не успевают или не могут найти для него оснований, и тогда выбор оказывается нереализованной возможностью.
Например, Менелай в присутствии неузнанного им Телемаха вспоминает о бедствиях, постигших Одиссея, чем вызывает смущение и слёзы у сына итакийского царя; спартанец прерывает свою речь:
Долго, рассудком и сердцем колеблясь, не знал он, что делать:
Ждать ли, чтоб сам говорить о родителе юноша начал,
Или вопросами выведать всё от него понемногу?
Od IV 117−119.
Пока Менелай молчал, «рассудком и сердцем колеблясь» (Od IV 120), вошедшая Елена заметила в госте большое сходство с сыном Одиссея, а сопровождавший Телемаха Писистрат открыл хозяевам правду (Od IV 121−167); так что Менелай был избавлен от необходимости принимать решение совершившимся помимо его воли развитием событий.[51]
Другой случай. Перед встречей с вернувшимся Одиссеем Пенелопа размышляет,
Что ей приличнее: издали ль с ним говорить иль, приближась,
Голову, руки и плечи его целовать?
Od XXIII 86−87.
В результате она не делает ни того, ни другого, и лишь нетерпеливая реплика Телемаха (Od XXIII 96−103) прерывает затянувшееся молчание супругов.
Ещё один эпизод. Во время шторма Левкотея предлагает Одиссею воспользоваться её волшебным покрывалом, чтобы, покинув плот, вплавь добраться до земли. Одиссей, заподозрив «хитрость» богини, не решается уйти с плота, покуда тот ещё цел; пока он «колебался рассудком и сердцем» (Od V 365), Посейдон поднимает огромную волну, которая разбивает плот, и Одиссей поневоле оказывается в воде (Od V 333−379).
Троянец Агенор, оказавшись один против Ахилла, взвешивает различные варианты действий:
Горе мне! ежели я, оробев, пред ужасным Пелидом
В бег обращусь, как бегут и другие, смятенные страхом, −
Быстрый догонит меня и главу, как у робкого, снимет!
Если же сих, по долине бегущих, преследовать дам я
Сыну Пелея, а сам одинокий в сторону града
Брошусь бежать по Илийскому полю, пока не достигну
Иды лесистых вершин и в кустарнике частом не скроюсь?
Там я, как вечер наступит, в потоке омоюсь от пота
И, освежася, под сумраком вновь в Илион возвращуся.
Но не напрасно ль ты, сердце, в подобных волнуешься думах?
Если меня вдалеке он от города, в поле увидит?
Если, ударясь в погоню, меня быстроногий догонит?
О! не избыть мне тогда от сурового рока и смерти!
Сей человек несравненно могучее всех человеков!
Если ж ему самому перед градом я противостану?..
Тело его, как и всех, проницаемо острою медью;
Та ж и одна в нём душа, и от смертных зовётся он смертным
Il ХХI 553−569.
Если нельзя ни убежать, ни спрятаться, то надо сражаться; иначе говоря, раздумывая над выбором образа действий, Агенор приходит к мысли, что выбора-то у него и нет, и ему ничего не остаётся, как только вступить в бой.
Гектор, вызвав на поединок Аякса, трепещет при виде своего грозного противника;
Но ни врага избежать, ни в толпы ополчений укрыться
Не было боле возможности: сам на сражение вызвал
Il VII 217−218.
В той же ситуации оказываются женихи Пенелопы; Одиссей предлагает им выбор: или сражаться с ним, или бежать; при этом ясно, что они в любом случае погибнут (Od XXII 65−67). Женихам ничего не остаётся, как вступить в безнадёжную схватку с Одиссеем.
Выбор богов
Казалось бы, совсем иное дело – боги. Человек скован обстоятельствами, социальными нормами и роком. Божество осуществляет выбор действия по своему собственному разумению или даже по собственной прихоти. Так, Зевс, наблюдая подвиги Патрокла,
Много о смерти Патрокловой мыслил, волнуясь сомненьем:
Или уже и его в настоящем убийственном споре,
Тут, на костях Сарпедона великого, Гектор могучий
Медью смирит и оружия славные с персей похитит?
Или ещё да продлит он подвиг, погибельный многим?
В сих волновавшемусь мыслях, угоднее Зевсу явилась
Дума, да храбрый служитель Пелеева сына
Воинство Трои и меднодоспешного их воеводу,
Гектора, к граду погонит и души у многих исторгнет
Il XVI 647−655.
В этом случае, считает В. Н. Ярхо, формула рассуждения и выбора применена к Зевсу «чисто механически»; непонятно, на каком основании Зевсу показалось «более выгодным» продлить боевые успехи Патрокла[52]; читателю остаётся предполагать здесь лишь божественный каприз. Хотя, может быть, мы встречаемся здесь с фигурой умолчания: Зевс поступает так, как диктует судьба, известная ему; в своих действиях он выступает прежде всего как её блюститель и гарант. Об этом свидетельствует эпизод с гибелью Сарпедона. Зевс видит, что Патрокл готов поразить Сарпедона; жалея своего сына, Зевс начинает колебаться: позволить ли исполниться приговору судьбы или спасти Сарпедона от смерти? Гера возмущённо призывает Зевса не сопротивляться року.
Видящий их, возболезновал сын хитроумного Крона
И провещал, обращаяся к Гере, сестре и супруге:
“Горе! Я зрю, Сарпедону, дражайшему мне между смертных,
Днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побеждённым!
Сердце моё между двух помышлений волнуется в персях:
Я не решился ещё, живого ль из брани плачевной
Сына восхитив, поставлю в земле плодоносной ликийской
Или уже под рукою Патрокла смирю Сарпедона”.
Быстро вещала в ответ волоокая Гера богиня:
“Мрачный Кронион! какие слова ты, могучий, вещаешь?
Смертного мужа, издревле уже обречённого року,
Ты свободить совершенно от смерти печальной желаешь?
<…>
Сколько ты сына ни любишь и в сердце его ни жалеешь,
Ныне ему попусти на побоище брани великой
Пасть под руками героя, вождя мирмидонян Патрокла”.
<…>
Так говорила, и внял ей отец и бессмертных и смертных
Il XVI 433–458.
Кстати, когда Зевс хочет предотвратить убийство Гектора Ахиллом, Афина (как ранее Гера в отношении Сарпедона) возмущается:
Молниеносный отец, чернооблачный! Что ты вещаешь?
Смертного мужа, издревле судьбе обречённого общей,
Хочешь ты, Зевс, разрешить совершенно от смерти печальной?
Il ХХII 178−180.
Так что и прихоть богов ограничена установлениями рока.
В заключение не могу не отметить ряд эпизодов, в которых речь идёт также о выборе, но этот выбор мотивируется чем-то таким, что может быть приблизительно обозначено как счастливый конец, happy end жизненных испытаний. Вот суждение предпочтения, произносимое Афиной под видом Ментора:
Я ж согласился б скорее и бедствия встретить, чтоб только
Сладостный день возвращенья увидеть, чем, бедствий избегнув,
В дом возвратиться, чтоб пасть пред своим очагом, как великий
Пал Агамемнон предательством хитрой жены и Эгиста
Od III 232−235.
Здесь трудный путь к благополучию (случай Одиссея) предпочитается лёгкому пути к беде (случай Агамемнона).
Для Пенелопы лучше умереть с памятью о любимом муже, чем выйти замуж за человека, «противного сердцу» (Od XX 80−82). Если бы Одиссею пришлось выбирать, он предпочёл бы в одиночку сразиться со всеми женихами и славно «встретить смерть», чем терпеть их унизительные бесчинства (Od ХVI 105−111).
И всё же лучше жить, чем умереть, хотя бы и с честью. Об этом мы узнаём от самих мёртвых. «Царь Ахиллес готов быть последним подёнщиком на прекрасной земле, лишь бы вырваться из печального подземного мрака, где он царствует над тенями».[53] Призрак Ахилла ведёт такую речь:
О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как подёнщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мёртвыми царствовать, мёртвый
Od XI 488−491.
Человеку лучше, когда смерть ему ещё предстоит, чем когда она уже случилась и когда всякая возможность предпочтения и выбора непоправимо утрачена, навсегда исчезла.
Библиография
- Аванесов, С. С. (2010) «Аксиологические мотивы в поэмах Гомера (1)», ΣΧΟΛΗ 4.2, 260–290.
- Аванесов, С. С. (2004) «К истокам философского учения о ценности: аксиология стоицизма», Вестник Томского государственного университета 282, 30–35.
- Гусейнов, А. А. (2003) Античная этика. Москва.
- Доддс, Е. Р.(2000) Греки и иррациональное. Москва, Санкт-Петербург.
- Кон, И. С. (1978) Открытие «Я». Москва.
- Лосев, А. Ф. (2006) Гомер. Москва.
- Петрушевский, Д. М. (1896) Общество и государство у Гомера. Москва.
- Столяров, А. А. (1999) Свобода воли как проблема европейского морального сознания. Москва.
- Франк, С. Л. (1990) Крушение кумиров, Сочинения. Москва: 111–180.
- Шопенгауэр, А. (1914) Афоризмы житейской мудрости. Санкт-Петербург.
- Ярхо, В. Н. (1962) «Вина и ответственность в гомеровском эпосе», Вестник древней истории 2, 3−26.
- Ярхо, В. Н. (2000) «”Одиссея” − фольклорное наследие и творческая индивидуальность», Гомер. Одиссея. Москва: 289−329.
- Ярхо, В. Н. (2000а) «Примечания», Гомер. Одиссея. Москва: 355–451.
- Ярхо, В. Н. (1963) «Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского человека», Вестник древней истории 2, 46−64.
- Ярхо, В. Н. (1966) «Размышление и решение Пеласга в трагедии Эсхила “Молящие”», Вопросы античной литературы и классической филологии, 99–106.
[1] См. Аванесов 2010, 284–289.
[2] Ср. с признанием апослола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим 7: 19). Овидий выразился в том же смысле: video meliora proboque, deteriora sequor (Метаморфозы VII 20).
ΣΧΟΛΗ Vol. 6. 2 (2012)
[3] См. Аванесов 2004.
[4] Например, к нашей теме не относится выбор Одиссеем места для выхода из моря на берег (Od V 406−424) или места для ночлега (Od V 464−475), хотя и в том и в другом случае присутствовало колебание рассудка и сердца. Одиссей «своим рассудком» выбирает, что «безопаснее»: вести корабль мимо бродящих скал или пройти между Скиллой и Харибдой (Od ХII 55−111), то есть решает чисто навигационную задачу. Также, когда Нестор говорит о том, что он и Одиссей, «обдумавши строго, то лишь одно избирали, что было ахейцам полезней» (Od III 128−129), разговор ведётся только о военной тактике. В подобных случаях «речь идёт не о следовании какой-либо этической норме» (Ярхо 2000, 312), а о «технической» организации действия.
[5] Доддс 2000, 29.
[6] Лосев 2006, 177.
[7] Доддс 2000, 29.
[8] Ср. Ярхо 2000а, 396.
[9] Ярхо 1963, 59.
[10] Лосев 2006, 176.
[11] Ярхо 1963, 51.
[12] Ярхо 1963, 53.
[13] Таким же образом действует Афина в трагедии Еврипида «Рес», когда (в данном случае – явно) запрещает Диомеду убивать Париса, ибо это случилось бы «наперекор судьбе» (Еврипид, Рес 635–636).
[14] Лосев 2006, 181.
[15] Ср.: «А вы не горячитесь! Сын Лаэрта, / Отточенный свой меч ты лучше спрячь. / Спит на земле фракиец, ваша жертва, / И кобылиц ему уж не отбить. / Но не теряйте ни минуты: вести / Уж носятся по стану, и на вас / Гроза идёт: домой, домой, герои!» (Еврипид, Рес 668–674).
[16] Ярхо 1963, 60; Ярхо 1966, 102.
[17] Ярхо 1963, 62.
[18] Ярхо 1963, 62.
[19] Ярхо 1963, 61.
[20] Ярхо 1966, 106.
[21] Ср. с суждением Сократа о том, что «прекрасное» и «постыдное», «справедливое» и «несправедливое», «священное» и «нечестивое» определяются в своём содержании решением полиса, то есть имеют исключительно социально-политический характер (Теэтет 172 а).
[22] Из трёх возможных регуляторов человеческой активности (страх, стыд, совесть) в античности преобладающим был именно стыд, ориентирующий эту активность на социальное признание (Кон 1978, 157−160).
[23] Доддс 2000, 26.
[24] Афинянин в «Законах» говорит, что «мы боимся нередко чужого мнения – как бы нас не сочли за дурных людей, если мы совершаем или говорим что-либо нехорошее. Этот вид страха мы <…> называем стыдом» (Законы 646е−647а). Так понимаемый стыд является причиной победы в битве. «Ведь есть две причины победы: отвага перед неприятелем и страх злого стыда перед друзьями» (Законы 647 b). В «Определениях» стыд – это «страх перед ожидаемым бесчестьем» (416), а бесстыдство – «терпеливость души к бесчестью во имя выгоды» (416). Согласно антропогоническому мифу, рассказанному Протагором, само происхождение стыда обусловлено социальными предпосылками, точнее – недоразвитостью первобытной социальности («не было у них уменья жить сообща»). «Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род, посылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и дружественной связью» (Протагор 322 с); при этом был введён закон, согласно которому «всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества» (Протагор 322 d).
[25] Столяров 1999, 79. Стыд есть «своего рода страх дурной славы» (Никомахова этика 1128 b 12), «некоторого рода страдание или смущение по поводу зол, <…> которые <…> влекут за собой бесчестье» (Риторика II 1383 b 15). Человек стыдится таких поступков, которые представляются «постыдными» или ему самому, или тем, на чьё мнение он обращает внимание (Рит. II 1383 b 18−20). Стыд связан также с претерпеванием того, «что ведёт к бесчестью и позору» (Рит. II 1384 а 15−20). Итак, «стыд есть представление о бесчестье и имеет в виду именно бесчестье» (Рит. II 1384 а 20−25); при этом человек принимает во внимание не просто чужое мнение как таковое, а выраженное мнение, следовательно, «человек стыдится тех, с кем он считается» (Рит. II 1384 а 26). Стыдно бывает лишь за то, что совершается явно» (Рит. II 1384 а 35; 1385 а 5−10); не стыдимся же мы «тех, за коими мы не признаём основательного мнения», то есть детей и зверей (Рит. 1384 b 20−25). О стыде Аристотель также пишет: «Обладание серединой возможно и в проявлениях страстей, и в том, что связано со страстями; так, стыд – не добродетель, но стыдливый (αἰδήμων) заслуживает похвалы и в известных вещах держится середины; а у иного – излишек стыда, например, у робкого, который всего стыдится. Если же человеку не хватает стыда или его нет вовсе, он беззастенчив» (Никомахова этика 1108 a 32−36). Таким образом, стыд – не добродетель, но признак добродетельности. «О стыде не приличествует говорить как о некоей добродетели, потому что он больше напоминает страсть, нежели склад [души]» (Никомахова этика 1128 b 10). Стыд, по Аристотелю, должен быть присущ молодому, ещё не вполне сложившемуся человеку; взрослому же и порядочному человеку стыд не свойствен: «Стыд ведь бывает за добровольные поступки, а порядочный человек по своей воле никогда не сделает дурного» (Никомахова этика 1128 b 25−30). Таким образом, стыд отнесён здесь не к сфере блага, в которой целиком пребывает совершенный человек, а к «промежуточной» сфере ценностей, как она понимается в античности.
[26] Гусейнов 2003, С. 19. То же имя носит богиня правосудия.
[27] Эсхил, Агамемнон 616.
[28] Доддс 2000, 34; ср. Ярхо 2000а, 368. Этим же словом именуется богиня справедли-вости и возмездия. В редчайших случаях стыд выступает как индивидуальное переживание, не связанное с общественным мнением; «стыдно себя обнажить мне при вас, густовласые девы», − говорит Одиссей рабыням Навсикаи, приглашающим его к омовению (Od VI 222); богини не приходят поглазеть на пойманных Гефестом в постели Афродиту и Ареса, «сохраняя пристойность» (Od VIII 324).
[29] Ярхо 1962, 9.
[30] По толкованию Сократа, Ахилл «презирал опасность» именно «из страха сделать что-нибудь постыдное»; даже зная об ожидающей его участи, он вступает в сражение с Гектором; он «не посмотрел на смерть и опасность, а гораздо больше убоялся оставаться в живых», ибо в последнем случае он прослыл бы трусом, избегающим обязанности мстить за друзей (Апология Сократа 28 с–d).
[31] Доддс 2000, С. 26−27. Согласно тому же Доддсу, «во фрагментах Гераклита отсутствует свойственная Эмпедоклу идея вины. Подобно Гомеру, Гераклита, кажется, более занимали вопросы чести» (Доддс 2000, 179).
[32] Доддс 2000, 34.
[33] Доддс 2000, 27. Страх перед негативным общественным мнением есть, по Сократу, сущность стыда; поэтому «там, где стыд, там и страх» (Евтифрон 12 b). «Разве возможно, – восклицает Сократ, – чтобы совестящиеся и стыдящиеся чего-либо люди не страшились и не избегали бы при этом дурной молвы? <…> Поэтому неверно говорить, [что] “где страх, там и стыд”; наоборот, где стыд, там и страх, но вовсе не так обстоит дело, что всюду, где страх, там и стыд, ибо страх встречается чаще, чем стыд. Стыд ведь есть как бы часть страха» (Евтифрон 12 b–с).
[34] Лосев 2006, 289.
[35] Собственно: «хоть бы вы сами себя осудили, людей ли чужих постыдились, соседей окрестных».
[36] У Сократа, однако, положение о
том, что общественное мнение является критерием достоинства человеческого
поведения, уже подвергается ревизии. Например, с одной стороны, Критон отмечает
необходимость заботиться о «мнении большинства», поскольку это большинство
способно причинить величайшее зло индивиду (Критон 44
d). С другой стороны, Сократ утверждает, что «на одни мнения следует обращать
внимание, а на другие нет» (Критон 46
d); «не все человеческие мнения следует уважать, но одни следует уважать, а
другие нет» (Критон 47
а). Само общественное мнение должно быть предметом ценностного суждения, а не его основанием: «из мнений,
какие бывают у людей, одни следует, а другие не следует высоко ценить» (Критон 46 е).
Большинство может придерживаться ошибочного мнения, а потому и не следует
заботиться о «мнении большинства» (Критон 44
с); большинство не знает истины (Гиппий
бол. 284 е); «большинство ошибается в понимании того, что
является наилучшим, поскольку большей частью, как я думаю, за отсутствием ума
доверяется кажимости» (Алкивиад
II 146 с). Ценить мнение одного разумного лучше, чем мнение
многих неразумных (Критон 47
с). «Ведь я, о чём бы ни говорил, могу выставить лишь одного свидетеля –
собеседника, с которым веду разговор, а свидетельства большинства в расчёт не
принимаю» (Горгий 474
а). Ср. с мнением Гераклита: «Один для меня – тьма [=десять тысяч], если он
наилучший» (22 В 49 DK = 98 Marcovich). Эта фраза Гераклита воспроизведена в
эпиграмме, помещённой у Диогена Лаэртия (IX 16). Отголоски данного суждения
слышны у Платона. В «Горгии» Сократ говорит Калликлу: «Значит, по твоему
разумению, нередко один разумный сильнее многих тысяч безрассудных, и ему
надлежит править, а им повиноваться, и властитель должен стоять выше своих
подвластных. Вот что, мне кажется, ты имеешь в виду <...> если один сильнее
многих тысяч» (490 а). Сенека приписывает подобное по смыслу высказывание
Демокриту: unus mihi pro populo est et populus pro uno: «Для меня один человек
– что целый народ, а народ – что один человек» (Ep. VII 10); согласно
Демокриту, «дружба одного разумного лучше дружбы всех неразумных» (фр. 660
Лурье). Следовательно, не стоит принимать во внимание мнение некомпетентного
большинства «относительно справедливого и несправедливого, безобразного и
прекрасного, доброго и злого»; напротив, надо следовать мнению одного, «если
только есть такой, кто это понимает»; вот его-то и «должно стыдиться и бояться
больше, чем всех остальных, вместе взятых» (Критон 47
с−d). «Я думаю, − говорит Сократ, − что судить надо на основе знания, а не
принимать решение по важному вопросу большинством голосов» (Лахет 184 е). Не зря
Сократ предлагает при исследовании наиболее значимых для человека вопросов
«обращаться друг к другу», а большинство «оставить в покое» (Федон 64 с); ведя речь
о прекрасном, Сократ рассуждает не о том, «что кажется прекрасным большинству,
а о том, что прекрасно на самом деле» (Гиппий
б. 299 b). «Стало быть, уже не так-то должны мы заботиться о
том, что скажет о нас большинство, <…> а должны заботиться о том, что
скажет о нас тот, кто понимает, что справедливо и что несправедливо, − он один
да ещё сама истина» (Критон 48
а). Интересно свидетельство Корана: «Если ты послушаешься большинства тех, кто
на земле, они сведут тебя с пути Аллаха. Они следуют только за предположением»
(6:116).
[37] Ярхо 2000а, 368. Термин νέμεσις, который обычно и переводят как «совесть», в точном смысле означает «боязнь воздаяния» (Гусейнов 2003, 24). Об индивидуальной νέμεσις см. у Аристотеля (Никомахова этика 1108 b 1−5).
[38] Лосев 2006, 207.
[39] Лосев 2006, 206–207.
[40] Доддс 2000, 27. «Молва народа – это сила грозная», – признаёт Агамемнон (Эсхил, Агамемнон 929). У Еврипида Елене стыдно показаться на глаза жителям Микен, многие из которых потеряли родственников на войне, начавшейся из-за неё (Орест 117−122); она не решается посетить могилу своей сестры Клитемнестры, «боясь аргосской черни» (Орест 137). Знаменательно мнение киренаиков о том, что «нет ничего справедливого, прекрасного или безобразного по природе: всё это определяется установлением и обычаем. Однако знающий человек воздерживается от дурных поступков, избегая наказания и дурной славы, ибо он мудр» (Диоген Лаэртий II 93). Ср. с высказыванием А. Шопенгауэра о том, что «высокая ценность, приписываемая чужому мнению, и постоянные наши заботы о нём» преступают «границы целесообразности» и даже «принимают характер мании», когда во всякой деятельности «мы справляемся прежде всего с чужим мнением», основывая на нём своё чувство гордости и достоинства (Шопенгауэр 1914, 55–56). Эта забота, согласно С. Л. Франку, – не «внутренний стыд перед самим собою», но всего лишь «страх общественного порицания, рабская трусость перед мнением других» (Франк 1990, 148).
[41] Лосев 2006, 207.
[42] Лосев 2006, 291.
[43] Ср. Ярхо 2000, 311.
[44] Ярхо 1963, 61.
[45] Ярхо 1963, 62.
[46] Ярхо 1963, 58.
[47] По тем же соображениям Одиссей удерживается от расправы над оскорбившим его Мелантием (Od XVII 235−238); здесь, правда, Гомер ничего не говорит о душевных колебаниях героя.
[48] Ярхо 1963, 58.
[49] Таким образом, нельзя сказать, что в этом последнем случае «соображения выгоды не могут иметь никакого значения» (Ярхо 2000, 311).
[50] Ярхо 1963, 57.
[51] Менелай ещё в одном эпизоде выставлен как тугодум: пока он размышлял, что означает полёт орла справа налево, Елена дала своё пророческое толкование этого знака (Od XV 169−171).
[52] Ярхо 1963, 57.
[53] Петрушевский 1896, 52.