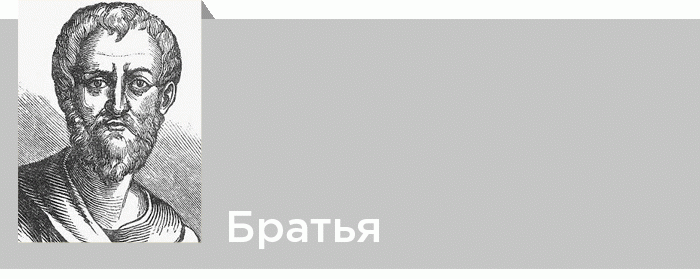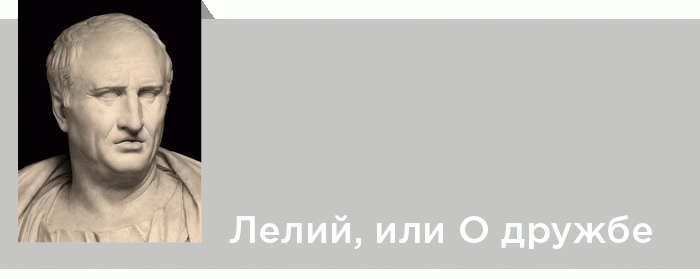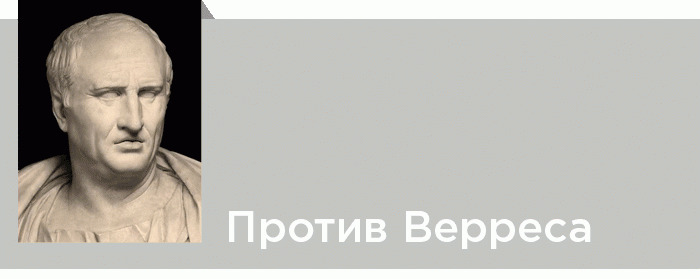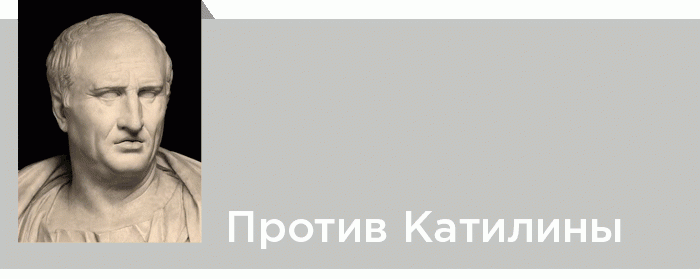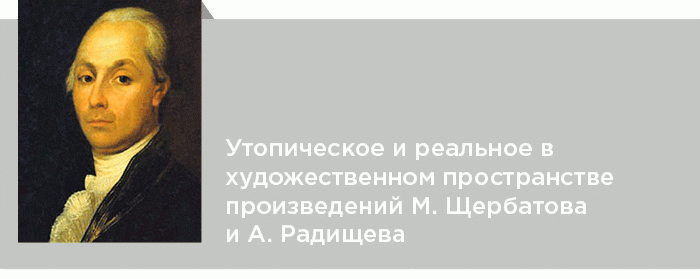Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона (К вопросу об особенностях римской мифологии истории)

Г. Г. Майоров
Древние римляне не имели такой богатой и детально разработанной автохтонной мифологии, какой обладали греки. Причиной тому, как обычно считают, был практический склад их национального характера, преобладание в нем начала деятельного над созерцательным, трезвого рассудка над фантазией. Ведь, согласно Цицерону (Tusc. I, 2, 3), и поэзия возникает у римлян довольно поздно, а высокого литературного уровня она достигает только у Энния (III-II вв. до н. э.), который к тому же был полугреком.
Вполне естественно, что при отсутствии развитой мифологии, точнее — «космической» мифологии, представляющей собой у всех народов первоначальную форму социально значимого «предфилософского» мировоззрения, у римлян очень поздно возникает и философия. Она появляется на стадии зрелой римской государственности, и притом под непосредственным влиянием греческой философии. Для сравнения напомним, что сама греческая философия формируется несколькими веками раньше, вместе с постепенным становлением и утверждением греческого полиса. Но еще важнее то, что римляне, приобщившиеся к философии через греков, с самого начала заимствуют у них не всю философию, но в основном только практическую ее часть — учение о нравственности и государстве, т. е. то, что было ближе их национальному вкусу и к восприятию чего они были уже подготовлены своей собственной историей. И хотя верно, что римляне «умели улучшать и совершенствовать заимствованное у греков, если они находили это достойным своих стараний» (Tusc. I, 1), однако верно и то, что они, за редким исключением, всегда оставались равнодушными к греческой «метафизике», а к «физике» и «логике» не добавили ничего существенно нового. Главной сферой приложения римского гения была не область абстрактного и даже не область природы, а область человечески конкретного — сфера истории. Здесь римляне превзошли греков и масштабностью исторических свершений, и глубиной исторического чувства. Политическое, моральное и даже религиозное сознание римского гражданина было всецело связано с историей, но всегда — заметим — не с историей «большого» мира, а с историей Города (Urbs) и своего народа. При всем своем универсализме, столь достоверно показанном в известной книге А. Ф. Лосева, римляне больше патриоты, даже националисты, чем космополиты, — во всяком случае, во времена республики и раннего принципата. И неудивительно, что предания собственной истории, легендарной и действительной, выступали у них в роли сакральных мифов, отчасти компенсируя бедность автохтонной «космической» мифологии — той, что персонифицирует и обожествляет силы природного космоса. Эта своеобразная мифология «домашней» истории оказала на всю римскую культуру почти такое же могучее оплодотворяющее воздействие, какое эллинская космическая мифология оказала на культуру греков. В поэзии, в риторике, в моралистике, в правовой теории, наконец, в историографии — словом, везде, где проявил себя римский гений, «ехетрium domesticum имеет для римлян такую же силу и значение, как для древних греков мифическая парадигма». Трудно представить себе произведения Софокла и Еврипида, Эмпедокла или Платона без мифических персонажей. Точно так же нельзя представить себе поэму Энния или диалоги Цицерона без персонажей реальной римской истории — без всех этих Камиллов, Регулов, Дециев, Клавдиев, Фабрициев, Сципионов и т. п.
Образ Катона неоднократно встречается в «Письмах», в обвинительных и защитительных речах (особенно в «Verrinae II», «Pro Murena», «Pro Sulla», «Pro Archia»). Есть основания считать, что даже в «Утешении», ныне утраченном сочинении Цицерона, написанном по случаю преждевременной смерти его любимой дочери Туллии, он вдохновлялся образом Катона.
Специально Катону посвящен один из разделов диалога «Брут» и полностью диалог «О старости». Чем же объяснить эту поразительную привязанность утонченного интеллигента-философа Цицерона к образу прямодушного и грубоватого Катона, восхвалявшего крестьянский труд и презиравшего философию? Уж во всяком случае не тем, что Цицерон «находил кое-что общее в их жизненном пути, в их судьбе и карьере», как полагал С. Л. Утченко, опираясь на выводы В. Зюсса. Объяснением этой привязанности скорее могут служить слова, вложенные Цицероном в уста действительно близкого ему по духу Лелия, главного участника диалога «О дружбе»: «...не ставь выше Катона даже того человека, которого... Аполлон признал мудрейшим, ибо первого прославляют за его деяния, а второго — только за суждения» (De amie. 2). Если иметь в виду, что речь здесь идет о Сократе и что Цицерон считал его родоначальником самой нужной для человека, «земной», нравственно-практической философии (Tusc. У, 4), а всех отклоняющихся от линии Сократа называл «философской чернью» (plebeii philosophi) (Ibid. I, 23), то секрет привязанности Цицерона к образу Катона легко раскрывается. Сократ для Цицерона — мудрец чужестранный, греческий; его мудрость, как бы совершенна она ни была, состоит только в знании. Он только философ и учитель нравственности. Катон — мудрец другого, римского типа; он мудр в действии — в образе жизни и прежде всего в политическом действии, которому в римской системе ценностей подчинена даже мораль. Он образцовый государственный муж и образцовый гражданин, а быть таковым и означает для истинного римлянина достичь высшей мудрости. Сколь бы ни чтил Цицерон греческую философию, называя ее «матерью всех наук», «созданием богов», «спасительницей», «наставницей порядка и нравственности», «родительницей жизни» (Ibid. I, 26; V, 2),.сколько бы сил он ни отдавал ее изучению и философскому просвещению своих соотечественников, все же выше ее он всегда ставил практическую и государственную мудрость римлян (De orat. Ili, 15). Катон Старший как раз и являл собой для Цицерона идеальный образец этой мудрости. Разумеется, тот образ Катона, который мы найдем в диалогах Цицерона, есть не что иное, как исторический миф — один из многих, созданных римским политическим сознанием за многовековую историю римской государственности. Но это именно исторический миф, и его основой все-таки служат реальные факты.
Изображая Катона в своих диалогах, Цицерон руководствовался, во-первых, преданием; во-вторых, сочинениями самого Катона; в-третьих, его жизнеописаниями, составленными римскими анналистами конца II — начала I в. до н. э., о которых мы, правда, почти ничего не знаем; в-четвертых, конечно же, собственной интуицией и фантазией. Широко распространенные предания о Катоне, а возможно, и летописные портреты представляли его как человека во многих отношениях выдающегося. Об этом мы узнаем со слов Аттика в диалоге «Брут»: «Катон — человек, бесспорно, замечательный, муж великий и даже величайший — с этим никто но спорит!». Аттик, следуя традиции, ценит Катона «как гражданина, как сенатора, как полководца, наконец, как человека рассудительного, распорядительного, блещущего всеми добродетелями», у которого «явственно видно дарование» (Brut. 85). Однако Цицерон все же не вполне доволен традиционной оценкой Катона. Ему кажутся недооцененными другие и, может быть, важнейшие достоинства этого государственного деятеля — достоинства, которые обнаруживаются при анализе его сочинений. Уже никто не помнит Катона как оратора, сокрушается Цицерон, а ведь он произнес не меньше речей, чем афинянин Лисий. Более 150 из них были записаны, и Цицерон их внимательно изучил. И какие это речи! В них есть и тонкость, и изящество, и остроумие, и аттическая краткость, в них, как и в его сочинении «Начала», содержатся «все цветы и все украшения красноречия», и этого Катон достиг совершенно самостоятельно, без всякого влияния греческой риторики (Ibid. 16, 17). Единственная слабость катоновских речей — недостаточная их отделанность (Ibid. 18; Orat. 45), но и этот недостаток Цицерон оправдывает, говоря, что Марк Катон и некоторые другие его современники «были отличными ораторами, но они заботились не столько о силе своих речей, сколько о могуществе своего отечества» (De orat. I, 49). В этом диалоге, в разделе, посвященном соотношению философии и риторики, Цицерон высказывает свое мнение о двух типах мудрости: досужно-созерцательной и деятельно-практической, политической. Явно отдавая предпочтение второму типу, он относит Катона к числу тех, кто сознательно ставил «науку мыслить и говорить», которую Цицерон отождествляет с мудростью, па службу общему делу — республике (Ibid. Ili, 15). Таким образом, Катон выступает здесь выразителем центральной идеи всего цицероновского творчества — идеи единства мысли, слова и дела.
В трактате «Об ораторе» мы встречаемся и с другими ключевыми положениями учения Цицерона, подкрепляемыми авторитетом: Катца. Так, говоря о необходимости для оратора знания права, Цицерон ссылается па Катона, как на того, кто превзошел красноречием всех своих современников и в то же время был «величайшим знатоком гражданского права».
Выясняя соотношение между риторикой и историографией, Цицерон вновь обращается к автору «Начал», но теперь как к историку. Интересно, что как историк Катон оценивается здесь хотя и положительно, но довольно сдержанно. Отмечается сухость языка и недостаточная художественность его исторического трактата. Противореча этому в более позднем диалоге «Брут», Цицерон найдет в «Началах», как мы видели, все «цветы» красноречия. Однако и в данном случае Катон не осуждается: несовершенства его литературного слога списываются на счет неразвитости тогдашнего искусства историографии (Ibid. II, 12). В целом же в риторических диалогах Катон предстает как государственный муж, лоистине совершенный: «Λ чего в самом доле, — говорит Цицерон, — недоставало Марку Катону, кроме нынешнего заморского и заемного лоска образованности? Разве знание права мешало ему выступать с речами? или его ораторские способности — изучать право? И в той и в другой области он работал с успехом. Разве известность, какую он заслужил, ведя частные дела, отвлекала его от дел государственных? Нет: он был мужественнее всех в народном собрании, лучше всех в сенате и, бесспорно, был отличным полководцем. Словом, в те времена у нас не было ничего, что можно знать и изучать и чего бы он не знал, по исследовал и даже не описал бы в своих сочинениях» (Ibid. III, 33).
Иные стороны личности Катона раскрываются в специально посвященном ему диалоге «О старости». Цицерон сочинил этот диалог в предпоследний год своей жизни, находясь в вынужденном уединении в Тускуле, где когда-то родился и на старости лет жил сам Катон. По-видимому, здесь, в Тускуле, Катон написал свой знаменитый трактат «О земледелии», сохранившийся до наших дней. В нем старый сенатор возвеличивал крестьянский труд и скромный сельский образ жизни, со всей свойственной ему дотошностью (вспомним: Garthaginem esse delendam!) описывал хозяйственное устройство и распорядок работ на идеальной, с его «государственной» точки зрения, римской вилле. Диалог Цицерона как раз и показывает нам Катона в его частной (хотя и не только) сельской жизни, главным содержанием которой является нелегкий, но необходимый для образцового римского гражданина труд.
Катон уже стар, ему 84 года. Но он и теперь сочетает в себе все добродетели римлянина. Каковы же они? Прежде всего это «политические», гражданские добродетели. Он неустанно заботится о благе республики. Когда-то он защищал ее как воин на полях сражений, как трибун, легат и консул (18), потом оберегал ее традиции и нравственные устои как цензор (42), теперь он помогает ей советами (18), защищая ее своей мудростью и авторитетом (15). Политический идеал, которому он всегда следует, может быть выражен известным стихом Энния (Ann.):
Древний уклад и мужи — вот римской державы опора.
Но древний уклад основан на труде и «естественном» образе жизни, отсюда же проистекает и доблесть мужей. Поэтому идеалом Катона является в конце концов трудовая и естественная жизнь. Перечисляя причины, которые обычно делают старость непривлекательной, первой он называет вынужденную бездеятельность (15) и на многих примерах показывает, что активность, и притом общественно полезная, доступна всякому возрасту и что любой труд, а особенно крестьянский, приличествует честному гражданину (21-24). О собственной активности в преклонном возрасте он говорит: «Я работаю над седьмой книгой «Начал»; собираю все воспоминания о древности, теперь особенно тщательно обрабатываю речи, произнесенные мною при защите во всех знаменитых делах; рассматриваю авгуральное, понтификальное и гражданское право; много занимаюсь и греческой литературой... Оказываю помощь друзьям, часто прихожу в сенат, добровольно принося туда плоды зрелого и долгого размышления, и защищаю их силами своего духа, а не тела» (38). Нетрудно заметить, что устами Катона здесь говорит о своих занятиях сам Цицерон. Но пусть нас это не смущает; ведь образ Катона — это образ идеального римлянина, а он и должен заниматься всеми этими вещами. Кроме того, у такого земного и практичного человека, как Цицерон, идеалы не могли слишком расходиться с действительностью, и как бы то ни было его изображение занятий Катона выглядит вполне достоверно: ведь Катон действительно в старости заканчивал свои книги и занимался правом, ходил пешком из Тускула в Рим, чтобы выступить на форуме, и, вполне возможно, изучал греческую литературу. Деятельный римлянин — это просто нормально. Цицерон даже весьма объективен, ибо дальше он еще подробнее изображает добродетели Катона, самому Цицерону не очень свойственные. Ведь занятие, самое близкое сердцу Катона, — это земледелие (51), чего не скажешь о Цицероне. Больше того, согласно Катону, земледелие «наиболее соответствует образу жизни мудреца» (51) — это уже нечто такое, что невольно напоминает не о Цицероне, а о таких мудрецах, как Гораций и Вергилий. Правда, у цицероновского Катона «земледельческая» мудрость имеет свойства гражданской добродетели: ведь земледелие достойно мудреца, так как «приносит пользу всему человеческому роду» (56), и прекрасно было то время, когда сенаторы пахали и отправлялись решать государственные дела прямо с поля (56-57). Да что сенаторы! Персидский царь Кир Младший гордился тем, что сам обрабатывал свой сад (59). Мудрость Катона включает также экономический (неотъемлемый от римского сознания!) и эстетический элементы. Мудрец изберет земледелие и потому, что оно «прибыльно» (51), и потому, что земледельческий труд сам по себе несет большую радость — его живописанию в диалоге посвящены, может быть, лучшие страницы (51-59). В общем, «хорошо обработанную землю ничто не может превзойти ни по доходности, ни по красоте» (57). Катон у Цицерона — рачительный и рассудительный хозяин, и Цицерон, если сравнить его диалог с катоновским «руководством» по земледелию, не погрешает здесь против истины. Но важно другое: трудолюбие и хозяйственная предприимчивость обязательны для цицероновского идеального римлянина.
Переходя от гражданских добродетелей к добродетелям характера и достоинствам души, отметим, что Катон, как совершенный римлянин, скромен в потребностях (8, 55), прост в обращении (24), дружелюбен и гостеприимен (35, 45, 46), не раб плотских наслаждений, но и не отвергает их полностью (45-48) — плотским удовольствиям он предпочитает духовные (49-50). Он понимает, что «в царстве наслаждения доблесть утвердиться не может» (41) и что тот, кто стремится только к наслаждениям, не может быть хорошим гражданином (40). Он одобряет строгость, но не любит жестокость (66). Мужественно переносит он смерть любимого сына (84), собственной смерти не страшится (72), но зато, как истинный римлянин, стремится к бессмертной славе (82). Во всем своем поведении он руководствуется античным принципом меры (33, 45-48). Добавим еще и то, что Катон обладает трезвым рассудком (5), редкостной памятью (21) и телесной крепостью (27), и тогда образ идеального римлянина, нарисованный Цицероном в диалоге «О старости», будет завершен.
Подведем итоги. Образ Катона Старшего, созданный Цицероном, это не исторический в собственном смысле, а идеологический и мифологический образ. В нем воплотились мечты и идеалы Цицерона, убежденного республиканца и патриота, глубоко переживавшего современный ему процесс разложения римского республиканского строя и девальвации традиционных римских гражданских и нравственных ценностей. Миф о Катоне — это «работающий» миф. Он должен был напомнить римлянам об их славном прошлом, об их ответственности перед историей, должен был повлиять на их мировоззрение и в какой-то мере приостановить начавшийся процесс перерождения.Таков был расчет Цицерона. И хотя этот расчет не оправдался, он был не лишен смысла. Практичные и рассудочные римляне охотнее верили мифам о своих знаменитых предках, чем греческим мифам о богах и доисторических героях. Культ национальной истории прививался им столетиями. И они действительно верили в того совершенного Катона, которого изобразил Цицерон, и верили, как свидетельствуют более поздние историки, философы и поэты, до последних времен империи.
Л-ра: Античная культура и современная наука. – Москва, 1985. – 55-62.
Произведения
Критика