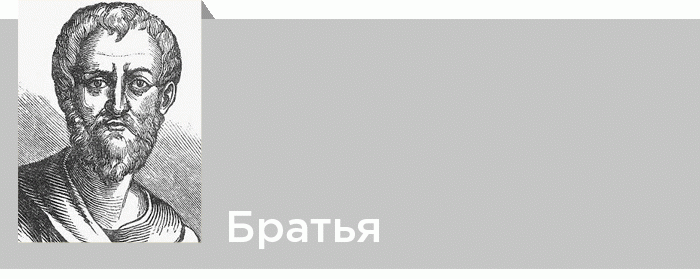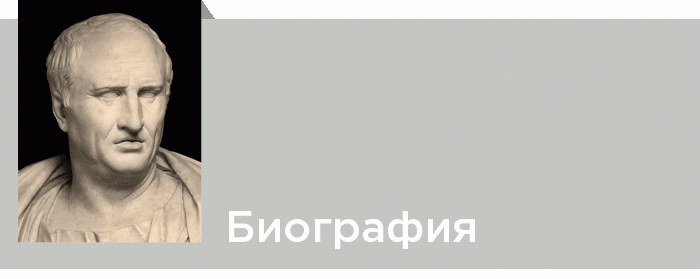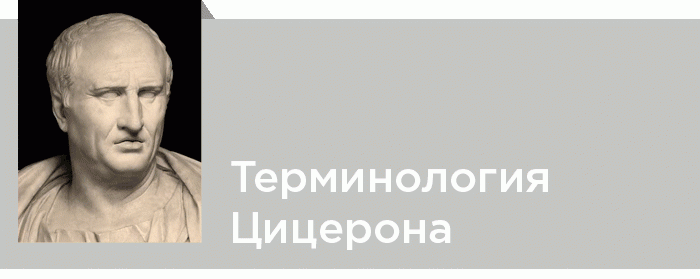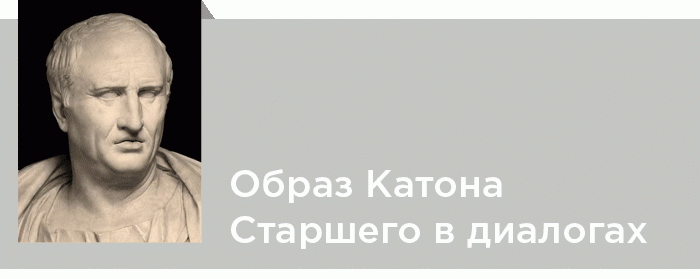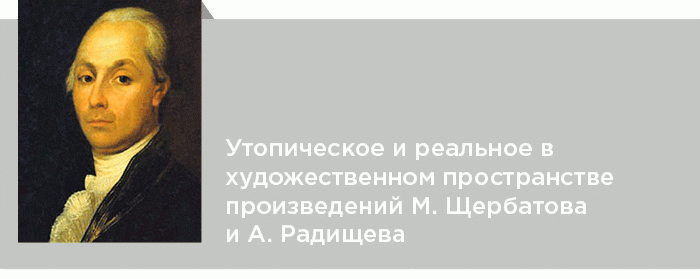Марк Туллий Цицерон. Против Верреса
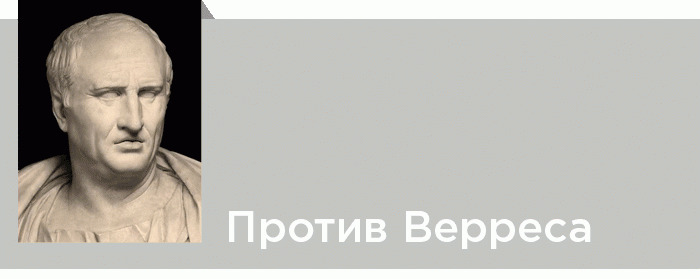
(Отрывок)
Второе слушанье дела, книга пятая
О КАЗНЯХ
I. (1) Я вижу, почтенные судьи, никто уже не сомневается в том, что Гай Веррес и от своего имени, и от имени государства совершенно беззастенчиво грабил в Сицилии достояние богов и смертных; он преуспевал во всех видах воровства и разбоя, не страшась богов и не таясь перед людьми. Но есть у него защита, выставляемая блистательно и пышно. Мне придется хорошенько обдумать, судьи, каким образом я стану обороняться. Ведь дело представляют так, будто в смутные и страшные времена сицилийская провинция была спасена от беглых рабов и военных опасностей доблестью и редкою бдительностью этого человека.
(2) Что же мне делать, судьи? Как строить мое обвинение? К чему взывать? Ведь любому моему натиску, как стена, противопоставлено будет имя славного полководца. Прием не нов: мне ясно, как готовится восторжествовать Гортензий. Он, конечно, сошлется на угрозы войны, трудные для государства времена, недостаток в полководцах, а потом станет умолять, а потом в сознании своей правоты даже настаивать: неужто вы потерпите, чтобы римский народ из-за показаний сицилийцев лишился такого полководца, неужто захотите, чтобы обвинения в алчности отемнили славу военачальника?
(3) Не могу притворствовать, судьи: я боюсь, как бы из-за этой редкой военной доблести не остались Верресовы дела без наказания. Я вспоминаю речь Марка Антония в суде над Манием Аквилием, — сколько было в ней силы, сколько действенности! Так как был он оратором не только умелым, но и смелым, то, почти уже закончив речь, он вдруг схватил самого Мания Аквилия, выволок его напоказ и разорвал на нем тунику, чтобы видели судьи и римский народ все рубцы от ран, принятых им прямо в грудь; а сам повел рассказ и о той ране в голову, которую Аквилий получил от вражеского вождя. Так и убедил он тех, кому предстояло вынести приговор, что не для того судьба вырвала у вражеских копий человека, который и сам не щадил себя, чтобы здесь на его долю выпала не народная хвала, а судейская жестокость. (4) Вот и теперь защита ищет того же пути, прибегает к тем же доводам. Пусть Веррес вор, пусть святотатец, пусть он первый в пороке и позоре; но он доблестный полководец, он удачлив и должен быть сохранен государству на черный день.
II. Я не стану вести твое дело со всей строгостью; не стану настаивать, на чем надо бы настаивать, коли суд вершится по твердому закону, — ведь вовсе не о том ты должен бы рассказать, как подвизался на войне, а о том, как удалось тебе не запачкать рук чужим добром; но повторяю, так вести дело я не стану: идя тебе навстречу, я обращусь к твоим воинским заслугам.
(5) О чем ты толкуешь? О том, что доблесть твоя спасла Сицилию от войны с беглыми рабами? Честь тебе и хвала, и речь твоя достойна. Но что это за война? Нам казалось, что после войны, завершенной Манием Аквилием, никакой войны с беглыми в Сицилии не было. «Да в Италии-то она была». — Была, и какая еще упорная и жестокая! но неужели же ты пытаешься притязать на свою долю славы в этой войне? Неужели надеешься разделить честь этой победы с Марком Крассом или Гнеем Помпеем? Я думаю, даже твоего бесстыдства недостанет на то, чтобы осмелиться сказать что-нибудь в этом роде. Стало быть, это ты помешал полчищам беглых переправиться из Италии в Сицилию? Где, когда, откуда? Может быть, когда они пытались подступить к твоей Сицилии на плотах или кораблях? Никогда ничего подобного мы не слыхали, зато слыхали о том, как понадобились все мужество и мудрость Марка Красса, храбрейшего из мужей, чтобы беглые рабы не смогли, связав плоты, переправиться в Мессану; а ведь если бы в Сицилии были против них хоть какие-нибудь сторожевые отряды, не пришлось бы тратить столько сил, чтобы воспрепятствовать их попыткам.
(6) «Но в то время, как в Италии, совсем рядом с Сицилией, шла война, в Сицилии ее не было». III. Что же здесь удивительного? Ведь когда в Сицилии шла война, она тоже не проникла в Италию. Пусть это «совсем рядом», но что это дает? Открытый доступ для врагов или заразительность дурного примера для рабов? Но какой же открытый доступ возможен для тех, у кого нет кораблей? Для них вообще закрыт всякий доступ куда бы то ни было, так что, даже находясь, по твоим словам, рядом с Сицилией, они легче достигли бы Океана, чем Пелорского мыса. (7) Что же касается опасной близости рабских мятежей, то почему у тебя больше права на такие речи, чем у остальных наместников? Может быть, потому, что в Сицилии и раньше случались мятежи беглых рабов? Но как раз поэтому Сицилия оказалась наконец в наибольшей безопасности. Ведь после Мания Аквилия по всем распоряжениям и эдиктам преторов рабам строжайше запрещалось иметь при себе оружие. Я напомню один случай — давний, и из-за суровости расправы, конечно, всем вам известный. К Луцию Домицию, сицилийскому претору, принесли огромного кабана; в восхищении тот спросил, кем же он убит; услыхав, что это был чей-то пастух, он приказал привести его; тот примчался к претору в надежде на славу и даже награду; чем он убил такое огромное животное, спросил Домиций; раб ответил — рогатиной; и немедленно по приказу претора был распят на кресте. Быть может, это вам покажется жестоким; я не стану о том рассуждать — мне ясно одно: Домиций предпочел прослыть жестоким в наказании, чем потворствующим безнаказанности. IV. (8) Вот ценою каких средств, когда вся Италия пылала в огне Союзнической войны, Гай Норбан, отнюдь не самый храбрый и решительный из людей, наслаждался в Сицилии полнейшим спокойствием: Сицилия могла оградить себя от мятежа самостоятельно. И коль скоро нет теснее связи, чем отношения между нашими дельцами и сицилийцами — и личные, и деловые, и денежные; коль скоро сами сицилийцы так ведут свои дела, что им выгоднее жить в мире, и так ценят владычество римского народа, что нимало не стремятся подорвать или заменить его; коль скоро распоряжениями преторов и строгостью владельцев предотвращена опасность рабских мятежей, то это значит: нет такого внутреннего зла, которое возникло бы в недрах самой провинции.
(9) «Так что же? Никаких волнений, никаких сговоров среди рабов не было в Сицилии во время претуры Верреса?» — Вот именно: ни один слух не достиг сената и народа, ни одно донесение не пришло от Верреса в Рим. И все-таки я подозреваю, что кое-где в Сицилии было и волнение средь рабов; и сказали мне об этом не события, а собственные Верресовы решения и поступки. Вы видите, судьи, насколько непредубежденно собираюсь я вести дело, — ведь я сам сообщаю вам то, чего так ищет Веррес, но о чем вы до сих пор еще не слыхивали.
(10) В области Триокалы, где и раньше гнездились беглые рабы, челядь некоего сицилийца Леонида была заподозрена в заговоре. Об этом сообщили Верресу. Немедленно, как и следовало ожидать, он отдает приказ; названные люди схвачены, доставлены в Лилибей, хозяин вызван в суд, дело рассмотрено, заговорщики осуждены. V. «Что же дальше?» — Ну как вы думаете? Снова ждете, что речь пойдет о наживе или каком-нибудь воровстве? Но не ищите всюду одного и того же. Под угрозой войны где уж воровать? Даже если и представлялась в этом деле такая возможность, то она была упущена. Веррес мог разжиться на деньжонках Леонида, когда звал его на суд: тогда можно было бы привычно сторговаться, чтоб не доводить дело до судоговорения; был и другой случай — чтобы оправдать мятежников на самом суде; но когда рабы уже осуждены, где найти поприще для наживы? Только и остается, что вести преступников на казнь. Свидетелей множество, — и те, кто участвовал в суде, и те, кто читал приговор, и все славные граждане Лилибея, и немалое собрание достойнейших римских граждан; ничего не поделаешь — нужно выводить. И вот их выводят, их привязывают к кресту… (11) Даже и теперь, судьи, мне кажется, вы ждете: а что же будет дальше? ведь Веррес никогда ничего не делал без корысти, — а тут чего можно было ждать? Гадайте сколько угодно, ожидайте любого бесчестного поступка, но то, что вы сейчас от меня услышите, превзойдет все наши ожидания. Люди, осужденные за преступный заговор, отданные палачу, уже привязанные к столбу, — вдруг, на глазах у многих тысяч зрителей, были отпущены и возвращены хозяину в Триокалу.
Ну что ты теперь скажешь, безумнейший из людей? Только одно ты можешь сказать, но я о том не спрашиваю, ибо в столь преступном деле не следовало бы о том спрашивать, далее будь на этот счет какие-то сомнения: что, сколько, каким образом ты получил? Оставляю это на твоей совести и освобождаю тебя от ответа: я отнюдь не опасаюсь, будто кто-то заподозрит, что ты бесплатно совершил преступление, на которое никто другой бы не отважился ни за какие деньги, — нет, просто речь сейчас не о воровстве и грабежах твоих, а только о воинской твоей славе. VI. (12) Что же скажешь ты, славный страж и защитник провинции? Ты, который знал, что рабы в Сицилии рвутся к оружию и мятежу? Ты, который вынес приговор своим судом? И ты осмелился вырвать из рук смерти осужденных по обычаю предков и даровать избавление?! Видно, крест, предназначенный для осужденных рабов, ты решил приберечь для ни в чем не повинных римских граждан! Обреченные государства, которым уже нечего терять, прибегают обычно к таким отчаянным решениям: осужденных восстанавливают в правах, заключенных выпускают из тюрем, изгнанников возвращают из ссылки, судебные приговоры отменяют. И когда все это происходит, всякому понятно, что государство погибает; когда все это случается, для всякого несомненно, что больше нет уже надежды на спасение. (13) Впрочем, если где и прибегают к таким мерам, чтобы отменить ссылку или казнь вождей народа или знати, то все же отменяют приговор не те, кто его вынес, не тотчас, как он объявлен, не для тех, чьи преступления грозили жизни и имуществу всех граждан. Здесь же что-то новое и невероятное, и причина тому — не дело, а делец: освобождены рабы, освобождены самим судьею, освобождены на самом месте казни, освобождены после такого преступления, которое грозило свободе и жизни всех граждан?!
(14) О доблестный полководец! — не с отважным бы Аквилием тебя сравнивать, а с самим Сципионом, Павлом, Марием! Многое же ты предусмотрел в страшное для провинции время! Когда ты увидел, что сицилийские рабы воодушевлены примером мятежников в Италии, ну и страха же ты нагнал на них, чтобы не вздумали и пикнуть! Ты приказал явиться в суд: кто же не испугался бы? Господам приказал их обвинять: что может быть страшнее для раба? Огласил им приговор: «Да, виновны». Видно, вспыхнувший пожар погасил ты казнью и смертью немногих? Что же далее? Порка, пытка огнем и, наконец, предел казни для осужденных, предел страха для остальных — крест и распятие! И от всего этого их освободили. Сомневаться ли после этого, что рабы затрепетали, увидав, как покладист этот претор, готовый торговать чуть ли не через палача жизнью рабов, им же осужденных за преступный заговор?!
VII. (15) Вспомни-ка Аристодама из Аполлонии! Леонта из Имахары! Не поступил ли ты с ними точно так же? А к чему побудило тебя волнение среди рабов и внезапно заподозренный мятеж — к усердию в охране провинции или к отысканию новых поводов для бесчестной наживы? У Евменида Галикийского, человека безупречного и знатного, ты подстроил обвинение против управителя усадьбы, за которого хозяин заплатил большие деньги, и на этом получил с Евменида шестьдесят тысяч отступного, как он сам показал под присягою. У римского всадника Гая Матриния, что как раз в ту пору отлучился в Рим, ты объявил подозрительными пастухов и управителей и на этом взял с него шестьсот тысяч: так показал поверенный Матриния, Луций Флавий, отсчитавший тебе эти деньги, так сказал и сам Матриний, так свидетельствует и славнейший цензор Гней Лентул, из уважения к Матринию тотчас написавший тебе письмо и других побудивший к тому же.
(16) А возможно ли промолчать об Аполлонии, сыне Диокла из Панорма, по прозвищу Близнец? Не найдешь во всей Сицилии примера знаменитее, возмутительнее и бесстыднее этого. Едва явился Веррес в Панорм, он велел послать за Аполлонием и вызвать его в суд, при огромном стечении сицилийцев и римских граждан. Тут же пошли разговоры: «То-то я удивлялся, что он так долго не трогает Аполлония, такого богатея», «Видно, что-то он сообразил, что-то затеял», «Ясное дело, неспроста Веррес тянет на суд денежного человека». Все в великом напряжении: что же будет? Наконец, задыхаясь, прибегает Аполлоний с сыном-подростком, — его престарелый отец давно уже не поднимался с постели. (17) Веррес называет ему имя раба, по его словам, старшего пастуха; этот раб, говорит Веррес, затеял заговор и подстрекает челядь. Но такого раба вообще не было среди челяди Аполлония. Веррес приказывает выдать раба немедленно; Аполлоний в ответ утверждает, что нет у него раба с таким именем. Тогда Веррес повелевает тут же схватить Аполлония и бросить в тюрьму. Когда беднягу тащили, он кричал, что ничего дурного не сделал, ни в чем не провинился, а наличных денег при нем нет, так как все они пущены в оборот. И пока он кричал это при всем народе, чтобы каждый мог понять, что он стал жертвой столь вопиющей несправедливости за то лишь, что не дал претору денег, — пока все это, повторяю, он кричал, его заковали и бросили в тюрьму.
VIII. (18) Вот она какова, последовательность Верреса! а его еще не только защищают, как любого претора, но и восхваляют как великого полководца. В страхе пред рабским бунтом этот полководец карал без суда владельцев и освобождал от кары рабов; богача Аполлония, который при рабском мятеже первым бы лишился огромного состояния, он под предлогом этого же мятежа заточил в тюрьму; а рабов, которых сам вместе со своим советом обвинил в мятежном заговоре, он без всякого совета, собственной властью избавил от расправы.
(19) Ну, а что, если Аполлоний и в самом деле что-то совершил и поделом понес наказание? Что же, надо ли осуждать и укорять Верреса за чрезмерную строгость приговора? Можно ведь и так повести дело. Нет, я не стану этого делать, не воспользуюсь таким обычным приемом обвинителей: не стану мягкость объявлять небрежностью, а суровость выставлять на суд за бессердечие. Нет, я буду стоять за твои приговоры, защищать твой авторитет — до тех пор, пока тебе угодно; но как только ты сам начнешь отменять свои же приговоры, — тогда уж не обессудь: я с полным правом буду требовать, чтобы, как ты этим сам себя осудил, так осудили бы тебя и присяжные. (20) Я не стану защищать Аполлония, пусть и друга моего, и гостеприимца, чтобы не показалось, будто я посягаю на твой приговор; не стану ничего говорить о его честности, благородстве, добросовестности; умолчу и о том, что Аполлонию, как я уж говорил, с его челядью, скотом, усадьбами и ссудами хуже всех пришлось бы от волнений или мятежей в Сицилии; не скажу я и того, что если бы и впрямь был Аполлоний бесконечно виноват, даже тогда не следовало бы достойного гражданина достойнейшей общины подвергать столь тяжкой каре, и притом без суда. (21) Я не стану возбуждать против тебя ненависть даже тем, что когда столь достойный муж пребывал в тюрьме, во мраке, в грязи, обросший, то по тираническому распоряжению твоему ни дряхлый отец, ни юный сын ни разу не допущены были к этому несчастному. Я и о том не скажу, что сколько раз ты и являлся в Панорме за эти полтора года (вот как долго пробыл узник твой в темнице!), столько раз к тебе обращался панормский сенат с магистратами и жрецами, умоляя и заклиная освободить наконец от муки несчастного невиновного человека. Обо всем об этом я молчу: ибо если бы пошел я по этому пути, то легко бы доказал, что твоя ко всем жестокость давно уже закрыла тебе доступ к милосердию судей. IX. (22) Все прощаю, во всем уступаю: я предвижу ведь, как поведет защиту Гортензий! Он скажет, что старость отца, юность сына, слезы обоих для Верреса ничто по сравнению с благом и пользой провинции; он скажет, что нельзя управлять государством без устрашения и суровости; он спросит, зачем же несут перед претором фаски, зачем в них секиры, зачем тюрьма, зачем утверждены обычаями предков столь многие казни для преступников? И когда он все это скажет сурово и веско, — я позволю себе спросить об одном: почему же тогда этого самого Аполлония этот самый Веррес неожиданно, без каких-либо новых улик, без чьего-либо заступничества приказал вдруг выпустить из тюрьмы?
О, я твердо говорю: столько подозрений возбуждает все это дело, что мне даже и доказывать нечего — судьи и сами догадаются, что означает подобный грабеж, — сколь он гнусен, сколь недостоин, сколь безмерные возможности сулит он для наживы. (23) В самом деле, припомните хотя бы в общих чертах, что этот человек сделал с Аполлонием, сколько и какие обиды он ему нанес, а затем взвесьте и переведите все это на деньги; и вы поймете, что столько зла было обрушено на голову одного из богачей лишь затем, чтоб и другие представили себе ужасы подобных бедствий и оценили грозящие им опасности. Прежде всего — внезапное обвинение в тяжком уголовном преступлении; посудите, скольким людям и за какие деньги приходилось откупаться от этого! Затем — вина без обвинителя, приговор без суда, осуждение без защиты: подсчитайте, сколько стоят эти злодеяния, и заметьте, что подпал под них один лишь Аполлоний, а другие, очень многие, конечно, предпочли от этих несчастий откупиться. Наконец, — мрак, оковы, тюрьма, вся мука заключения вдалеке от милых лиц отца и сына, от вольного воздуха и всем нам общего солнечного света: чтоб от этой откупиться пытки, не страшно заплатить и жизнью, и перевести такое на деньги я уже не берусь. (24) Аполлоний откупился слишком поздно, сломленный горем и бедствиями; но другие на этом научились загодя предупреждать преступления Верресовой алчности. Ведь не думаете же вы, судьи, будто Веррес без корысти взвел поклеп на этого богатейшего человека и без корысти выпустил вдруг его из тюрьмы; или будто такого рода грабеж применен был и испробован на одном лишь Аполлонии, а не с тем, чтоб на его примере внушить ужас всем богатым сицилийцам.
X. (25) Судьи, я ведь говорю сейчас о воинской доблести Верреса и поэтому молю, пусть он сам подскажет мне все, что я случайно упускаю. Мне-то кажется, что я поведал уже обо всех его подвигах — по крайней мере, в предотвращении невольничьего мятежа; во всяком случае, я ничего не пропустил намеренно. Вам известно все: и распоряжения его, и осмотрительность, и бдительность, и охрана и защита провинции. Это нужно для того, чтобы вы узнали, какого рода полководец наш Веррес, и при нынешнем недостатке храбрецов не пренебрегали бы таким военачальником. Это не Фабий Максим с его рассудительностью, и не старший Сципион с его быстротой, и не младший, столь разумный в решениях, и не Павел, твердый и мыслящий, и не Марий, мощный и доблестный, — нет. Прошу вас, познакомьтесь теперь с полководцем другого склада, которого надо всячески холить и лелеять.
(26) Начнем с трудностей переходов, которые в военном деле всегда весьма значительны, а в Сицилии в особенности. Посмотрите, как он изловчился сделать их приятными и легкими для себя. В зимнее время он отыскал великолепный способ избежать морозов, бурь и опасных переправ через реки: он выбрал для житья себе город Сиракузы, где природа и местность таковы, что там не бывает такого непогожего дня, когда бы ни разу не выглянуло солнце. Там этот доблестный воин и зимовал, да так, что не только из дому не выходил, но и с ложа не сходил: краткий день он проводил в попойках, а долгую ночь в постыдном разврате.
(27) С наступлением весны (он узнавал о ее приходе не по западному ветру или движению светил, а только по первым розам) Веррес пускался во все тяжкие — трудился и разъезжал, да так неутомимо и ревностно, что его никто не видел верхом на коне. XI. Нет, его носили ввосьмером, как вифинского царя, на носилках среди подушек, набитых лепестками роз и покрытых прозрачной мальтийскою тканью; сам же он сидел, с венком на голове и венком на шее, понюхивая розы из тончайшего сетчатого мешочка. Преодолев таким образом тяготы пути, он вступал в какой-нибудь город, и на тех же носилках его несли прямо в опочивальню. Туда приходили к нему сицилийские магистраты, приходили римские всадники, как вы слышали под присягою от многих свидетелей; там он тайно обсуждал судебные дела, а потом во всеуслышанье объявлял решения. Так-то наскоро, в спальне, за взятки, не по правде совершив келейный суд, полагал он, что пора все остальное время посвятить Венере и Вакху. (28) Вот где невозможно промолчать о редкостной предусмотрительности нашего славнейшего полководца: в каждом городе из тех, куда преторы приезжали вершить суд, из знатнейших семейств отбирались ему на потребу женщины. Иные из них являлись на пирах его открыто, а кто поскромней, те приходили точно в названный им час, избегая людских взоров. На пирушках царили не приличествующая преторам римского народа тишина и благопристойность, а крики и брань, иной раз доходившие и до рукопашной, ибо строгий и рачительный наш претор хоть нимало не считался с законами римского народа, но усердно соблюдал законы винной чаши. И нередко пиры кончались тем, что одного, как с поля битвы, уносили на руках, другой оставался лежать замертво, многие валялись без чувств, как побитая рать, так что все это походило не на застолье претора, а на Каннское побоище беспутства.
XII. (29) Когда же разгоралась летняя страда — пора, которую все сицилийские преторы привыкли проводить в разъездах, полагая, что всего нужнее объезжать провинцию, когда везде зерно на току, вся челядь в сборе, толпы рабов становятся большой силой, тяжкий труд особенно гнетет, обилие хлеба подстрекает к бунту, а время года лишь ему благоприятствует, — так вот, повторяю, именно тогда, когда другие преторы не слезают с коней, наш необыкновенный вождь устраивал себе в красивейшем уголке Сиракуз постоянный стан. (30) У самого входа в гавань, где берег образует изгиб в сторону города, он раскидывал свои палатки, крытые тонким испанским полотном; и сюда перебирался он из преторского дома, прежних Гиероновых палат, да так прочно, что все лето нигде, кроме этого места, его невозможно было увидеть. Сюда закрыт был доступ всем, кроме товарищей и прислужников его похоти. Сюда приходили все женщины, с которыми он водился, и количество их было поистине невероятным; сюда приходили и мужчины, удостоенные его дружбы, разделяющие с ним жизнь и утехи. Средь подобных мужчин и женщин жил при нем и сын его, подросток, чтобы если не по родственному сходству, то по воспитанью и привычке стать похожим на отца. (31) Здесь же обреталась и небезызвестная Терция, завлеченная его хитростью и коварством: появление ее, говорят, произвело замешательство в этом лагере, так как знатная жена Клеомена Сиракузского, а с ней почтенная супруга Эсхриона не желали терпеть общество дочери мима Исидора; но сидящий пред вами Ганнибал, ценя своих людей не по знатности, а по отваге в совсем иных сражениях, так полюбил эту Терцию, что потом и в Рим ее с собой увез. XIII. И когда в эти дни в своем пурпурном греческом плаще и тунике до пят красовался он среди своих женщин, сицилийцы ничуть не обижались, что на форуме нет ни должностных лиц, ни судов, ни разбирательств; никто не огорчался, что весь берег звенит женским криком, пением и музыкой, а на форуме царит полная тишина; ведь не право и справедливость исчезали из города, а насилие и жестокость, яростный и наглый грабеж.
(32) И такого-то полководца защищаешь ты, Гортензий? и его хищенья, грабежи, алчность, жестокость, надменность, преступления ты пытаешься прикрыть хвалой его великим ратным подвигам? Поневоле я боюсь, как бы к концу твоей защиты не пришлось бы прибегнуть к давнему приему и примеру Антония, как бы не пришлось поднимать Верреса и обнажать его грудь, дабы римский народ узрел на ней шрамы — следы женских укусов, следы беспутства и похоти! (33) Хоть бы боги догадали тебя упомянуть о его военной службе! Пусть припомнятся его первые успехи, чтобы вы поняли, каков он был не только наверху, но и в подчиненном положении, вспомнятся и самые первые годы его службы, когда он позволял не только себя увлечь (в чем признается сам), но и с собою лечь; или в стане плацентинского игрока, где он неотлучно служил, но ничего не выслужил; да и мало ли других было потерь на этой службе, окупавшихся лишь его цветущим возрастом! (34) А когда он закалился и его развратная выносливость опостылела всем, кроме него, — сколько крепостей, сколько твердынь добродетели взял он силою и дерзостью! Но меня это не касается, и не стану я из-за распутства Верреса бесчестить кого бы то ни было. Я не буду этого делать, судьи, оставим прошлое; а напомню только два недавних события, никого не задевающих, а по ним вы сможете судить и обо всем остальном. Первое известно всем и каждому: в консульство Луция Лукулла и Марка Котты50 ни в одном городишке не было такого простака, который бы пустился в Рим судиться и не знал бы, что столичный претор правит всякий суд по указке особы не самых строгих правил, по имени Хелидона. А второе: когда уже Веррес, облачившись в воинский плащ и присягнув служить своею властью на благо государства, покинул Рим, то еще не один раз он по ночам ради блудной нужды на носилках проникал в город к некоей женщине, хоть замужней, но многим доступной, — наперекор священному праву, наперекор знаменьям, наперекор людским и божеским заветам.51
XIV. (35) О, бессмертные боги! Как же велика разница между людьми! Как отличны их помыслы, их стремления! Пусть же воля моя и надежды на грядущее будут вам и римскому народу так угодны, как для меня были священны все обязанности полномочий, доверяемых мне римлянами. Я стал квестором с мыслью, что должность эта не просто дана мне, но вверена. Я назначен был в провинцию Сицилию, — и мне казалось, что на меня устремлены все взоры, что я выполняю свое предназначение на каком-то всемирном театре и что всеми видимыми утехами не только буйных каких-нибудь вожделений, но и общей всем нам природы в этой роли должен я пренебречь. (36) А теперь я избран эдилом — и я сознаю, чего ждет от меня римский народ. Я с величайшим тщанием должен устроить священные игры в честь Цереры, Либера и Либеры; я должен умилостивить в пользу римского народа матерь Флору пышностью игр в ее честь; мне доверено отпраздновать с верою и уважением старинные, впервые названные римскими, игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы. Забота о священных зданиях, наблюдение за жизнью всего города — все это вменено мне в обязанности. Вот за какие труды и заботы даны мне старшее место в сенате, тога с каймою, курульное кресло, право оставить свое изображение на память потомкам. (37) И хотя почет от римского народа весьма приятен мне, однако не столько в нем услад, сколько трудов и тревог, и поэтому я бы желал, судьи, — и да помогут мне боги! — своими стараньями доказать, что не поневоле первому случайному кандидату, но по справедливости нужному и признанному достойным предоставлено было это звание эдила.
XV. (38) А ты-то, когда выбился неведомо как в преторы (какими средствами — не стоит и говорить), когда тебя провозгласили претором, неужели же голос вестника, перечислявшего, сколько старших и младших центурий оказали тебе честь своим избранием, неужели этот голос не взволновал тебя настолько, чтобы ты призадумался о том, что частица государства — в твоих руках, что хотя бы в течение одного этого года тебе не пристало ходить и дом развратницы? Когда тебе выпал жребий вершить суд, неужели ни разу не подумал, какое в этом бремя, какая забота? Неужели, если бы ты вдруг очнулся, у тебя недостало бы ума сообразить, что должность, где с трудом управлялись мудрость и безупречность, досталась в удел небрежению и глупости? А ты не только не захотел, чтобы на время твоей претуры Хелидона ушла из твоего дома, — нет, ты и претуру перенес в ее дом!
(39) За претурою — наместничество. Но и здесь ни разу тебя не посетила мысль, что фаски, секиры, вся полнота власти, все сопутствующие ей знаки отличия не затем тебе даны, чтобы силой их и властью сокрушать все узы чести и долга, чтобы сделать своей добычей имущество всех и каждого, чтобы не было пред твоею алчностью и лютостью ни охраны для добра, ни замка для жилья, ни ограды для жизни, ни защиты для чести?
Ты так себя вел, что за всеми уликами вынужден был прибегнуть к россказням о рабских мятежах. Ты же понимаешь, конечно, что этим себе не поможешь, — напротив, придашь силу обвинениям. Ты бы мог напомнить о последних вспышках бунта италийских рабов — о беспорядках в Темпсе:52 их послала тебе благосклонная судьба. Но ты не нашел в себе ни мужества, ни усердия: ты остался таким же, как и прежде. XVI. (40) Когда пришли к тебе из Валенции и Марк Марий, красноречивый и знатный, от имени города просил тебя, чтобы ты стал, с твоим преторским званием и властью, настоящим вождем и усмирил этот маленький отряд мятежников, — что ты сделал? Ты не только уклонился от этого, ты не постыдился и в Италии выставить перед людьми свою Терцию, которую ты вез с собой; более того, принимая по столь важным делам граждан столь известного и славного города, ты одет был в темную тунику и греческий плащ! Как же, по-вашему, он вел себя по пути в Сицилию и в самой Сицилии, если даже на обратном пути, ожидая не триумфа, а суда, он сумел опозориться без всякого для себя удовольствия? (41) О, вещий ропот сената в храме Беллоны! Вспомните, судьи: уже сгустились сумерки, только что объявили о беспорядках в Темпсе, но некого было найти облеченного властью, чтоб отправиться в эти места; кто-то вспомнил, что недалеко от Темпсы находится Веррес, — но какой поднялся ропот, как открыто все первейшие сенаторы заговорили против него! А теперь, изобличенный столькими обвинениями и свидетельствами, он еще надеется, что за него проголосуют письменно те, кто, еще не зная подробностей, осудили его открыто и вслух?
XVII. (42) «Пусть так; пусть Веррес не покрыл себя славой, усмиряя рабские мятежи или покушения на мятежи, поскольку не было в Сицилии ни мятежей, ни угрозы их, и не мог он бороться с тем, чего и не существовало. Зато против набегов морских разбойников он снарядил великолепный флот, не спускал с него ревнивых глаз, и провинция могла быть совершенно спокойна».
Что ж, судьи! И о набегах морских разбойников, и о сицилийском флоте я берусь рассказать такое, что вы сразу увидите, как в одном этом деле явились все величайшие пороки нашего Верреса — алчность, надменность, неистовство, похоть, жестокость. Расскажу я об этом коротко, а вы прислушайтесь ко мне с прежним вниманием.
(43) Раньше всего я утверждаю: снаряжая флот, Веррес не о защите провинции заботился, а только о собственной выгоде.
В то время как, по обычаю прежних преторов, каждая община выставляла столько-то кораблей, моряков и воинов, ты почему-то ничего не потребовал от самой большой и богатой общины — Мамертинской. Сколько мамертинцы за это дали тебе тайком, — это, если нужно, мы еще узнаем из записей и от свидетелей. (44) Но этого мало: открыто, на глазах у всей Сицилии, за счет горожан была построена огромная, размером с трирему, кибея, и мамертинские власти дали и подарили ее тебе. Этот корабль, полный сицилийской добычей, сам — часть этой добычи, к отъезду Верреса прибыл в Велию, нагруженный драгоценнейшими и любимейшими вещами Верреса, которые он не пожелал отправить в Рим вместе с остальным награбленным добром. Этот корабль, судьи, я сам недавно видел в Велии, да и не я один; и хоть был он и красив и наряден, всем казалось, что корабль уже предвидит скорую ссылку и высматривает хозяину пути для бегства.
XVIII. (45) Что ты ответишь? Или скажешь, что корабль был построен на твои деньги? В самом деле, что еще и сказать на суде о вымогательстве; только вряд ли кто этому поверит. Что ж, скажи! Не бойся, Гортензий, я не стану спрашивать, по какому праву построил он корабль: правда, законы это запрещают, но они ведь, по твоим словам, давно устарели и отжили, — это лишь в былые времена нашего государства строгость в судах была такова, что обвинитель счел бы такое дело сугубым преступлением: «Зачем тебе корабль? Ради нужд государства тебе бы предоставили суда на казенный счет и для переезда, и для охраны; а ради собственных нужд ты не имеешь права ни разъезжать, ни отправлять добро оттуда, где ты ничего своего иметь не должен. (46) Да и как ты смел вообще приобрести что-то против законов?» Нет: это звучало бы преступлением в те суровые и достойные нашего государства времена; нынче же я не только не обличаю тебя в преступлении, но даже не порицаю за непорядочность: «Как же ты ни разу не подумал, что позорно, преступно, возмутительно в самом сердце провинции, претором которой ты являешься, открыто строить себе грузовое судно? Что, по-твоему, говорили люди, видя это, что думали они, слыша об этом? Что этот корабль ты собираешься отправить в Италию пустым? Что по прибытии в Рим заделаешься судовладельцем? Что в Италии у тебя есть приморские владения и ты запасаешься грузовым судном для перевозки урожая? Нет, уверяю тебя, никому такое и в голову не пришло! Ты, верно, сам хотел того, чтобы повсюду о тебе пошли толки, будто ты приготовил корабль, который бы вывозил тебе из Сицилии добычу и возвращался бы за тем, что еще осталось».
(47) Нет: и это я все прощаю тебе; докажи только нам, что построил корабль на свои деньги! Но того не понимаешь ты, безумец, что эти самые мамертинцы, заступники твои, при первом же слушании дела лишили уже тебя этого довода. Ведь этот Гей, который привел сюда послов тебя славословить, сам сказал, что корабль тебе построили мамертинцы и что возглавил этот труд, причем в открытую, мамертинский сенатор. А строительный материал — его ты стребовал с жителей Регия, так как у мамертинцев своего не было; регийцы это прямо говорят, да ты и сам не сможешь этого отрицать. XIX. Но если и то, из чего сделан корабль, и те, кто его сделали, готовенькими поступили тебе в распоряжение по твоему приказу, где же искать то, за что будто бы ты сам заплатил? (48) «Но у мамертинцев в книгах их расходы не записаны!» Во-первых, ведь могло случиться и так, что из казны они ничего и не тратили: ведь сумели же наши предки воздвигнуть Капитолий даром, призвав мастеров и строителей от имени государства! Во-вторых, я подозреваю — а если вызвать мамертинцев, то и по книгам их доказать смогу — что многие деньги, истраченные на Верреса, расписаны на работы вымышленные и пустые; да и что тут удивительного, если мамертинцы в документах пощадили своего благодетеля, доказавшего, что он гораздо больше предан им, чем римскому народу. Наконец, если отсутствие записей — доказательство, что мамертинцы не давали тебе денег, то и отсутствие записей в твоих собственных книгах о покупках или подрядах пусть послужит доказательством, что корабль тебе был сооружен бесплатно!
Произведения
Критика