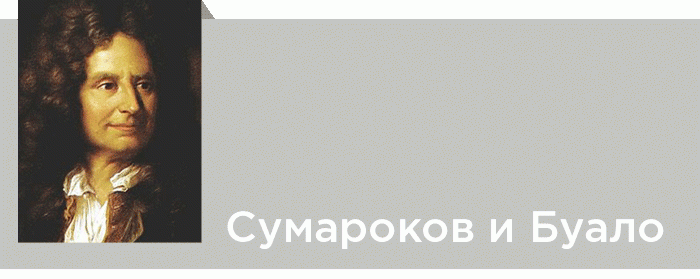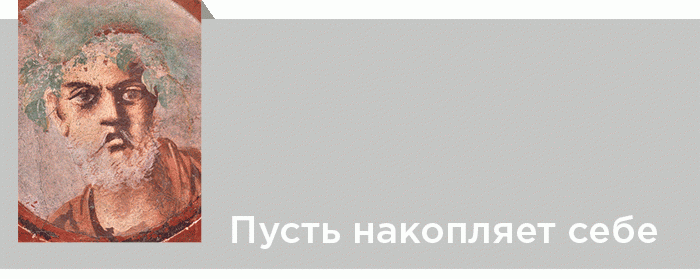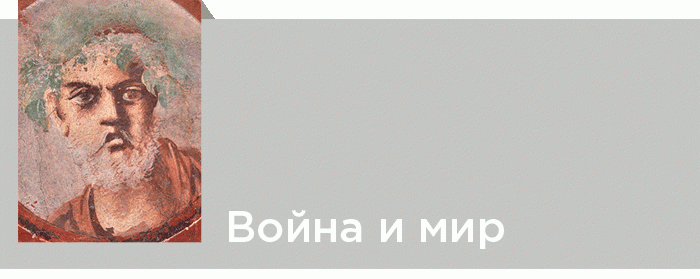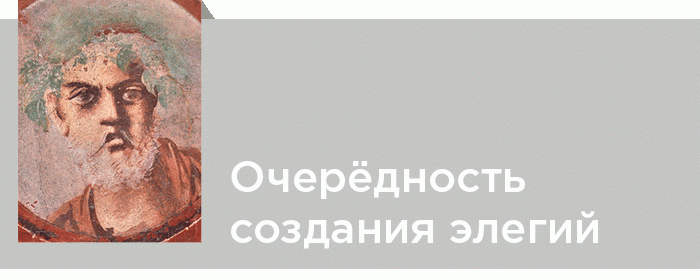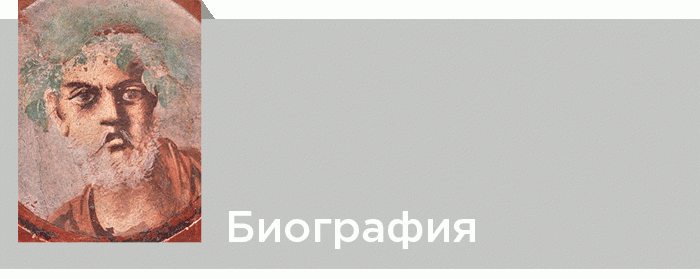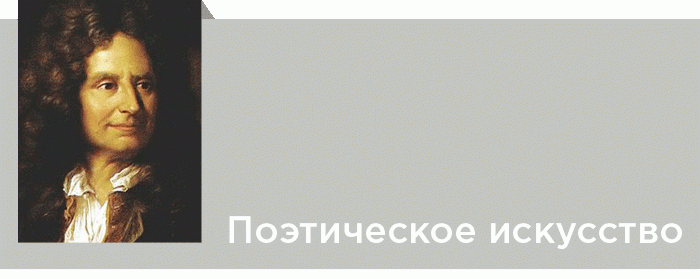Диалектика индивидуального и общего в поэзии Тибулла
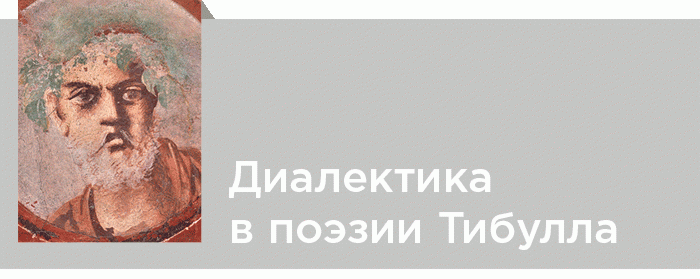
И. М. Нахов
Тема данного моего вторжения в область римской элегии навеяна одной фразой из статьи Ф. Маркса в Энциклопедии Паули-Виссова. Автор статьи уверен, что Тибулл, как и другие римские элегики, щедро использовал «общие места» александрийской любовной поэзии «без оглядки на действительность». Так ли уж справедливо мнение уважаемого ученого в отношении тех, кто вольно или невольно в своем творчестве обращался к так называемым «общим местам», всегда ли это бессодержательные клише, дань моде, формализму, свидетельство несостоятельности таланта? Почему бесспорно одаренные авторы постоянно к ним прибегали, не боясь утратить своей индивидуальности, какова содержательная и чисто эстетическая функция «общих мест», этих, казалось бы, исхоженных топосов? Не превратилось ли само утверждение, что римскую любовную элегию заполнили стандартные «общие места», в некое другое бездумное «общее место», кочующее и сейчас из работы в работу?
Ни одно явление культуры не создается на пустом месте — она немыслима без предшественников, далеких или близких, иногда известных, чаще безымянных, объединяемых понятием «народ». Преемственность, культурный континуум в классической древности выступает отчетливее и откровеннее, чем в наши дни, поскольку в те времена меньше кичливо выпячивали неповторимость своего творческого «я», меньше пеклись о приоритете. Может быть, поэтому литераторы и не боялись тогда откровенных цитат, «чужого слова», центонов, формул, сакраментальных «общих мест», вступая порой на поприще заимствований в соревнование друг с другом.
Можно сказать, что в известном смысле почти вся литература состоит из «общих мест», потому что на протяжении многовековой истории человечества жизненные ситуации и конфликты в той или иной мере повторяются. Типология человеческих характеров со времен Теофраста и Лабрюйера мало изменилась. В результате в литературе и искусстве накопился банк типических образов и ситуаций, арсенал «художественных средств», ставших объектом изучения бесчисленных риторик и «теорий литературы». В конечном счете корни всех «общих мест» — в реальной действительности.
Любая культура — это диалектическая связь традиции и новаторства, общего и индивидуального, внутреннего и внешнего, общечеловеческого и конкретно-исторического. Художественные открытия рождаются не из нигилизма, а на основе переработки исторического опыта с позиции индивидуально осознанной современности. Такое под силу, конечно, не всякому. Для этого нужен талант, и немалый, способный творчески откликнуться на проблемы своего времени, не на шутку «заболеть» самому и заразить ими других, поставить новые вопросы, создать эстетически стойкую амальгаму из давно известного и только что народившегося, сказать «чужое» по-своему. Так случилось и со старой эротической элегией александрийцев, обретшей вторую, блестящую жизнь в творениях замечательных римских лириков, воспринявших серьезные перемены в жизненных ценностях, которые пришли с принципатом Октавиана Августа.
Поэт не в силу жанровой условности, а по-настоящему пытался убежать от сложностей реальной жизни, уйти в интимный мир любовных чувствований и иллюзий — подальше от шумной столицы, где у него было две возможности: либо присоединить свой голос к дифирамбическому хору, славословящему «отца отечества», в котором сольные партии вели Вергилий и Гораций, или превратиться не в условного, а в опального, действительно «бедного поэта». Впрочем, любовные утехи на лоне природы еще никого не делали мужественным борцом за республиканские свободы. Однако, как показал позднее пример Овидия, в конкретной обстановке принципата такого рода эротическая поэзия, попытка отсидеться в некоей вымышленной «деревне» вместе с Делией, Немесидой, Гликерией или еще с какой-либо прелестницей вдали от житейских бурь — объективно все же вызов (хотя и неопасный) официальному обществу, его лицемерно строгой морали и идеологии, некая форма нонконформизма, средство не запятнать себя «ползаньем на брюхе перед Августом». Тем более что предлог был вполне резонен:
...nempe amor in parva te iubet esse casa.
[Неволит любовь в маленькой хижине жить.] (II, 3, 27)
Конечно, это тоже позиция, возможная реакций на навязываемую социальную действительность — вдвоем в сельской глуши среди любовных утех забыть о бушующей за окном непогоде, о том, «какое столетье на дворе» (I, 1, 45-46). Перипетии love story Тибулла, крушение его надежд и идеалов — своеобразное преломление драматических перемен в судьбе его родины. Тибулловская лирика, посвященная Делии, Немесиде или Марату, в силу ее воинствующей и выразительной субъективности становится объективным фактом высокой литературы, как стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье», обращенное к А. П. Керн, или катулловское «Люблю и ненавижу», вдохновленное Клодией.
В условиях реставраторской политики Августа, направленной, в частности, на исправление нравов, «личные» топосы приобретали общественное звучание, хотя и носили камерный характер. Однако даже избитый мотив «параклауситюрон», «мольбы у закрытых дверей» (ianua, fores postes — І, 1, 73; 2, 6, 33, 88, 95; 3, 43; 5, 68, 74; 6, 61, 76; 8, 60; 54; II, 3, 74; 4, 22, 31, 44; 6, 12 и др.) в контексте времени у Тибулла вырастал до общезначимого актуального символа отчуждения, напрасных надежд, тоски, разочарования, «утраченных иллюзий», непреодолимых барьеров, всевластия богатства и т. п., повергавших в отчаяние.
Поэт может как бы вскользь, походя бросить замечание о своем урезанном в пользу ветеранов Августа имении (lelicis quondam nunc pauperis agri — I, 1, 19), поведать о тяготах реального (grave opus — II, 1, 6), а не пасторального труда сельского жителя (I, 1; 2, 74; 7, 41-42; 3, 9, 84; 4,1; 6, 26-27 и др.) на «печальной ноте», недвусмысленно предпочесть свою рабскую преданность возлюбленной (servitium, servitudo amoris — II, 3, 79-80; 4, 1 сл.) служению государству (servitium rei publicae), осудить бедствия и ужасы войны (І, 3, 82 и др.) и поспеть свое представление о мире, Pax candida (I, 10, 45), не совпадающее с официальным Pax Augusta, игнорируя культ личности «первого гражданина», ибо действительность вовсе не представлялась ему раем.
Используя «общие места» обеих указанных выше категорий, поэт мог опираться на авторитет мифа, как известную всем и многоговорящую ситуативную модель. Миф означал выход в большой мир — мир обобщении; расширял он и интимные рамки любовной элегии.
В ряду мифов, изначально бывших для античной литературы главным поставщиком ходовых «общих мест», особое внимание Тибулла привлекала социальная мифологема «смены поколений» в комплексе с родственными ей топосами «старого доброго времени», патриархальной деревни, буколики, естественной нравственности, «Елисейских полей», «счастливой Аркадии». Прежде всего речь идет о «золотом веке Сатурна», относимом в далекое сельское прошлое, и о «железном веке Юпитера», локализованном в современном городе. Этот мотив выводит сугубо личную лирику Тибулла из замкнутого пространства деревенской хижины на широкие просторы современных ему политических страстей. Возникший из древнего недовольства людей настоящим (вспомним сетования гомеровского Нестора — Илиада I, 260 сл.) утопический мотив «золотого века», противопоставленного всем последующим, звучал вновь и вновь.
Обратившись к «царству Сатурна», Тибулл как бы стягивает в тугой и напряженный узел все основные темы своего творчества — любовь-служение, любовь-рабство, любовь-бегство-от-мира, тоску по счастливым доэнеевским временам, «деревенские страдания», автобиографические признания, благочестие, почитание скромных италийских божков (Лары, Пенаты, Пан, Палее, Приап и др.). Любовь, конституирующий центр тибулловских элегий, — вожделенный оазис, который, однако, постоянно захлестывают песчаные житейские бури. Так «общее место», всем известный миф набирает новую силу, актуализируется, «присваивается», теряет печать обязательной александрийской учености, «утепляется» личными воспоминаниями и переживаниями, короче — приобретает неповторимо индивидуальную окраску.
Ведущая черта мифа о поколениях — социально-моралистическое неприятие действительности, мотив негативизма, заложенный уже у Гесиода (Труды и дни 106-203), выявлен у Тибулла контрастнее, так сказать, в черно-белом варианте, поскольку «век Сатурна» противопоставлен «веку Юпитера» без промежуточных тонов «серебряного», «медного», «героического» (I, 3, 35; 49). Конечно, такое неприятие действительности было характерно не только для Тибулла, но для всего недолговечного «потерянного поколения» эпохи гражданских войн, конца республики и утверждения принципата. Отсюда популярность мифологического мотива «смены караула» у Катулла, Тибулла, Проперция, Овидия. Этот мотив присутствует и у Вергилия, и Горация, но именно здесь и проходит водораздел между поэзией официозной и оппозиционной: Вергилий переносит «золотой век» из прошлого в настоящее или в ближайшее будущее (Буколики. Эклога IV), для Тибулла и других элегиков — это романтический вздох, увы, по невозвратимому прошлому и укоризна современности.
Впрочем, у Тибулла и Вергилия есть еще одна точка отталкивания. В свое полное мессианских ожиданий время оба пророчествуют. У Вергилия в библейском духе вещает сивилла Куманская: завершается великий мировой цикл (magnum saeclorum ordo) и вот-вот на земле снова воцарится «золотой век», Saturnia regna, gens aurea (Эклога IV, 8-9; ср.: Гораций IV, 2, 39). У Тибулла пророчество отнесено в даль мифологических времен, когда Эней еще и не помышлял о Риме (nес fore credebat Romana — II, 5, 21) и Ромул еще не возвел стены вечного города (moenia aeternae urbis), а на зеленых холмах царила пастушеская идиллия. Тут предвещается возникновение великого града, которому сама судьба предначертала править миром:
...hic magnae iam locus urbis erit.
Roma, tuum nomen terris fatale regendis.
Иными словами, это не грядущий вергилиевский «золотой век», а век «железный», уже наступивший, со всеми его пороками, воплощением которого является Рим. Так пророчество Вергилия оборачивается мистической утопией, a vaticinium post eventum Тибулла звучит как актуальный критический выпад.
Есть еще один нюанс, касающийся мотива поколений. У Тибулла с золотом постоянно ассоциируются нажива, порочность, богатство, подкуп, предательство, убийства (I, 1, 51; 5, 68; II, 4, 34 и др.), а с железом — войны, жестокость, бессердечие, равнодушие и т. п. (I, 10, 2; 1, 63; 2, 6; 3, 47; 10, 59; II, 3, 2); поэтому не случайно в отличие от «железного века» (ferrea saecula) век былого блаженства никогда не называется впрямую «золотым», а лишь по имени национального италийского бога — «царством Сатурна». Миролюбие, благочестие, безопасность, простоту и незлобивость деревенских нравов Тибулл связывает с глиной и деревом, из которых древние предки лепили своих скромных богов и изготовляли примитивную утварь (ligneus deus — І, 10, 20; lignea Pales — II, 5, 28; fictilia pocula — І, I, 39; Samiae testae — II, 3, 47-48). A где-то в глубине сознания смутно мелькает мысль, что и сам человек-то сотворен из глины (ср.: Овидий. Метаморфозы I, 82 сл.). Таким образом, рядом с «золотым веком Сатурна» возникают зримые черты идеализируемого патриархального «века глиняного и деревянного» (saeculum fictile, ligneum), который некогда существовал на благословенной италийской земле еще до Энея.
Все писавшие до Тибулла о «поколениях» пользовались своеобразным набором, или «каталогом», «золотых» и «железных» образов и сравнений, выработанных еще Гесиодом, проявляя в описаниях «века Кроноса (Сатурна)» не очень-то буйную фантазию, тоскуя, как водится, по справедливости, изобилию, здоровью, жизни без забот, борьбы и трудов, вечной юности. Потребительско-райский, пошловатый, по существу бездуховный комфорт, ведущий человечество к деградации! Несравненно изобретательнее, зримее и реалистичнее изображали они беззакония, преступления, несчастья, интриги, братоубийства, заговоры, контрасты роскоши и нищеты, бедствия войны, безнравственность «железного века».
Мысленно погружаясь в волшебный мир сказаний о царстве Сатурна, Тибулл и здесь не только заимствует из упомянутого выше литературного «каталога», но и старается дополнить его собственными представлениями, деталями не чужого, а родного, италийского быта — отеческими Пенатами и древним Ларом (I, 3, 33-34). Доисторическое царство Сатурна характеризуется следующим образом (I, 3, 35-48):
На суше не были проложены дороги.
Люди не знали мореплавания, а значит, и чужедальних земель, корыстолюбия, предметов роскоши.
Не ходил под ярмом могучий бык, не знал узды дикий конь.
Дома не запирались, ибо не было дверей, межевые камни не разделяли поля.
Не было вражды, оружия, войн.
Люди жили в безопасности, дубы источали мед, а овцы сами несли людям молоко.
Такова по существу, положительная программа Тибулла, выраженная преимущественно в отрицательной форме — nес, nоn, nоndum (ибо легче сказать, исходя из наличного бытия, чего не должно быть). Поэт проповедует изоляционизм (навязчиво повторяющийся мотив вредоносности мореплавания, осуждает экспансию, расширение границ империи, общение с иностранцами) — и это в то время, когда в результате завоевательных войн уже реально существовала мировая Римская держава. Наряду с постоянно прокламируемыми пацифистскими лозунгами не означала ли эта проповедь покушения на святая святых великодержавной римской политики? Жизненные блага, достигаемые без физических усилий, самоплодоносящая земля, медоточивые дубы, текущее прямо в рот овечье молоко и т. п.— эту довольно убогую картину «золотого века», явно не удовлетворявшую поэта, он дополняет, живописуя блаженные Елисейские поля, где праведные юные девы и молодые люди ведут нескончаемые хороводы и развлекаются играми и пением на цветущих лугах среди гомона птиц (I, 3, 58-66). Нет, не так прост этот певец любви Тибулл.
Другое дело теперь, когда власть в руках Юпитера (nunc love sub domino — І, 3, 49), — по морям снуют корабли, повсюду человека подстерегают опасности и смерть, к которой ведет множество дорог (49-56). Картина «железного века» дополняется традиционным изображением мучений грешников в преисподней — тут и Иксион на колесе, и терзаемый хищными птицами Титий, и Данаиды, и Тантал, мучимый неутолимой жаждой. Почти все они несут наказание за оскорбление законов любви, в то время как в Элизиуме влюбленных ждет награда за верность. Так возникают две взаимодополняющие пары: «век Сатурна — Елисейские поля» и «век Юпитера — преисподняя» (scelerata sedes).
Вновь эти видения встают в воображении поэта в элегии I, 10. Здесь они естественно перемежаются трогательными воспоминаниями детства, обращением к отцовским Ларам (patrii Lares — І, 10, 15 сл.), к блаженным первобытным временам, когда не было ни войн, ни крепостей, ни валов и не пугал мирных людей призыв военной трубы (signa tubae — І, 10, 12; І, 1, 4; 75). Ассоциативный строй этой элегии соединяет воедино стандартные картины «железного» и «золотого» веков, ужасы Аида, где «возле черных болот блуждают бледные толпы» (pallida turba — 37), с вполне реалистическими сценами деревенского житья-бытья; пьяный мужик, дав волю рукам, колотит свою ни в чем не повинную жену. Но и этот единственный на селе вид войны (Veneris bella), даже он оскорбителен:
Тот же, кто вечно готов руками буянить, пусть носит
Щит и дреколье: вдали быть от Венеры ему. (I, 10, 65-66)
В таком контексте особенно внушительно звучит гимн Миру, дарующему достаток, покой, труд, любовь, трогательные семейные радости и скромные сельские праздники (ср. описание Амбарвалий в II, 1 и Палилий в II, 5, 87 сл.), — «другой пусть оружьем бряцает» (alius sit fortis in armis — I, 10, 29).
Еще раз к мифологеме смены поколений Тибулл возвращается, и снова в комплексе: любовь (на сей раз к Немесиде), труд, настоящий крестьянский, набивающий мозоли на руках (II, 3, 9-10), «железный» и «золотой» века, старые добрые времена, развращающее влияние роскоши. В этой элегии диалектика индивидуального и общего приводит к еще более общественно значимым результатам, не позволяющим сводить творчество Тибулла к двум его коронным темам: любовь как единственно стоящее человеческое занятие и сельская жизнь как панацея, исцеляющая все социальные язвы. Здесь (II, 3, 65 сл.) поэт даже иронизирует над любимой деревней, где нашла утешение с другим его ветреная красавица, сетует на то, что не может нарядить ее в роскошные ткани с острова Коса, снабдить благовониями и косметикой Востока.
Если Тибулл на традиционный образ мифологического «золотого века» накладывает национальные представления об италийской патриархальной старице до Энея (II, 5, 37) с милыми его сердцу «фольклорными» вольностями и простотой нравов (И, 3, 29-30; ср.: II, 3, 69 — passim semper amarunt), то в описаниях века «железного» (ferrea saecula — II, 3, 35 сл.) он изливает «всю желчь н всю досаду» на хорошо знакомую ему современную действительность, на царящую в Риме страсть к наживе (praeda), из-за которой ведутся войны, организуются завоевательные походы, захватываются чужие земли, а на деньги приобретается любовь (divitibus video gaudere puellas — II, 3, 49). Снова как неизбежная примета «железного века» звучит мотив губительности мореплавания и дальних дорог (II, 3, 39 сл.; ср.: I, 1, 26; I, 3, 36, 50), видно, особенно ненавистных поэту, жаждущему чувства уверенности, стабильности, мирного и безопасного уединения с любимой. Это на поверхности, а в глубине — осуждение бесконечных завоевательных войн, разлагающих старинный уклад жизни, безнадежный призыв вернуться в лоно былой, полисной, общинной замкнутости. Море — это враждебная стихия, море - это войны, бури, смертельная опасность, подстерегающая на каждое шагу, разлука с родиной и близкими, погоня за трофеями, соблазны и т. п. (I, 1, 53; 3, 55-56; 7, 9 сл.; II, 2, 28 сл. и др.). «Железный век» — враг любви:
Ferrea non Venerem, sed praedam, saecula laudani.
[В веке железном хвалы не Венере звучат, а наживе.] (II, 3, 35)
Тибулл же всем своим творчеством проповедует любовь, а не вражду.
Выше на основе I, 3 были вычленены две мифологические пары: 1) «царство Сатурна — Елисейские поля» и 2) «царство Юпитера — Аид». Элегии I, 10 и особенно II, 3 дают основание эти диады преобразовать в триады: 1) «Сатурново царство — Элизиум — Рим до Энея» и 2) «век Юпитера — Аид — современный Рим». Так возникают две противостоящие концепции: 1) националистически-италийская, которая завершается доэнеевской сельской идиллией на семи холмах, когда Рима еще не было и в помине, и 2) космополитическая, замыкаемая образом современного поэту великодержавного Рима, наследника некогда могучего Троянского царства. В сельской идиллии Тибулла, представляющей по существу мелкообщинную реакцию на безудержный римский империализм, пронизанной тоской по незлобивой и мирной жизни предков, нет места чужаку Энею, а стало быть, и его прославленному потомку Октавиану Августу, которого Тибулл, как известно, в своих стихах ни разу не называет по имени. Подтекст тут прост: не нужен был нам Эней, сидел бы он лучше дома и без него неплохо было на земле Сатурна (Saturnia tellus). Во второй, вселенской концепции, втягивающей в свою орбиту чужедальние страны, открытое море, фатум, воинственных пришельцев, встает образ вечного города, столицы великой воинственной державы, с уже знакомыми параметрами «железного века». Официальная пропаганда (Вергилий, Гораций) рассматривала современный Рим как воплощение божественного предопределения, как владыку «круга земель», который прямиком шагает в «золотой век», а патриархально-националистическая оппозиция не видела в нем ничего другого, кроме торжествующего порока «железного века», прикрытого румянами казенного процветания (августовская «эпоха Возрождения»).
Как мы убедились, все «общие места» поэзии Тибулла (особенно тонос «смены поколений») в мистической атмосфере «конца века», диалектически сплавляясь с реальными наблюдениями над жизнью, с его личным опытом, мировосприятием, с влюбчивостью, обостренным ощущением утрат, страхом перед смертью и распадом старой деревенской вольницы, где сама природа благоприятствовала любви, приобретают индивидуальную окраску. Стоит сравнить тибулловский мотив «свободной любви» в древности с замечанием Проперция, что «строгие нравы цвели, когда правил Сатурн» (II, 32, 51-52 = 111, 30), а в следующем поколении, после потопа, сами боги не хранили супружеской верности и девственная Даная не могла противостоять домогательствам Юпитера (non potuit magno casta negare Iovi — ст. 60). Последнее вполне в духе Тибулла. Однако это, как говорится, детали. В обличении женских измен, пагубного влияния роскоши, в идеализации сельской старины у обоих поэтов больше общего, чем расхождений (ср.: Проперций III, 13 = IV, 12).
Все тот же знакомый нам мотив смены поколений был использован в конце эпохи республики Катуллом и во времена фактической монархии Овидием. У первого этот мотив звучит форсированнее, обличительнее, неистовее, свежее (64, 384-386; 68, 153), а у Овидия (Метаморфозы I, 89-150) — академичнее, суше, вторичнее, неся на себе влияние литературных предшественников, но и здесь личный опыт поэта подсказал Овидию более убедительные и яркие краски в изображении пороков поколения из «твердого железа» (proles de duro ferro — І, 127-150).
Краткие выводы:
В римской элегии драматические перипетии римской истории в период перехода от республики к монархии преломляются исключительно через личные судьбы лирических героев, представляющих воинственно-индивидуалистическую жизненную позицию, что было новым для римской литературы.
В римской элегии основной прием диалектического синтеза общего и индивидуального состоит в особой репрезентации «общих мест», из которой рождается также и специфика поэзии Тибулла.
Среди «общих мест» элегий следует различать частные, характеризующие в основном сложные отношения влюбленных, и социально значимые, идейно-прямолинейные. К последним относится популярный в древности гесиодовский мотив «смены поколений», своеобразно переосмысленный Тибуллом.
«Царство Сатурна» в силу его явной утопичности обрисовано не столь выпукло и детально, как «железный век», наделенный реалистическими чертами (хотя и не без доли риторики), которые были подсказаны поэту наблюдениями над судьбой собственного поколения. Миф о «веках» обогатил поэтическую палитру Тибулла публицистическими красками, расширил горизонты его творчества, вывел его из тесного мирка жанра любовной элегии. Дополненный мотивом «доэнеевской Италии» общечеловеческий миф о смене поколений приобретает у Тибулла национально-италийскую, «почвенническую» окраску и противопоставляется космополитической вергилианской его версии о процветающем при потомке троянца Энея Октавиане Августе Риме. Один и тот же миф, как мы не раз убеждались, у разных поэтов функционирует по-разному в зависимости от их мировоззрения.
Критический заряд антитезы «золотой — железный», использованной Тибуллом, свидетельствует о трезвой, неидеализированной оценке действительности и еще раз подтверждает оппозиционный характер его творчества по отношению к существующему строю. Это — постоянная общественная доминанта поэзии Тибулла.
Л-ра: Античная культура и современная наука. – Москва, 1985. – С. 130-139.
Критика