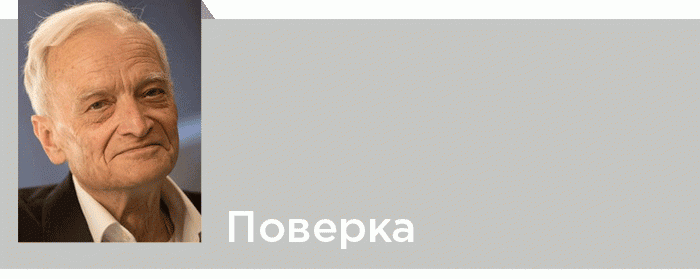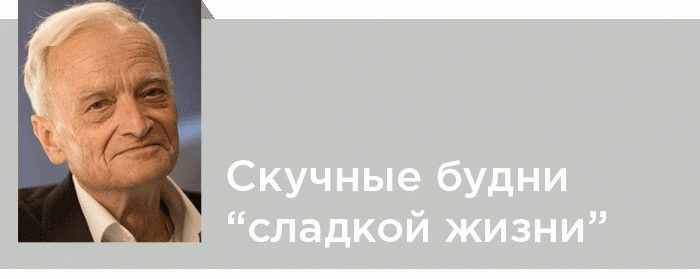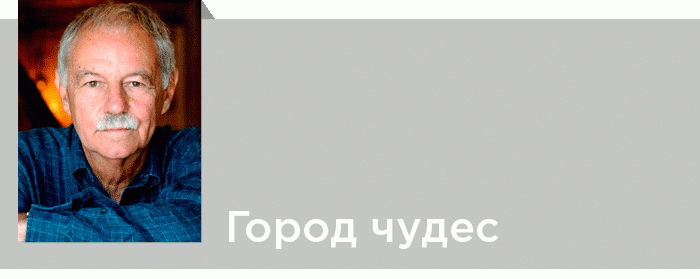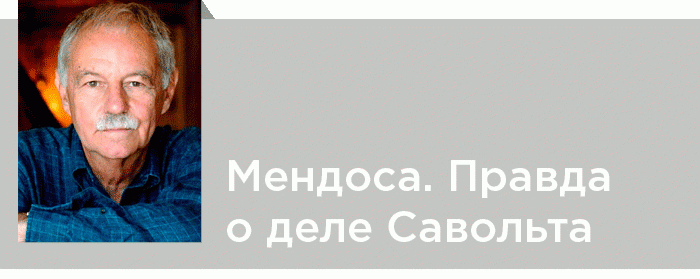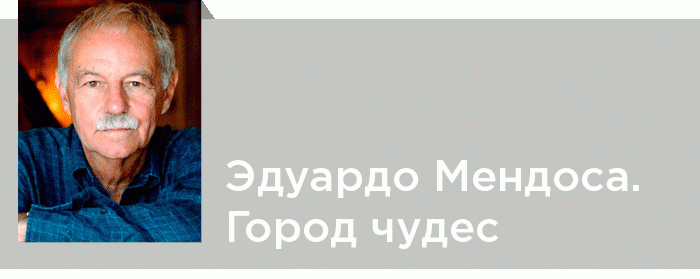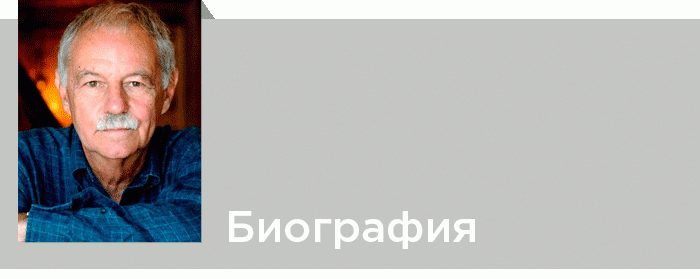Эдуардо Мендоса. Тайна заколдованной крипты
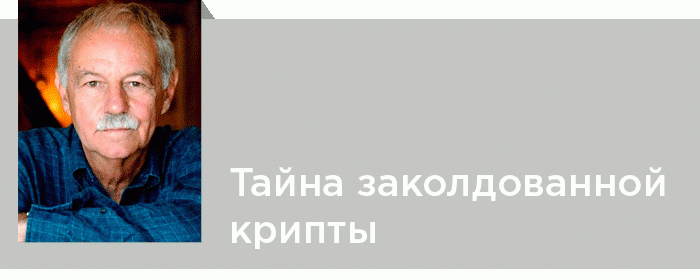
(Отрывок)
Глава I. Неожиданный визит
Мы были на пути к победе, мы могли выиграть. Разработанная лично мною (к чему скромничать?) тактика, изнурительные тренировки, которые я устраивал своим парням, и мечта о победе, которую я вбил им в головы, — все работало на нас. И все шло как по маслу: еще немного — и мы забьем гол. Победа будет за нами.
Было прекрасное апрельское утро. Светило солнце, и, как я успел мимоходом заметить, окружавшие футбольное поле шелковичные деревья уже покрылись желтоватым душистым пухом — а это самый верный признак весны.
Но вдруг все изменилось: небо в один миг затянули тучи, вслед за чем Карранскоса из тринадцатой палаты, на которого я полагался как на надежного защитника, а если надо, то и на нападающего, бросился на землю и забился в конвульсиях, крича, что не хочет видеть свои руки обагренными человеческой кровью (как будто мы тут друг друга убиваем!) и что его мать с небес укоряет его за всякое проявление агрессивности. К счастью, я совмещал обязанности нападающего с обязанностями арбитра, а потому добился (не без труда, надо признать), чтобы гол, который нам забили в тот момент, не засчитывали. Но я знал: стоит дать малейшую слабину — и поражение неизбежно. Я понимал, что наша спортивная репутация висит на волоске. И когда Тоннито, получив очередной точный и (не будем скрывать) красивый пас, который я послал ему с середины поля, в очередной раз отправил мяч в перекладину ворот противника, мне стало ясно: ничего уже не поделать. Нам и в этом году не стать чемпионами.
Поэтому я даже не возмутился, когда доктор Чульферга (если его фамилия действительно Чульферга — я никогда не видел ее написанной, а слух у меня не очень хороший) начал делать мне знаки покинуть поле и подойти к нему (он стоял за демаркационной линией). Ему нужно было что-то мне сказать. Доктор Чульферга был моложавый низенький толстяк с густой бородой и в очках с толстыми затемненными стеклами. Он совсем недавно прибыл из Южной Америки, но уже успел себя показать. У нас его не любили.
Я подошел, скрывая раздражение, и вежливо спросил, в чем дело.
— Доктор Суграньес, — услышал я, — хочет вас видеть.
— Я польщен, — ответил я и добавил, заметив, что мой ответ не вызвал улыбки на лице Чульферги: — Физические упражнения действительно тонизируют нашу неустойчивую нервную систему.
Доктор развернулся и зашагал большими шагами, время от времени оглядываясь с целью удостовериться, что я следую за ним. После той статьи он сделался подозрительным. Я имею в виду статью, которую он недавно написал. Она называлась „Раздвоение личности, бред сладострастия и задержка мочеиспускания“. Эту статью, воспользовавшись тем, что Чульферга новичок и еще не во всем разобрался, опубликовала „Фуэрса нуэва“ под заголовком „Эскиз монархической личности“ и за подписью доктора Чульферги, которому эта история совсем не понравилась. Теперь он то и дело восклицает:
— В этой дерьмократической стране даже сумасшедшие становятся фашистами!
Именно так и заявлял со своим странным южноамериканским акцентом.
В общем, я послушно пошел за Чульфергой, хотя мне очень хотелось попросить разрешения принять сначала душ и переодеться — я сильно потею, и потом от меня плохо пахнет, особенно в закрытых помещениях. Но я ни о чем не попросил.
Мы прошли по дорожке, усыпанной гравием и обсаженной липами, поднялись по мраморным ступеням и вошли в вестибюль нашего лечебного учреждения. Сквозь куполообразную стеклянную крышу лился янтарный свет, вобравший в себя, казалось, всю чистоту последних зимних дней. Чульферга повел меня вглубь вестибюля: там, справа от статуи святого Висенте, между пьедесталом и застланной ковровой дорожкой лестницей, находилась приемная доктора Суграньеса, где на столах, как обычно, валялась куча старых пыльных журналов Автомобильного клуба. Мы подошли к массивной, красного дерева двери кабинета, в которую был встроен крохотный светофор, мой спутник постучал, и на светофоре загорелся зеленый свет. Доктор Чульферга приоткрыл тяжелую дверь, просунул голову в образовавшуюся щель и что-то пробормотал. Потом вытащил голову из кабинета и, с трудом открыв дверь пошире, велел мне войти. Я подчинился. Подчиниться-то я подчинился, но на душе у меня было неспокойно: не так уж часто доктор Суграньес выражал желание меня увидеть. Если честно, такое случалось раз в три месяца, на плановом осмотре. Но до очередного осмотра оставалось ждать пять недель. Наверное, именно из-за волнения я не сразу (хотя я очень наблюдательный) заметил, что в кабинете, кроме доктора Суграньеса, присутствовали еще два человека.
— Разрешите, сеньор директор? — дрожащим голосом, слегка заикаясь, произнес я.
— Проходи, проходи, не бойся! — Доктор Суграньес, как всегда, точно понял, что со мной происходит. — Тут к тебе посетители.
У меня от страха стучали зубы, и, чтобы скрыть это, я уставился на висевший в рамке на стене диплом и некоторое время делал вид, будто внимательно его разглядываю.
— Ты не хочешь поздороваться с твоими милыми гостями? — Это был ультиматум, произнесенный вежливым тоном.
Неимоверным усилием воли я попытался привести мысли в порядок: сначала нужно выяснить, что это за посетители, а уж тогда можно будет догадаться, с какой целью они явились сюда, и сообразить, как избежать общения с ними. Но для этого нужно на посетителей посмотреть, потому что на одной дедукции в таких случаях далеко не уедешь: за пять лет, что я провел в этом заведении, ко мне ни разу никто не пришел — друзей у меня нет, родственники знать меня не хотят, и их можно понять.
Я начал поворачиваться — медленно, стараясь, чтобы мой маневр остался незамеченным. Последнее мне не удалось, потому что за мной неотрывно следили три пары глаз: доктора Суграньеса и тех двоих неизвестных. И вот что я увидел: напротив докторского стола в кожаных креслах (то есть в тех, что были кожаными, пока Хаймито Буйон не описался, сидя в одном из них, после чего пришлось менять обивку сразу на обоих — для симметрии, — так что теперь на них чехлы, которые можно стирать в стиральной машине) сидели люди.
Приступаю к описанию.
На том кресле, что ближе к окну — ближе, если сравнивать с другим креслом, потому что между этим первым креслом и окном все-таки довольно большое расстояние, которое занимала красивая стеклянная напольная пепельница, водруженная на метровую бронзовую колонну, что служила ей постаментом (я говорю „занимала“ и „служила“, потому что сейчас вы их не увидите: после того как Ребольедо попытался разбить колонну о голову доктора Суграньеса, и колонну и пепельницу из кабинета убрали, а на их место так ничего и не поставили), — сидела женщина неопределенного возраста (я дал бы ей лет пятьдесят, хотя выглядела она старше) с величавой осанкой и благородными чертами лица, но в бедной одежде. На коленях, закрытых плиссированной перкалевой юбкой, женщина держала саквояж, какие раньше носили доктора, — продолговатый, потрепанный, с веревочкой вместо ручки. Дама улыбалась, не разжимая губ, но глаза ее так и сверлили меня из-под густых, нахмуренных — из-за чего лоб ее пересекла очень глубокая горизонтальная складка — бровей. У нее было холеное лицо с гладкой кожей, над верхней губой темнела тоненькая полоска усов. На основании всего вышеперечисленного я пришел к выводу, что передо мной монахиня (вывод, который делает мне честь, поскольку во времена, предшествовавшие моему заточению в нашем, как мы его называем, „санатории“, монашки еще не позволяли себе появляться — по крайней мере за стенами монастыря — в иной одежде, кроме той, что полагалась им по сану). Как бы то ни было, догадаться мне помогли маленькое распятие, приколотое у монахини на груди, ладанка у нее на шее и четки за поясом.
А сейчас, если позволите, я опишу посетителя, занимавшего кресло, которое стояло ближе к двери. Это был мужчина средних лет — примерно того же возраста, что и монахиня. („И даже, наверное, того же, что и доктор Суграньес“, — подумал я, заподозрив в этом какой-то скрытый смысл, хотя тут же посмеялся над своими подозрениями.) В чертах его не было ничего примечательного, за исключением того, что они были мне хорошо знакомы, поскольку имели отношение, а точнее сказать — принадлежали комиссару Флоресу, и еще точнее — были комиссаром Флоресом (ведь нельзя же представить себе черты комиссара Флореса без самого комиссара) из отдела по расследованию уголовных преступлений. А потому я, несмотря на то что комиссар за годы, что прошли с нашей с ним последней встречи, совсем облысел — не помогли никакие мази и притирания, — обратился к нему с такими словами:
— Комиссар, время над вами не властно!
Комиссар ничего мне на это не ответил, лишь помахал рукой возле лица, что я истолковал как приветствие. И в довершение доктор Суграньес нажал кнопку стоявшего у него на столе коммутатора и велел раздавшемуся из него голосу:
— Принесите бутылочку пепси-колы, Пепита.
Наверное, в эту минуту на лице у меня появилось довольное выражение и я расплылся в счастливой улыбке.
А теперь, без дальнейших предисловий, перехожу к разговору, который состоялся в тот день в кабинете доктора Суграньеса.
— Полагаю, — начал, обращаясь ко мне, доктор Суграньес, — ты не забыл комиссара Флореса, который тебя столько раз задерживал, допрашивал и даже собственноручно устраивал тебе взбучки каждый раз, когда ты, в силу своей, гм, гм, психической неустойчивости, совершал какой-нибудь антиобщественный поступок (я кивнул, соглашаясь), и все это, разумеется, лишь потому, что желал тебе добра. Кроме того, как мне не раз рассказывали и ты сам, и комиссар Флорес, вам случалось сотрудничать, то есть ты время от времени совершенно бескорыстно оказывал комиссару некоторые услуги — факт, который, на мой взгляд, свидетельствует о том, что твой характер в прежние годы был неуравновешенным, а поступки противоречивыми.
Я снова поспешно кивнул: мне и впрямь в былые годы не раз случалось выступать в роли осведомителя. Только это была, что называется, палка о двух концах: с одной стороны, я мог рассчитывать на какое-никакое снисхождение к моим прегрешениям, а с другой — становился изгоем среди своих, тех, кто вместе со мной не раз оказывался по ту сторону закона. Так что „сотрудничество с комиссаром Флоресом“ принесло мне в целом больше неприятностей, чем благ.
Суровый и сдержанный (каким и положено быть тому, кто добрался до верхней ступеньки иерархической лестницы и стал светилом в своей области), доктор Суграньес ограничился вышеприведенным коротким предисловием и обратился теперь уже к комиссару Флоресу, который рассеянно слушал, зажав в пальцах потухшую сигару и полуприкрыв глаза, словно размышлял о достоинствах и недостатках этой самой сигары.
— Комиссар, перед вами новый человек, — при этих словах доктор указал на меня, — в котором искоренены все дурные задатки, хотя мы, медики, не можем считать, что это полностью наша заслуга. Ведь в нашем деле, как вам, комиссар, хорошо известно, исцеление в большой мере зависит от воли самого пациента, и в данном случае мы имеем дело с пациентом, — тут доктор снова указал на меня, словно в кабинете были еще и другие, — который, со своей стороны, приложил так много усилий к достижению нашей общей цели, что его можно считать, гм, гм, образцом для всех, кто находится у нас на излечении.
— В таком случае, доктор, — подала голос монахиня, — объясните мне как человек, сведущий в своей профессии, почему этот, с позволения сказать, субъект до сих пор пребывает в стенах вашего заведения?
Голос у нее был металлический, хрипловатый. Мне казалось, что фразы, слетавшие с ее губ, были как пузыри: слова были лишь внешней оболочкой, которая, лопаясь, обнажала то, ради чего эти слова произносились, — суть.
Доктор Суграньес несколько высокомерно взглянул на нее и менторским тоном ответил:
— Видите ли, случай, о котором идет речь, не так прост. Мы, видите ли, оказались, если можно так выразиться, меж двух огней. Дело в том, что данный, гм, гм, индивидуум был доставлен сюда по решению суда, вынесшего мудрый приговор, согласно которому лучше лечить в стенах медицинского учреждения, чем в стенах учреждения пенитенциарного. Исходя из сказанного, вопрос об освобождении в данном случае не моя прерогатива. Решение должно быть вынесено совместно с судебными органами, должно быть, так сказать, обоюдным. Но я думаю, вам, как и всем, хорошо известно, что между магистратом и коллегией врачей — по идеологическим ли мотивам или по каким-то другим — нет взаимопонимания. Надеюсь, все сказанное здесь останется между нами. — Он улыбнулся, всем своим видом показывая, как он устал от дрязг. — Если бы все зависело от меня, я бы давным-давно выписал этого человека. С другой стороны, если бы этот человек не находился в нашем учреждении, он давно бы уже был выпущен на свободу под залог. Но дела обстоят так, как обстоят. И всякий раз, когда я предлагаю какое-то решение, суд немедленно принимает решение прямо противоположное. И наоборот, разумеется. Что тут можно поделать?
Доктор Суграньес не лгал: я уже не раз просил о выписке, но каждый раз сталкивался с неразрешимыми юридическими закавыками. Полтора года шла безрезультатная переписка, полтора года я регулярно посылал прошения во все инстанции, получая отовсюду одинаковый ответ: „Удовлетворение Вашего запроса невозможно“. Без всяких объяснений.
— И вот сейчас, — продолжил доктор, помолчав, — счастливый случай, который привел в мой кабинет вас, комиссар, и вас, матушка, вполне вероятно, поможет разорвать тот порочный круг, в который мы попали. Вы согласны со мной?
Посетители дружно закивали.
— То есть, — уточнил доктор, — если я дам официальное заключение, что с медицинской точки зрения состояние данного субъекта является, гм, гм, вполне удовлетворительным, а вы, комиссар, со своей стороны присоедините к моему заключению свое мнение, скажем, мнение административного лица, и вы, матушка, ненароком пророните несколько слов во дворце архиепископа, что тогда сможет помешать судебным властям…
Думаю, что настал момент рассеять заблуждение, которое, возможно, возникло у некоторых читателей на мой счет. Я действительно являюсь (или, лучше сказать, являлся) психом, сумасшедшим, ненормальным. Не то чтобы в моем поведении время от времени случались отклонения — есть подозрение, что это естественное мое состояние. И к тому же я преступник, невежа и неуч, потому что единственной моей школой была улица, а единственными учителями — плохие компании, в которые я всегда попадал. Но при этом я вовсе не дурак и дураком никогда не был: прекрасные слова, нанизанные на нити правильных синтаксических конструкций, могут на какое-то время доставить мне удовольствие, дать возможность помечтать, порадоваться открывающимся перспективам, забыть о том, какова жизнь на самом деле. Но радость продлится недолго: у меня слишком силен инстинкт самосохранения, я слишком цепляюсь за жизнь и у меня слишком горький опыт. Рано или поздно в голове моей наступает просветление, и я начинаю понимать. Вот и в тот раз я понял, что разговор, при котором я присутствовал, был заранее продуман и отрепетирован с единственной целью: вбить мне в голову какую-то идею. Но какую? Что мне придется оставаться в „санатории“ до конца дней своих?
— …Доказать, одним словом, что находящийся перед нами, гм, гм, экземпляр не является ни исцеленным, ни перевоспитанным, что уже само по себе является виной, — доктор Суграньес обращался непосредственно ко мне, и я пожалел, что отвлекся и пропустил часть его речи, — и с чем я, по понятным причинам, не могу согласиться, — ну конечно: это же говорил психиатр, — но все же он примирился с собой и с обществом, стал частью гармоничного целого. Вы меня понимаете? А-а, вот и пепси-кола.
В обычных обстоятельствах я набросился бы на медсестру и вцепился бы одной рукой в одну из тех груш, что выпирали у нее из-под белоснежного накрахмаленного халата, а другой вырвал бы у нее пепси-колу, вылил ее всю себе в глотку и начал громко булькать… Но в тот момент я не стал делать ничего подобного.
Я не сделал ничего подобного, потому как понял в тех четырех стенах, которые ограничивали кабинет доктора Суграньеса, замышлялось нечто, требовавшее моего участия, и для успеха предприятия необходимо было, чтобы я продемонстрировал уступчивость и понимание. А потому я стал спокойно дожидаться, пока медсестра (за которой мне как-то случилось подглядывать сквозь замочную скважину в сортире) наполнит и протянет мне бумажный стаканчик с пенящейся коричневой жидкостью, словно умолявшей: „Выпей меня!“ И потом мне хватило благоразумия поместить губы по обе стороны стенки стакана, а не опустить их прямо в середину, как я это делаю обычно, и пить маленькими глотками, не сопя и не булькая и плотно прижимая локти к бокам, чтобы по кабинету не распространился запах моих подмышек.
И так я пил, глоток за глотком, чудесный напиток, полностью контролируя свои движения, но рискуя при этом упустить нить разговора. А потому постарался обращать поменьше внимания на колючие пузырьки и сосредоточиться на том, что говорили доктор и посетители. И вот что я услышал:
— Значит, договорились?
— Что до меня, — первым высказался Флорес, — то я не возражаю. Но только в том случае, если этот, гм, гм, образчик согласится на наше предложение.
И я согласился. Не раздумывая. Даже не спросив, на что именно соглашаюсь. Потому что когда вопрос решен представителями высших инстанций — суда, науки и Бога, то решение если и не пойдет мне на пользу, то и вреда особого не принесет.
— Итак, ввиду того, что присутствующий здесь, гм, гм, персонаж, — подвел итог доктор Суграньес, — выразил свое полное согласие, оставляю вас с ним наедине, чтобы вы ввели его в курс дела. И поскольку вы, как я полагаю, не хотите, чтобы вам мешали, позвольте продемонстрировать работу того замечательного светофора, что встроен в дверь кабинета. Запомните: если вы нажмете красную кнопку, на светофоре загорится красный свет, и это будет означать, что беспокоить находящихся в данном кабинете нельзя ни под каким предлогом. Зеленый свет имеет прямо противоположное значение, а желтый дает понять, что пребывающие в кабинете люди предпочитают, чтобы их не беспокоили, но разрешают войти в случае, если возникнут неотложные вопросы. Вы будете пользоваться данным прибором впервые, поэтому я попросил бы вас ограничиться красной и зеленой кнопками как самыми простыми в использовании. Если потребуются дополнительные разъяснения, обращайтесь лично ко мне или к медицинской сестре — она все еще стоит здесь с пустой бутылкой.
И, произнеся эти слова (а за то время, пока он их произносил, он встал из-за стола, подошел к двери и открыл ее), доктор Суграньес покинул кабинет, сопровождаемый Пепитой, с которой у них, как я предполагаю, что-то есть. И хотя, честно признаюсь, мне ни разу (сколько я за ними ни следил) не удалось застать эту парочку in fraganti, я все же послал несколько анонимок жене Суграньеса — просто чтобы позлить Пепиту и доктора и заставить их выдать себя. Только расположением духа, в котором я находился, объясняется тот факт, что я, вместо того чтобы поступить так, как поступил бы в подобных обстоятельствах всякий нормальный человек, — то есть посмотреть самому, как играть со светофором, — удержался от соблазна и счел за благо позволить комиссару Флоресу нажимать кнопки в свое удовольствие.
После этого комиссар снова уселся в кресло и обратился ко мне:
— Ты помнишь тот странный случай, что имел место шесть лет тому назад в Сан-Хервасио, в школе при женском монастыре? Ну-ка, припомни, напряги мозги.
Но мне ни к чему было напрягаться: у меня на память о том случае осталась дырка вместо одного из верхних зубов, который мне выбил комиссар Флорес, будучи в полной уверенности, что без этого зуба я смогу дать ему сведения, которыми я, к несчастью, не обладал, потому что, обладай я ими, я сейчас обладал бы и зубом, без которого с тех пор вынужден обходиться, потому что дантист мне не по карману. А посему (и вдобавок потому, что и сейчас я об этом случае знал не больше, чем раньше) я попросил комиссара посвятить меня в детали происшествия, обещая взамен добросовестное сотрудничество. И просьбу свою я высказал, почти не разжимая губ, чтобы комиссар не увидел дырку и у него не возникло желания прибегнуть к тому же способу получения информации, что и в прошлый раз. Комиссар попросил у монахини, которая хоть и молчала, но все же при разговоре присутствовала, разрешения закурить сигару, а закурив, поудобней устроился в кресле и, пуская в потолок кольца дыма, рассказал то, что составит содержание следующей главы.
Глава II. Рассказ комиссара
— Да будет тебе известно, — начал комиссар, созерцая, как превращаются в дым деньги, уплаченные за сигару, — что школа монахинь-лазаристок находится на тихой узкой улочке, одной из тех, что извиваются по фешенебельному району Сан-Хервасио — сейчас он, правда, вышел из моды, — и славится тем, что там учатся девочки из лучших семей Барселоны, приносящие школе неплохой доход, вы, матушка, поправьте меня, если я ошибусь. Школа, ясное дело, женская и закрытая. Для полноты картины добавлю, что все ученицы носят форму серого цвета, покрой которой призван скрывать намечающиеся формы. Ореол чистоты и непорочности окружает эту школу. Пока все ясно?
У меня были некоторые вопросы, но я ответил, что все ясно: очень уж хотелось услышать, что в той школе стряслось. Я ждал, что рассказ вот-вот начнется, но рассказа — вынужден сразу честно предупредить — не последовало.
— Так вот, — продолжил комиссар Флорес, — шесть лет тому назад, то бишь в тысяча девятьсот семьдесят первом году, седьмого апреля, монахиня, в чьи обязанности входит проверять, все ли ученицы встали, умылись, оделись, причесались и приготовились отправиться к утренней мессе, обнаружила, что одна из девочек отсутствует. Монахиня принялась расспрашивать подружек отсутствовавшей, но те ничего не знали. Она побежала в спальню — кровать была пуста. Девочки не было в ванной, ее не было нигде. Монахиня обыскала все закоулки интерната — девочка исчезла бесследно. Из личных вещей пропало только то, во что она была одета, — ночная рубашка. На тумбочке у кровати лежали наручные часы, сережки с искусственным жемчугом и карманные деньги на сладости из автоматов, стоявших в школьном коридоре и принадлежавших школе.
Обнаружившая пропажу монахиня сообщила о случившемся настоятельнице, а та, в свою очередь, поставила в известность всю общину. Еще раз обыскали школу — безрезультатно. Около десяти часов утра позвонили родителям девочки, и после недолгого совещания было решено передать дело в руки полиции, в те самые руки, которые ты видишь перед собой. Те, что выбили тебе зуб.
С оперативностью, которая отличала полициюпредпослефранковских времен, я явился в названное учебное учреждение, допросил всех, кого считал необходимым допросить, вернулся в участок, распорядился вызвать нескольких осведомителей, в число которых довелось попасть и тебе, доносчик несчастный, и добыл все сведения, какие только можно было добыть. К вечеру, однако, я пришел к выводу, что данному случаю невозможно найти никакого логического объяснения. Как могла девочка ночью встать и открыть запертую на замок дверь спальни, не разбудив при этом ни одной из соучениц? Как выбралась за запертые на замок двери, ведущие в сад (если память мне не изменяет, этих дверей четыре или пять, зависит от того, нужно ли проходить через туалеты на первом этаже)? Как сумела пересечь в темноте весь сад, не оставив ни следа на земле, не сломав ни единого цветка, не разбудив, что еще более странно, ни одного из мастинов, которых монахини каждую ночь, после того как прочтут последнюю молитву, отвязывают и выпускают в сад? Как исхитрилась преодолеть четырехметровый забор, утыканный острыми шипами, или стены той же высоты, усыпанные битым стеклом, поверх которого натянуто еще и несколько рядов колючей проволоки?
— Как?! — спросил я, сгорая от любопытства.
— Загадка, — ответил комиссар, стряхивая пепел прямо на ковер: я уже говорил, что колонну с пепельницей из кабинета давно убрали, а сам доктор Суграньес не курил. — Но дело на том не закончилось, иначе меня бы здесь сейчас не было и я тебе всего этого не рассказывал бы. Я только-только начал расследование, когда мне позвонила мать настоятельница — не та, разумеется, что сидит сейчас в этом кабинете, — комиссар указал пальцем на монахиню, которая за все время его речи не проронила ни звука, — а другая, постарше и, уж простите великодушно, поглупее, — и попросила меня еще раз приехать в школу — ей нужно было срочно со мной поговорить, как она объяснила. Я, кажется, забыл упомянуть, что это произошло на следующее утро после исчезновения девочки. Теперь понятно? Ну так вот. Как я уже говорил, я вскочил в патрульную машину, включил сирену и, грозя из окна кулаком всем, кого видел, умудрился преодолеть расстояние между Виа-Лайетана и Сан-Хервасио меньше чем за полчаса. И это при том, что на Диагонали была огромная пробка.
В кабинете настоятельницы я увидел мужчину и женщину — сразу видно было, что они муж и жена и что денег у них куры не клюют. Они представились родителями пропавшей и тут же приказали мне забыть о расследовании, которое я вел (мать настоятельница повторила приказ в гораздо более резкой форме, хотя ее мнения никто не спрашивал). Я подумал, что похитители запугали родственников девочки: каким-то образом связались с ними и потребовали молчать и не обращаться в полицию. Мне такое поведение кажется неправильным, и я попытался убедить в этом несчастных родителей.
— Вы, — ответил на это отец девочки с таким высокомерием, какое можно было бы оправдать лишь хотя бы отдаленным родством с его превосходительством, — занимайтесь лучше своими делами, а мы со своими проблемами справимся сами.
— В таком случае, — предостерег я, — вам своей девчушки не вернуть.
— Девчушка уже давно дома. Уже вернулась. И вы возвращайтесь к своим занятиям.
Я последовал его совету.
— Можно вопрос, сеньор комиссар? — подал я голос.
— Смотря какой, — недовольно нахмурился тот.
— Сколько лет было девчушке в момент, когда она исчезла?
Комиссар Флорес вопросительно взглянул на монахиню, и она в знак согласия сдвинула брови.
— Четырнадцать.
— Благодарю, сеньор комиссар. Будьте любезны, продолжайте.
— Я думаю, дальнейшее лучше сможет изложить мать настоятельница. Ей я и передаю слово.
Монахиня застрочила как пулемет (я подумал, что все это время она умирала от желания наконец-то получить возможность говорить):
— По моим сведениям — к сожалению, я лично не присутствовала при тех событиях, о которых только что рассказывал сеньор комиссар: я в то время руководила домом для слишком старых и слишком молодых монахинь в провинции Альбасете, — решение родителей девочки прекратить расследование в самом начале, свернуть его, так сказать, натолкнулось на сопротивление тогдашней настоятельницы — женщины большого таланта и с сильным характером, замечу кстати. Настоятельница заботилась не только о судьбе пропавшей ученицы, но и о репутации школы. Однако ее протесты никого не остановили. Родители прибегли к patria potestad и увеличили размер взносов, делавшихся ими ежегодно на Рождество, Пасху и на день святого покровителя монастыря, который, кстати, отмечается на следующей неделе. Так что настоятельница скрепя сердце согласилась и даже потребовала от всех монахинь и учениц хранить полное молчание по поводу случившегося.
— Извините, матушка, перебью, — вмешался я. — Есть один пункт, который я желал бы уточнить. Девочка действительно нашлась или нет?
Монахиня собралась ответить, но в этот время раздался звон колокола.
— Двенадцать, — посмотрела на часы монахиня. — Вы не позволите мне отвлечься на несколько минут: пришло время полуденной молитвы.
Мы не возражали.
— Будьте добры, погасите сигару, — попросила монахиня комиссара. Потом низко наклонила голову и пробормотала несколько коротких молитв. Закончив, она обратилась к Флоресу: — Можете снова зажигать вашу сигару. — И ко мне: — Так о чем вы меня спрашивали?
— Нашлась ли девочка?
— Нашлась. По правде-то говоря, — речь монахини выдавала ее низкое происхождение, — на следующее утро (а на ночь весь монастырь молился Святой Деве дель Кармен — ее образки, освященные, разумеется, у меня в этой сумке на случай, если вы захотите приобрести, — чтобы она совершила чудо) девочки, к чрезвычайному своему удивлению, увидели, что их пропавшая подруга лежит в своей постели. Она встала вместе с остальными и вместе с ними совершила ежеутренний toilette, а потом, как ни в чем не бывало, заняла свое место в колонне, направлявшейся в часовню. Ее подруги, памятуя о полученных наставлениях, молчали. Но монахиня, в чьи обязанности входит проверять, все ли девочки встали, умылись, оделись, причесались и приготовились отправиться к утренней мессе, или, если хотите, надзирательница, потому что именно так называется эта должность, схватила девочку за руку или, может быть, даже за ухо и потащила в кабинет к настоятельнице, которая также была безмерно удивлена и не верила ни своим глазам, ни своим ушам. Разумеется, настоятельница захотела выведать у самой виновницы переполоха, что же все-таки с нею произошло, но девочка не понимала, о чем ее спрашивают. Богатый опыт обращения с детьми и глубокое знание человеческой природы вообще позволили настоятельнице прийти к выводу, что девочка не лжет и что в данном случае имеет место частичная амнезия. Ей ничего не оставалось, кроме как немедленно позвонить родителям и известить их о том, что пропавшая нашлась. Родители немедленно явились в школу, и в кабинете настоятельницы состоялся долгий, трудный, оставшийся для всех тайной разговор, результатом которого и стало то самое решение закрыть дело без объяснения причин. Настоятельница уступила, но, в свою очередь, потребовала от родителей, чтобы в таком случае они забрали дочь из нашей школы, и посоветовала им другое, светское учебное заведение, куда мы обычно отправляем учениц, которые отстают от остальных в обучении или оказываются неисправимыми строптивицами. Вот так закончилась история о пропавшей ученице.
Монахиня замолчала, и в кабинете доктора Суграньеса воцарилась тишина. Мне было интересно, действительно ли на этом все кончилось. Маловероятно, что два занятых человека стали бы просто так тратить свое время, рассказывая мне о том, что давно быльем поросло. Я хотел как-то поторопить их с продолжением, но только отчаянно закосил глазами. Монахиня от испуга вскрикнула, а комиссар точным движением отправил по совершенной параболе окурок сигары в окно. Прошла еще минута — и окурок влетел обратно через то же окно: наверняка его вернул нам кто-нибудь из пациентов, решив, что ему устроили испытание, от результатов которого зависит его свобода.
После того как инцидент с сигарой был исчерпан, комиссар и монахиня обменялись понимающими взглядами и комиссар Флорес пробормотал что-то так тихо, что я ничего не разобрал. Я попросил, чтобы он повторил свои слова, и он сказал следующее:
— Это случилось снова.
— Что случилось снова? — не понял я.
— Еще одна девочка исчезла.
— Другая или та же самая?
— Другая, кретин! — разозлился комиссар. — Тебе же сказали, что первую девочку исключили из школы.
— И когда это повторилось?
— Вчера ночью.
— При каких обстоятельствах?
— При тех же самых. Только участницы происшествия были другие — и девочка, и ее подруги, и надзирательница, если ее так называют, и настоятельница (в отношении вашей предшественницы, матушка, беру свои слова обратно).
— И родители девочки?
— И родители девочки, ясное дело.
— Не такое уж и ясное. Может, речь о младшей сестренке той, что пропала раньше.
Комиссар мужественно перенес удар по самолюбию:
— Могло случиться и такое, но не случилось. Одно несомненно: эта история, если мы имеем дело с двумя эпизодами одного и того же дела, или эти истории, если они не связаны друг с другом, очень подозрительны. Излишне говорить, что и я, и присутствующая здесь мать настоятельница заинтересованы в том, чтобы означенный случай или случаи были раскрыты быстро и без скандала, который мог бы повредить репутации представляемых нами уважаемых учреждений. Поэтому нам нужен человек, который хорошо знает городское дно, имя которого нельзя запятнать больше, чем оно уже запятнано, и который сможет выполнить за нас работу. Услуги его, разумеется, будут впоследствии щедро вознаграждены. Не удивляйся, но этот человек — ты. Мы уже намекали, что может ждать тебя в случае, если операция пройдет тихо и увенчается успехом, а вот что будет, если ты совершишь ошибку или провалишь дело, — догадывайся сам. Не вздумай даже на милю приблизиться к школе или к родственникам девочки — на всякий случай мы даже имени ее тебе не скажем. Все, что разузнаешь, будешь незамедлительно сообщать мне, и только мне. Не проявляй никакой инициативы, делай лишь то, что я тебе приказываю или предлагаю — по настроению. И будь готов к тому, что всякое отклонение от цели может стать причиной моего гнева — а ты знаешь, каков я в гневе. Все хорошо усвоил?
Поскольку эта обращенная ко мне тирада, ответа на которую от меня никто не ждал, являлась кульминацией разговора, комиссар нажал кнопку светофора, и тут же появился доктор Суграньес. Последний, как я подозреваю, пока мы беседовали без него, времени даром не терял, а развлекался с медсестрой.
— Мы закончили, доктор, — объявил комиссар. — Эту, гм, гм, жемчужину мы забираем с собой и через некоторое время уведомим вас о результатах данного интереснейшего психопатического эксперимента. Большое спасибо за содействие и счастливо оставаться. Ты что, оглох? — Последние слова были адресованы, конечно, уже не доктору Суграньесу, а мне. — Не слышал, что мы уходим?
Они зашагали к выходу, не дав мне времени даже на то, чтобы прихватить мои пожитки, и, что еще хуже, — не дав мне возможности принять душ, из-за чего в патрульной машине, которая, несмотря на сирену, клаксон и чертыханье комиссара, везла нас к центру города больше часа, запах стоял ужасный.
Критика