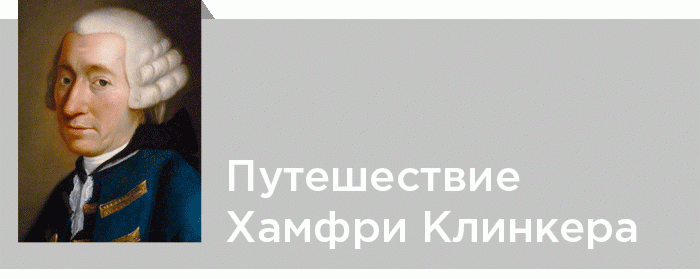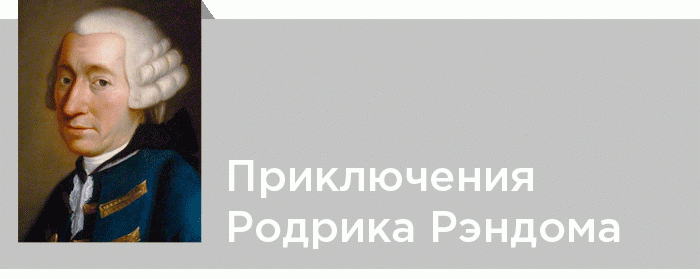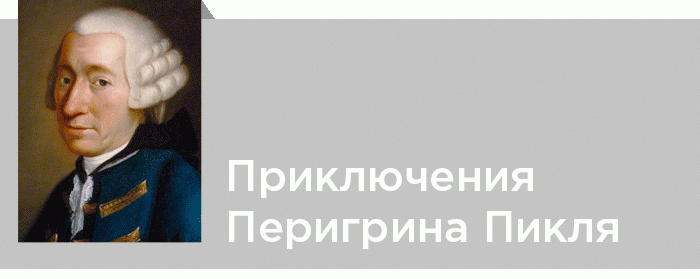«Немой свидетель»

А. Богуславский
«Немым свидетелем» всего, что накапливалось в уме и на сердце, называл А. Афиногенов свой дневник. О существовании обширного фонда дневников Афиногенова знали многие. В последние годы друзья безвременно погибшего драматурга приводили из них выдержки в своих печатных и устных воспоминаниях. Часть дневниковых записей вошла в сборник материалов об Афиногенове, изданный в 1957 году «Искусством».
Вышедший том «Дневников и записных книжек» Афиногенова тоже не претендует на полноту исчерпывающего свода — в комментариях оговорено, что «в настоящее издание включены преимущественно материалы, отражающие творческую биографию писателя, его взгляды на литературу и искусство». Но и в этом объеме собрание афиногеновских дневников не может оставить к себе равнодушным. Конечно, прежде всего оно горячо заинтересует людей искусства, литературоведов, театроведов, критиков. Но я нисколько не сомневаюсь, что эти никогда не предназначавшиеся для печати, вылившиеся из души дневниковые страницы увлеченно и с волнением будут читать и люди, далекие от профессиональных интересов, просто по-настоящему любящие литературу и театр, стремящиеся осмыслить для самих себя пути их развития, понять, в чем их сила и новизна, каков творческий, гражданский, нравственный облик художника современного общества.
Среди записей Афиногенова в его дневниках и книжках, может быть, и не столь уж много таких, которые бы непосредственно и вплотную подводили нас к процессу создания отдельных пьес драматурга. То, что принято называть «творческой лабораторией писателя», сравнительно более конкретно раскрывается лишь на страницах, отражающих работу над «Страхом» и «Салют, Испания!». Очень редко встречается в дневниках Афиногенова и что-либо наподобие автокомментария к характерам, сюжетам, конфликтам его произведений. Правда, внимание дотошного читателя этой книги — специалиста, историка литературы и театра — не раз привлекут к себе неожиданные находки, новые факты, интересные детали.
Иной поставит жирное нотабене на полях той записи, которая свидетельствует, что, работая над «Страхом», Афиногенов перечитывал Ибсена и вдумывался в принципы развития характеров его пьес. Другой выпишет с тщанием строки из дневника 1929 года о старом профессоре-брюзге и девушке, с приездом которой «жизнь ворвалась в затхлую его комнату...» Уж не здесь ли «зерно» знаменитой «Машеньки», созданной через целых одиннадцать лет? И, разумеется, мало кто избежит соблазна увидеть в зарисовке «крупного чекиста», мужественно скрывающего от близких свою смертельную болезнь, прообраз героя «Далекого» — Малько.
Мы далеки от того, чтобы усматривать в интересе к подобным «открытиям» что-то вроде академического крохоборчества, — такие факты могут и должны учитываться исследователем при разработке творческой биографии Афиногенова, творческой истории его пьес. И все же хочется подчеркнуть, что главная ценность и интерес его дневников и записных книжек — и для исследователей и уж, конечно, для широкого читателя — не в том, что они дают ключ к частным и конкретным явлениям писательской практики драматурга (хотя, повторяем, и это очень существенно), а в том, что они составляют как бы своеобразный «подтекст» к его творчеству в целом, его общий глубинный фон, помогают осмыслить духовные истоки, питающие это творчество.
Охватывая период с 1927 по 1941 год — в сущности, весь путь Афиногенова в литературе и театре, — его дневники и записные книжки вводят нас во внутренний мир художника, приобщают ко всем сторонам и проявлениям его интеллектуальной жизни. И что особенно важно и увлекательно — они воссоздают этот внутренний мир, эту интеллектуальную жизнь в развитии, движении, росте. «Для того, чтобы понять художника в его живой индивидуальности, мало знать только результаты творческих исканий, только выводы, к каким приходил он, решая теоретические и творческие проблемы», — пишет А, Караганов в связи с содержательной статье, предпосланной сборнику дневников. И критик справедливо усматривает их значение в том, что они показывают «путь писательской мысли», «дают нам возможность яснее увидеть, как в радостях и муках творчества, в напряжении раздумий» формировался и рос один из выдающихся драматургов.
Этот рост Афиногенова был нелегок, неровен, его осложняли многие субъективные и объективные причины. Только теперь, с опубликованием дневников, процесс внутреннего становления Афиногенова, его борьбы со своими слабостями и ошибками (о которых он пишет с беспощадной самокритичностью, подчас с несомненными преувеличениями), духовного возмужания, постижения задач искусства реализма предстает во всей своей полноте, сложности.
Но как бы сложно ни протекала эволюция Афиногенова, об одном с неопровержимостью свидетельствуют дневники писателя — о внутренней целостности его личности. Страницы дневника, на которых драматург вел по вечерам в тишине своего рабочего кабинета то неторопливые и раздумчивые, то беспокойные, взволнованные разговоры с единственным читателем — самим собой, — расширяют, обогащают наше представление об Афиногенове, о его сокровенных творческих устремлениях, о «сверхзадачах» его пьес, обогащают, но ни в чем, даже в самом малом, не вносят диссонанса, не вступают ни в малейшее противоречие с духом того, что писалось им для сцены, для печати.
С большой настойчивостью и постоянством проходит через дневники Афиногенова мысль о том, что подлинный писатель должен быть «одержим в своем деле», что ему «надо уметь быть фанатиком своего дела», что процесс творчества, вынашивание и создание все новых и новых произведений — это «жизнь и стихия» для истинного таланта.
«Вечное напряжение сил и желание создавать еще не созданное никем... а закрепив, немедленно двигаться дальше... И так всю жизнь».
«Одержимость» своим искусством, желание приблизить его к жизни, сделать как можно нужнее народу вели Афиногенова и к той широте его творческих поисков, которая подчас все еще недооценивается в нашем литературоведении. Да, горячий поборник углубленного психологизма в драматургии, столь последовательно сражавшийся за него с пролеткультовцами, литфронтовцами, трамовцами, ранними Вишневским и Погодиным! Но в записях 1936 года, относящихся к «Салют, Испания!», автор «Чудака» и «Далекого» начинает говорить почти что языком своих «антиподов», отвергавших психологический путь для театра и драмы, призывавших к открытой агитационности, плакатности: «Театр становится школой психологической анатомии...», «По черепу — тусклые бытовые пьесочки с проблемками...», «Требуется жизнь в лоб...» Да, упорно повторяющиеся призывы к лирическому проникновению в мир самых сокровенных человеческих чувств, мечты о пьесе «легкой, радостной, по-особому светлой, примиряющей и ласковой» («Хочется очень простых слов о нашей жизни, так, чтобы они проникли в самое глубокое, тайное и интимное...»). Но заглянем в дневники предвоенных лет, и мы наткнемся на неожиданные признания драматурга в том, что его влечет к героике, трагедии. «Теперь именно для меня раскрывается романтическо-героическая сторона действительности, а стало быть, и искусства. Именно теперь трагедия и не только Шекспира, но и Шиллера найдет во мне полный отклик».
Чем больше вникаешь в страницы афиногеновских дневников и записных книжек, тем больше чувствуешь их внутреннюю перекличку с нашим сегодняшним днем, многое здесь настолько созвучно нам, что кажется написанным сейчас. Это и гордое ощущение того, что «теперешняя полоса Истории — одна из величественнейших». Это и глубокая убежденность в том, что наши передовые люди труда воплощают «совершенно новое качество человека, качество, рожденное структурой общества» («Вот они — вырвавшиеся на свободу атомы человеческой энергии. Излучение их энергии — неисчерпаемо. И от этого строй, в котором они живут, — непобедим!»). Это и высота требований к писателю — призыв неустанно расширять свой идейный кругозор и культуру («О рабочей столовке надо писать, зная Гёте, о домне — читая «Фауста») ; быть не «хроникером», коллекционирующим факты, а «учителем», идущим впереди своего читателя и героя; «жить временем, а не днем»; быть поэтом и мыслителем («Конечно же мысль только и двигала вперед всякое подлинное произведение искусства»).
Наконец, нельзя не сказать хотя бы несколько слов еще об одном. Большое место в дневниках (особенно последим лет) занимают записи о книгах. Афиногенов предстает перед нами на этих страницах в новом качестве — проникновенного читателя, с глубокой радостью и огромным внутренним подъемом открывающего для себя мир Льва Толстого и Достоевского, Ромена Роллана и Томаса Манна, Эсхила и Софокла. Чисто горьковское преклонение перед книгой звучит во многих раздумьях Афиногенова. Вот одно из них: «Я читаю хорошие книги, и слезы благодарности застилают мои глаза. Как это хорошо, что жили люди, писавшие хорошие книги, как я благодарен им за то, что они так подняли меня и расширили мой горизонт, это они научили меня смотреть на жизнь и людей по-новому... Это те книги... мысли которых так же вечны, как мир и человечество, и люди которых — мои друзья...»
Дочитывая последнюю страницу вышедшего сборника, испытываешь потребность с признательностью отметить любовный труд тех, кто подготовил и прокомментировал эту книгу, воссоздавшую такой живой и многосторонний образ талантливого драматурга.
Л-ра: Новый мир. – 1961. – № 1. – С. 253-255.
Критика