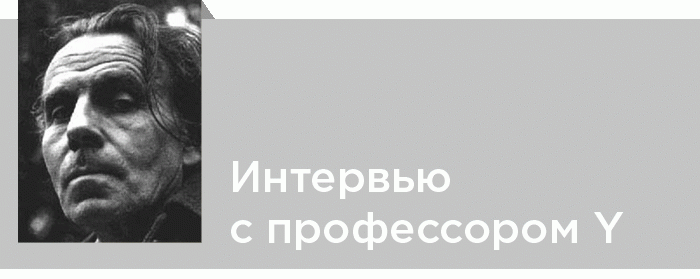...И с миром утвердилась связь

Наталья Суханова
Снова к юбилею Ивана Дмитриевича Василенко выпустили «Артемку». Когда-то и я считала «Артемку» его лучшей книгой. Это общее, впрочем, мнение. Иван Дмитриевич знал о нем и огорчался очень.
Сейчас, перечитав подряд его книги, я поняла с запоздалым чувством вины, насколько глубже и выше «Жизнь и приключения Заморыша». Разумеется, «Артемка» — с его светлым мироощущением, с его вниманием к подробностям жизни, быта, работы, с его приключениями, мистификациями, фабулой — прекрасная книга, которой суждена долгая жизнь. И все же центральной, главной книгой Василенко, я в этом глубоко уверена, останется «Заморыш». Он создавался на материале всей жизни писателя.
Читаю, перечитываю эту книгу сегодня вспоминаю рассказы Ивана Дмитриевича и думаю о том, как ложится опыт жизненный, опыт литературный и опыт размышлений в такие вот, как эта, книги.
С первых строчек «Жизни и приключений Заморыша» — «Когда я родился, то принялся громко кричать» - встает интонация писателя: с мягкой улыбкой, неторопливая, вдумчивая.
Вот так же неторопливо, вдумчиво разговаривал он — внимательно подбирая слова, но при этом никогда, кажется, не нарушая правильного строя фразы. В этом он был так же скрупулезен, как в своем творчестве: как бы его ни влек новый поворот мысли, новая мысль, он тщательно заканчивал начатую. Помню, он рассказывал, что мог день биться над одним абзацем, а то и строчкой, но никогда не перескакивал через недописанное. Рассказывая, подыскивая слово, он прижимал пальцы к ладони, даже не к ладони, а почти к запястью, а найдя точное слово, раскрывал ладонь, выкидывал пальцы...
«Самое теплое, мягкое и приятное существо на свете — это мама», - вспоминает «Заморыш», Митя Мимоходенко первые свои впечатления от бытия... И вот он уже студент Учительского института, уже идет империалистическая война, но по-прежнему самое дорогое существо для Мити — это мать. «Я всегда был душою с нею, куда бы судьба меня ни заносила, и мысли — как-то она живет без своего «заморышка» не раз омрачали меня».
Есть в первых же абзацах повествования о жизни и приключениях Мити Мимоходенко одно место — ключевое в понимании этой сыновней любви, этого характера.
Повивальная бабка плохо перевязала пупок. Младенец истекает кровью. Отец боится, что младенец умрет некрещенным.
На поиски священников бросается волостной сторож дед Тихон и приводит сразу трех! «Во время молитв и священных песнопений я молчал как рыба, но, когда бородатый и брюхатый отец Иоанн окунул меня в воду, я слабо пискнул.
- Э-э, — сказал матери дед Тихон, — да он, Акимовна, еще кормильцем вашим будет!
Обо все этом мне не раз потом рассказывала мать, я слова деда Тихона меня почему-то трогали до слез. Они часто помогали мне вернуться на правильный путь в моей жизни, полной приключений».
Автор «Заморыша» не только был действительно преданным кормильцем матери и сестры, но и похоронить его просил возле матери, что и было исполнено.
Отец Мити Мимоходенко — существо другое. Он детей бьет, хотя и считает это не битьем, а воспитанием. «Я его не просто бью, а наказываю». Он человек настроений. Сегодня говорит о ком-то: «Чудный, святой!», а завтра: «Подлец, мерзавец!». В отношениях с вышестоящими принижен и подобострастен. Но иногда вдруг храбрится; «Черта пухлого я стану извиняться перед барами!» Частенько его обуревают самые невероятные планы — разбогатеть и стать уважаемым человеком. Только ничего из этого не выходит. Вот и остается одно, неизменное — где и как лучше ходить, что бы подошвы меньше стирались. И покорность: «Да ведь нам министрами не быть...».
Так легли на страницы «Заморыша» образы матери и отца. А вот то, что рассказывал мне о них Иван Дмитриевич:
— Мать была тихая... Мы все ее очень любили... Отец тоже был тихий, исполнительный человек большую часть года. Но вот, чаще перед большими праздниками, на него что-то «находило», «бес находил», как говорил брат. Начиналось с того, что отец принимался придираться ко всему, а придравшись, бешено швыряться раздражавшими его вещами. И каждый раз это было: «Вот, мать, как воспитала ты своих детей — полюбуйся!». Мать обижалась, начинала возражать, а мы с братом, стоя по обе стороны, все одергивали ее: «Мамочка, не надо... Мамочка, да помолчите же!»... Каждый раз это были попреки, что дети заели его жизнь... Ночью он падал с кровати — мол, так замучен, — не забыв перед тем подстелить коврик... Наконец он начинал собираться в дорогу, начинал детей благословлять. Мать толкала нас на колени умолять: «Просите его дети... Встаньте на колени!».
Все же он уходил... А возвращался часа через четыре, перемазанный в известку и пыль, как будто нарочно где терся. «Ну вот, — говорил он, — был у батюшки. Он согласился взять меня в звонари».
Мать пыталась снять с него пальто, но он отстранял ее... сидел, не раздеваясь...
Потом все шло по-старому.
Об отце и подобных ему, изуродованных принижающей жизнью «маленьких» людях, Василенко много думал. Образ отца в «Заморыше» написан прекрасно. Но он — не единственный. В ряд с ним становятся и канцелярист Севастьян Петрович, страстный книголюб, которого сотни прочитанных книг не приблизили к ответу, зачем он, «прожив такую большую жизнь, исписал в суде пуды бумаги». И старый учитель Аким Акимович, в котором человеческое убито крохотным жалованьем.
Аким Акимович... Еще в первый раз читая «Заморыша», чувствовала я здесь какую-то литературную параллель, развитие какой-то очень знакомой темы. И лишь недавно осенило: Акакий Акакиевич — герой Гоголевской «Шинели»! Маленький человек, придавленный крохотным жалованьем.
Сходство имен. Сходство тем. И в развитии сюжета нечто общее, Акакий Акакиевич копит на шинель, отказывая себе даже в ужине, И Аким Акимович «урывает у себя самое необходимое, без чего даже простому крестьянину жизнь не в жизнь»...
Впрочем, тут и третий персонаж «протискивается» между ними, входит в сознание читателя, как связующее звено меж Акакием Акакиевичем и Акимом Акимовичем, Да и в самом деле не мог его пропустить такой страстный чехововед, каким был Василенко. Не мог он забыть этот персонаж, когда размышлял об очень знакомом ему мире мелких чиновников, о которых еще Пушкин писал: «огражденный своим чином токмо от побоев». Это «герой» чеховского «Крыжовника» — «бедняга чиновник», который «недоедал», недопивал, одевался бог знает как, словно нищий», сидел на одном месте, писал «все те же бумаги», одержимый «идеей» усадьбы с крыжовником. У Чехова, как и у Гоголя, названо это именно идеей.
Гоголь: «Но зато он питался духовно, неся в мыслях своих идею будущей шинели. С этих пор будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».
Чехов: «И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворешни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука... Мне было больно глядеть на него, и я кое- что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь».
У василенковского Акима Акимовича это, правда, не идея, а мечта: «Уже тогда я мечтал: вот сошью себе котомку, возьму в руки палку и пойду бродить по земле, чтобы увидеть все собственными глазами, пощупать своими руками, чтобы и в Киево-Печерскую лавру спуститься, и на колокольню Иоанна Великого подняться, и по Невскому пройтись, и — мечтать так уж мечтать! — с верхушки самой Эйфелевой башни на мир поглядеть».
Слово «мечта» пониже слова «идея», а содержание устремлений героя Василенко словно бы повыше. Как-никак это уже не «шинель на толстой ватенки даже не усадьба с крыжовником - это уже как бы «весь земной шар, вся природа», которые, как говорил Чехов, нужны человеку, если он не труп. Но вот только тот ли это земной шар, та ли это природа, где, говоря словами Чехова, он «мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа»?
Гоголь сострадателен к своему чиновнику, дав ему хотя бы посмертно недовольство своим уделом, дав ему хотя бы посмертно генеральскую шинель, которая, кстати сказать, «пришлась ему совершенно по плечам».
Чехов безжалостен к своему чиновнику, не только предоставляя ему вкусить желанного счастья, но и удовлетвориться им, остановиться на нем, в нем. «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию... как, в сущности много довольных, счастливых людей. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив... не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом».
А как насчет связи с миром василенковского Акима Акимовича?
С наступлением летних каникул Аким Акимович отправлялся в город и, купив сапоги у старьевщика да кое-чего из одежды, обнаруживал, что с его средствами не то что путешествовать, но и в их паршивом городке двух недель не прожить.
Однако через девять лет сумма накоплена уже достаточная для поездки в Киев или даже в Петербург. Но Аким Акимович сам не едет. Из жадности? Да, пожалуй, это можно так назвать, «...как подумал, — говорит он сам, — что все накопленное за столько лет ухнет в какие-нибудь две-три недели, так даже съежился весь...»
Значит, все-таки жадность? Маленький «скупой рыцарь»? Но ведь эти его «из потаенного кармана кредитки» — эквивалент девяти лет его нечеловеческой жизни, его труда, в котором он не человек, эквивалент не затраченного, а убитого человеческого. И путешествие по миру, когда в тебе убито человеческое, разве это не те же самые «три аршина земли», «усадьба с крыжовником»?
Чехов: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».
Близость впечатляющая, однако, вполне понятная. Мысль человеческая — не поле, разбитое на участки. Это скорее та река-океан, о которой писал Ромен Роллан.
Поэтому, думается, нет греха и в том, чтобы видеть, как перекликаются голоса великих писателей и писателей меньшего размаха, как перекликаются голоса мыслителей-ученых и мыслителей-писателей.
Итак, василенковский Аким Акимович. Можно сказать, что он сам щадит себя, откладывая с года на год свое счастье, свое путешествие, словно понимая, что оно не подарит ему мира.
Но возвратимся к образу отца в «Заморыше».
«Нам министрами не быть, — внушает он сыну. — Геометрия да астрономия — это все хорошо, но в канцелярии у тебя не спросят, сколько верст до луны, в канцелярию по почерку принимают».
И дальше:
«Когда отец узнал, какую ничтожную плату я получил за две недели своей канцелярской службы, то сначала обругал Севастьяна Петровича старым козлом, а потом, после раздумий, сказал:
- Ну, ничего, Митя, снимай копии, вникай во все хитрости судопроизводства, а тем временем готовься к экзаменам на звание частного поверенного. Как-никак, это — профессия! До старости прокормить сможет, если проявишь в ней способности. Конечно, хором себе не построишь, да ведь нам министрами не быть...»
Митя бунтует, отец же словно щеголяет своим ничтожеством.
И жаль, и непонятно, почему Василенко, так блестяще выписав этого «маленького» человечка, не ввел в повесть вот этих приступов раздражения и бешенства, овладевавших отцом чаще перед большими праздниками, этих мнимых побегов от семьи, «заевшей» его век! Казались ли приступы отца Ивану Дмитриевичу какой-то патологией? Виделось ли в этом ему актерство? Казались ли эти приступы несоответствующими сдержанной манере повествования? Или просто и много лет спустя, ранили его воспоминания: «Просите его, дети! Встаньте на колени»?
Мне же каждый раз, как я перечитываю «Заморыша», не хватает в образе отца вот этих, пусть беспомощно-актерских, взрывов, того стихийного психологического протеста человека против принижения, измельчания в нем человеческого, против ощущения им себя чем-то вроде копировальной бумаги
Тема связи творчества Василенко с традициями гоголевской и чеховской литературы — предмет особого исследования. Тот, кто возьмется за этот предмет, не минует и переклички двух рассказов: чеховской «Детворы» и василенковского «Однажды вечером». Перекличка настолько явная — и по фабуле, и по интонации, — что Василенко можно было бы заподозрить в плагиате, не будь это совпадение даже подчеркнуто, По видимому, это потребность того же рода, что заставляла Пушкина обращаться в своих замыслах к сюжетам известных произведений («Каменный гость», продолжение Фауста и др.). Это — отношение к литературе не как к собранию неприкосновенных шедевров, а как к живому познанию живой жизни. Василенко — внимательного, пристального наблюдателя маленьких своих современников — не могла не привлечь задача сопоставления ребятишек, меж которыми пролегли десятилетия, изменившие столь много, — сопоставления не в условиях, как говорится, экстремальных, а в быту, который меняется медленнее всего, в будничной семейной обстановке.
Не миновать, верно, будущему исследователю и более глубоких, более интимных чеховских корней в жизни Василенко.
Человека Василенко с человеком Чеховым роднило удивительно много: Таганрог, детство у одного — в лавке отца, у другого — в чайной-читальне на таганрогском базаре, вплоть до одной и той же жестокой болезни. Однако ни о каком чувстве родственности никогда не было сказано Иваном Дмитриевичем и слова — вероятно, он считал это нескромным. Зато восхищения, преклонения перед своим великим земляком не скрывал. И за честь почитал продолжение дел, когда-то начатых Чеховым.
Несколько лет своей жизни посвятил Василенко сбору книг у современных писателей для пополнения городской библиотеки, некогда таким же образом основанной Чеховым.
Тщательно подбирал Василенко личную библиотеку, которую завещал городу.
По завещательным его распоряжениям наследовали крупные суммы детский костно-туберкулезный санаторий и библиотека им. Чехова. А хотел он вообще все свои сбережения оставить городу — о таком завещании советовался он со мной незадолго перед смертью, явно переоценивая мои юридические познания, — городу, который он считал в первую очередь чеховским и который нежно любил, с его историей и с его современностью.
Не знаю, было ли это случайным совпадением или в нем-то Василенко «делал свою жизнь с Чехова», но и черты Василенко-человека во многом удивительно близки чеховским. Я читаю книгу К. Чуковского о Чехове и ловлю себя на том, что временами забываю, что, что написано не о Василенко.
«Он был гостеприимен... Хлебосольство у него доходило до страсти...» Да-да, думаю я, сам не пил, а за диваном набирал батарею отменнейших вин и наслаждался, потчуя ими. А конфеты, которые он закупал для детского санатория, для встречных детей и знакомых чуть не пудами!
«В этом чисто детском тяготении ко всяким озорным мистификациям...» — читаю я и вспоминаю бес численные рассказы Ивана Дмитриевича о действительных и вымышленных мистификациях.
«Конечно, многое объясняется... его беспримерною скрытностью, нежеланием вводить посторонних в свою душевную жизнь». Все так! При всей веселости, общительности — к самым глубоким, тяжелым своим мыслям почти никогда никого Иван Дмитриевич не подпускал. Один только раз, и то в ответ на мой вопрос, сказал он о сыне. Очень редко говорил о любви. Почти никогда о труднейших временах своей жизни.
И так далее, и так далее...
«Животные были ему так же интересны, как люди».
Нет, как бы ни боготворил Чехова Иван Дмитриевич, это не могло быть просто воспитанием себя «под Чехова» — это невольная родственность двух отстоящих во времени писателей, людей!
Чувство собственного достоинства. Да. «Лютая ненависть к самовозвеличению и чванству»? Да. «Максимализм правдивости»? Да.
Один из чеховских персонажей говорит:
«Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать...».
Этим же страстным желанием «обнять и вместить» подробности работы, быта, размышлений полны произведения Василенко.
Уже в «Волшебной шкатулке» Василенко не только упоминает, что отец Кости был лудильщиком, но и точно знает реквизит лудильщика…
У Василенко нет и тени идеалистического пренебрежения к подробностям быта. У него, как у Даля, это однокоренные слова: бытие, быт: это еще неразмежевавшиеся понятия: бытописатель как историк я бытописатель как изобразитель повседневного, обыденного.
Что же касается подробностей труда, то в этом Василенко уже не просто любознателен — он поэт. Описывает ли он, как Илька подковывает лошадь, или просто молоточек, сделанный тем же Илькой, или работу старого мастера Павла Тихоновича Курганова — это и любовное выписывание каждой подробности сделанного и самой внешности и особенностей этих людей: и Ильки, и его отца, и Гаврилы, и Курганова, гордость за них, и страстная высокая зависть:
«Скажу здесь, кстати, что всю жизнь я чувствовал себя каким-то неполноценным, мог на сцене играть Гамлета, мог речи с трибуны говорить, мог в сельской школе обучить грамоте шестьдесят мальчиков и девочек, а вот сделать простой молоток или построить плохонький, но настоящий, не игрушечный доги я так никогда и не научился. И мне часто бывало обидно, что все, чем я пользовался в жизни — пища, одежда, жилище, телефон, автомобиль, даже бумага и чернила, — сделано руками других. Обидно и завидно».
Страстнее желание писать о людях труда владело им всю жизнь. И когда Сергей Баруздин как-то упрекнул его, что он оставил рабочую тему, он глубоко обиделся. Ему мало было упомянуть, что его персонаж сапожник, изобретатель, краснодеревщик, кузнец, токарь, инженер ему обязательно надо было привести особенности их работы. Не зря он так дотошно выспрашивал каждого собеседника о его работе, а друг Василенко инженер Антропов был вообще постоянным консультантом писателя по техническим вопросам.
Излишнее знание подробностей без внутреннего, личного освоения — иногда его это и подводило...
[…]
В «Заморыше» использован огромный автобиографический материал. Однако это не автобиография. Материал тщательно отобран, осмыслен.
У Мити Мимоходенко только один брат и одна сестра. У Ивана Дмитриевича Василенко было два брата и три сестры. «Старший брат Александр был юнкером, отказался смирять рабочих, был брошен в тюрьму, вышел оттуда нервнобольным, покончил жизнь самоубийством», — так написано в воспоминаниях о Василенко Р. Фраермана. Племянник Ивана Дмитриевича говорит, что это был старший брат, рано покинувший семью, которого младшие дети почти не знали.
Прототипом Виктора, брата Мити Мимоходенко послужил, видимо, Федор, любимый брат Ивана Дмитриевича. Он и сына в честь брата назвал Федей.
И в повести:
«С Витей я играл часто и всегда проигрывал. Только раз (это было три года спустя) мне удалось выиграть у брата партию. Но эта победа меня не очень порадовала. Витя сказал: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». Вообще брат был во всем гораздо способнее меня».
Проходят годы. Митя сдает экзамены в Градобельский учительский институт, который уже окончил брат, и всюду Мите предшествует слава брата: «Вот Виктор, брат ваш, действительно редкостный экземпляр. Шутка ли, перемахнул через один курс!», «А не брат ли ты Виктора Мимоходенко? О, тот был способный!» Впрочем, у Мити в институте есть и собственная маленькая слава: «Тот, которой в сочинении критиковал тему сочинения» и «Тот, который не знает границ Австро-Венгрии», так что в устах одного пьяненького студента это принимает форму: «А, ты тот самый, который... не знает границ... своего брата?»
«Границу» положила война. Федор оказался на территории, занятой белогвардейцами. Шла мобилизация с белую армию. Федор хотел в Красную. С документами Ивана Дмитриевича (не подлежащего мобилизации) он перебрался в Красную Россию, вступил в РККА и погиб.
- Так что, — говорил Иван Дмитриевич, — я сам был на могиле, на которой написано: «Иван Дмитриевич Василенко, родился... умер...»
В повести есть еще сестра — сумасбродка Маша.
«Однажды Маша, в голове у которой, как я еще тогда подозревал, гулял ветер, вздумала повести меня и Витьку к панам в гости. Целый день она стирала наши рубашки и штанишки, до блеска начищала пахучей ваксой дырявые башмаки, а под конец умыла нас яичным мылом, взяла за руки и повела на горку. По дороге она рассказала, что стулья у пана хрустальные, стол серебряный, а ножи золотые...»
И позже, уже в городе, когда отец на неожиданно подвалившие деньги покупает всем детям драповые шубы:
«Когда на Маше примеряли в магазине шубу, она не проронила ни слова. Лицо у нее было как каменное. И в санях она тоже молчала. Но когда мы вернулись домой, и она сняла свою шубу, то вдруг заплакала и поцеловала ее».
Черты Маши явно проступают в рассказах Ивана Дмитриевича о сестре Кате, которая так и жила с «Ванечкой» до самой своей смерти.
Время было трудное, — вспоминал Иван Дмитриевич, — а у нее лозунг «Живи сегодняшним днем». Если к ней попадали деньги, она сразу покупала курицу. Мы были в ужасе: «Катя, а дальше-то как же?» У нее один ответ: «Нужно жить сегодняшним днем, а завтра еще неизвестно что будет, может, завтра и вообще-то не будет!». Но наступал и завтрашний день, и выкручиваться она предоставляла нам с мамой. Если же не было денег, Катя занимала, но никогда не отдавала, а пряталась, когда приходили за долгом. Нас стыдили, позорили, и с этим ничего невозможно было сделать...
...Любила эффекты, мелодраму. Когда купил мальчикам — Феде и Ване, сыну своему и сыну Катиному, — ботинки и, чтобы не испортились, не износились быстро, галоши на них, Катя истерически кричала на кухне: «Мы — нищие! Неужели не понятно, мы — нищие! А он галоши покупает!» Вышел на кухню, мягко ей говорю: «Катя, пойми ты, именно потому, что мы нищие, мы не можем позволить себе носить ботинки без галош. Ведь ты подумай: ботинки гораздо дороже галош». Молчит... А на другой день опять... слышу: «Мы — нищие! Мы ведь нищие! Разве мы имеем право покупать галоши?!» ...Ну?! ...Но при этом же была она, как немногие, самоотверженна. Когда я болел туберкулезом, сутками не спала возле меня, наотрез отказывалась уйти, валилась со стула от усталости... И когда я писать, больной, умирающий, начал, все поддерживала меня, что у меня обязательно получится, не может не получиться...
Духовная эволюция Мити Мимоходенко проходит через съезд мировых судей, где он снимает копии с решений неправедных судей, через понимание: «Подлинное скверно», что к написано было Митей на очередной копии вместо положенного: «С подлинным верно».
«Домой я шел в том тяжелом состоянии, которое не раз овладевало мной и прежде. Мне все казалось гадким, омерзительным, бессмысленным, мучительно противоречивым. Я старался связать концы с концами и приходил в отчаяние, не находя ответов на мучившие меня вопросы. А вопросов были тысячи, они сверлили мой мозг, мою душу. Чтоб впасть в такое состояние, нужен был толчок. Таким толчком сейчас был мой разговор с Севастьяном Петровичем. Я знал, что это человек с мягкой, деликатной душой, неспособный ответить на зло злом, робеющий перед всяким проявлением наглости и хамства. Как же мог он отдать всю свою жизнь службе в таком нечестивом учреждении, как суд?.. В чем же смысл жизни вообще, если все так пошло, гадко мелко и запутанно?..»
Разве это не ужас, разве это не проклятие, думал я, что я должен умереть, так и не узнав, в чем смысл жизни? — так рассказывал мне Иван Дмитриевич об этих мучивших его вопросах. — Как был я ничтожеством до своего рождения на свет, так ничтожеством прожил и ничтожеством умру. Да и Земля-то все равно уничтожится, это доказано наукой. И пусть даже придумают что-нибудь, что спасет человечество, меня-то уже не будет. Я так и не узнаю никогда, в чем смысл, в чем суть этого мира, зачем я родился, зачем жил. Но мне нужно было знать «зачем». Зачем вспыхнул свет моего разума?.. И бог, бог тоже не был ответом на мои вопросы. Допустим, что мир создал бог, а бога кто создал? — спрашивал я. Допустим, что бог положил смысл жизни человеку, а богу — кто? Бог не разрешал моих сомнений, и я больше в него не верил. И когда я читал такого верующего, как Толстой, то я видел, что он делает уловку: не надо, мол, спрашивать, зачем, этого нам не понять, это понять лишь богу. Но я не мог не спрашивать. Зачем я живу? Во имя чего должен умереть? Не подумайте, что я боялся смерти. Когда позже, при белых, я лазил в сейф за секретной документацией и передавал нашим сведения, кого должны забрать, и мы устраивали удостоверения и переправляли людей, я знал, что меня могут в любую минуту схватить и расстрелять, а между тем мне не было страшно. Когда я так мучился, страшна была не сама смерть — страшно было умереть, так и не узнав смысла жизни.
В молодости я был несколько раз на грани, и каждый раз это разрешалось каким-нибудь пустяком. В семнадцать лет я приготовил пистолет. Меня угнетало, что я причиню такое страдание матери, но я знал, что от этого ужаса, от этого мучения есть только одно спасение, один выход — прекратить все это. Я решил уехать далеко от дома, исчезнуть, пропасть и там покончить с собой. По дороге на вокзал я увидел двух собак. Они тянули, упираясь передними лапами, друг от друга, какую-то бечевку, веревку или ленту. Сначала я смотрел на них бессмысленно, потом рассмеялся — и все разрешилось.
В Учительском институте я писал сочинение по «Скучной истории» Чехова — «Отчего людям скучно жить на свете». «Скучно людям жить на свете оттого — что для человеческой жизни нужны не маленькие, частные идейки, а великая объединяющая идея».
[…]
Книга заканчивается главою: «Я больше не Заморыш» — Митю Мимоходенко за помощь «опасному политическому преступнику» высылают но месту жительства с проживанием там под надзором полиции.
Исключением из Учительского института за «неблагонадежность» оканчивается и белгородский период жизни Ивана Василенко.
Восемь повестей о Заморыше было задумано Иваном Дмитриевичем, а написано только пять. Возможно, подготовкой к продолжению «Заморыша» были «Два брата» — повесть, написанная писателем незадолго до смерти.
О чем пошла бы в следующих повестях речь и было бы их три или больше — нам остается только гадать.
В своей автобиографии Василенко о годах, последовавших за исключением из Белгородского института, пишет кратко:
«Вернулся в Таганрог, поступил в Земельный банк. Организовал стачку служащих банка. Затем работал в Совете профсоюзов. Участвовал в организации забастовки рабочих металлургического завода. В период Занятия белыми юга России поступил на большой Балтийский завод и участвовал в организации забастовки на этом заводе...»
Всего несколько строк, но это годы возмужания, годы смертельного риска, те самые, когда в любую минуту могли схватить и расстрелять, но страха не было. Всего несколько лет, но какой материал так и не получил воплощения!
[…]
В 1931 году ему поручают читать лекции по политэкономии в авиационном техникуме и филиале Московского авиационного института. Не раз он говорил, что ни одна работа не доставляла ему такого удовлетворения, как эта.
Читаешь лекции, ведешь эту логическую, неопровержимую линию, а потом вот он — единственно возможный вывод, единственно возможное следствие!
Все это было бы, наверное, в следующих повестях «Заморыша». А так же и война, унесшая сына Федора, и две эвакуации — в Нальчик, а потом в Тбилиси. Его зачислили в газету Закавказского фронта «Боец РККА». Не взятый в армию по состоянию здоровья, он все же работал для армии, выезжал на передовую, ходил по окопам.
Потом знакомство с Вересаевым, а много еще интереснейших встреч, и долгие годы писательского труда.
«Периоды моего более или менее спокойного ровного существования не раз сменялись бурными событиями. Другие люди сами тянутся к приключениям, но так и проживут свою жизнь, катясь по однажды избранной колее. Я же иной раз и сам не замечал, как оказывался в гуще необыкновенных происшествий, Так уж на роду у меня было написано» Это глава Мити Мимоходенко.
Герои Василенко, как и он, ищут не приключений, а смысла жизни, борются, страдают, радуются. Приключения и испытания сами находят их, как это всегда бывает с живыми, деятельными людьми.
Л-ра: Дон. – 1980. – № 10. – С. 159-167.
Критика