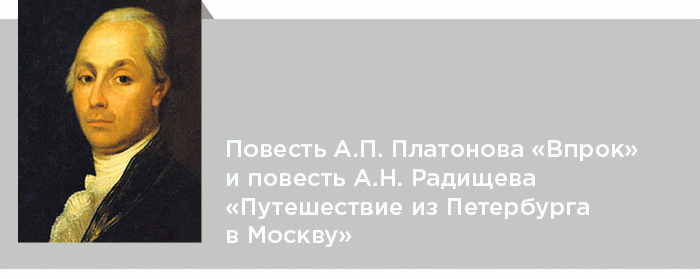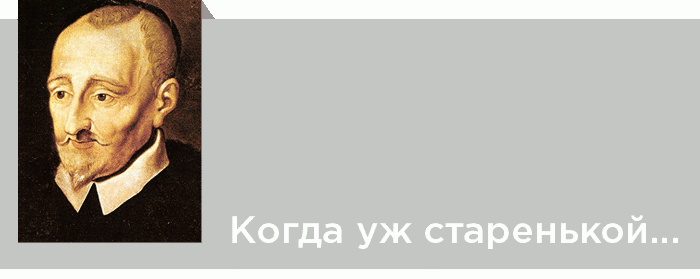О поэтическом переводе

Сергей Толстой
Пусть каждый знает, что ни одно произведение ... не может быть переложено со своего языка на другой без нарушения всей его сладости и гармонии.
Данте. «Пир»Я думаю, что не следует переводить слова, и даже иногда смысл, а главное, надо передавать впечатление. (...) Нужно переводить впечатление оригинала.
Из А.К. Толстого
«Десятой музой» нередко называют в наши дни искусство художественного перевода поэзии. По вопросам, связанным с этим искусством, писали и теоретизировали многие. Гумилев, Чуковский, Лозинский, Шервинский, Маршак — кто из них не пытался подкрепить свою переводческую практику началами теории и выработать хоть какие-нибудь принципы. Однако доныне каждый приступающий к переводу следует своим собственным правилам, накапливая их, время от времени их пересматривая и видоизменяя.
Как разобраться неопытному, начинающему переводчику во всей накопившейся за долгие годы и постоянно нарастающей путанице и разноголосице советов и высказываний, если еще Данте утверждал принципиальную непереводимость поэтического произведения, а Анатоль Франс (по-видимому, говоря о прозаических переводах) декларирует несовместимость красоты перевода и его верности оригиналу? Это же, как будто, подтверждает и А.К. Толстой, кстати, в своих переводах из Гете вовсе не следовавший собственным теоретическим советам. До сих пор два стихотворения Лермонтова «Горные вершины» и «На Севере диком стоит одиноко...» многие считают переводами, и даже образцовыми, из Гете и Гейне, хотя эти прекрасные стихи таковыми считаться не могут. Классическим переводом называют почему-то и «Лесного царя» Жуковского, хотя уже в первой строке всякий, обладающий хоть небольшим музыкальным слухом, отметит, что аллюры бешеной скачки не совпадают, и перемежающийся галоп гетевского оригинала у Жуковского, несмотря на слово скачет, воспринимается на слух рысистым бегом. (...)
Известны бунинские переводы сонетов Мицкевича, которые, хотя и бессильны полностью передать очарование и силу оригиналов, все же передают очень многое и при этом остаются прекрасными стихами. Известны переводы Брюсова, поражающие скрупулезной точностью всех своих компонентов, кроме одного, но, к сожалению, весьма существенного ... — поэзии. Сейчас, однако, хотелось бы просто поделиться несколькими мыслями, иллюстрируя их каким-нибудь одним конкретным примером, что позволит не говорить одновременно обо всем сразу многословно и малодоказательно.
Возьмем знаменитый сонет Ронсара из цикла «Любовь к Елене». Его не раз переводили за последнее пятидесятилетие. По своей мягкой силе и поистине колдовскому звучанию он близок современному восприятию, и время не стерло его ярких красок:
Quand vous serez bien vieille, au soir, k la chandelle,
Assis auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant:
«Ronsard me célébrait du tempt que jetais belle» и т. д.
Теперь обратимся к тщательно сделанному подстрочнику: «Когда вы будете совсем старой, вечером, при свече,/ Сидя у огня, над пряжей или сматывая клубок,/ Скажете, прочтя нараспев мои стихи и изумившись:/ «Ронсар меня воспел в те времена, когда я была прекрасна!»/ Тогда при вас не будет даже служанки, чтобы, услышав эту новость,/ Наполовину задремавшая после дневной работы,/ Она пробудилась при звуке моего имени,/ И благословила ваше имя бессмертной хвалою./ Я буду под землей и призраком без костей,/ Под сенью миртовой вкушающим свой покой,/ А вы у очага сгорбленной старушкой,/ Сожалеющей о своей любви, о вашем горделивом пренебрежении./ Живите! Верьте мне, не ждите завтрашнего дня,/ Срывайте нынче же цветущие розы жизни!»
Этот сонет, кажется, впервые был переведен на русский язык в двадцатых годах С.В. Шервинским. Вот его перевод:
Когда уж старенькой, со свечкой, перед жаром
Вы будете сучить и прясть в вечерний час, —
Пропев мои стихи, вы скажете, дивясь:
«Я в юности была прославлена Ронсаром!»
Тогда последняя служанка в доме старом,
Полузаснувшая, день долгий натрудясь,
При имени моем согнав дремоту с глаз,
Бессмертною хвалой вас окружит недаром.
Я буду под землей и — призрак без кости —
Смогу под сенью мирт покой свой обрести, —
Близ углей будете старушкой вы согбенной
Жалеть, что я любил, что горд был ваш отказ...
Живите, верьте мне, ловите каждый час,
Роз жизни тотчас же срывайте цвет мгновенный.
В 1946 году появился сборник переводов из Ронсара Вильгельма Левика. В одной из московских газет это событие было отмечено заметкой В. Финка, который просто захлебывался от восторга, превознося новые переводы и попутно издевательски цитируя некоторые шероховатые строки переводов Шервинского. Посмотрим теперь, как же перевел этот сонет Левик:
Когда, старушкою, ты будешь прясть одна,
В тиши у камелька свой вечер коротая,
Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая:
«Ронсар меня воспел в былые времена».
И, гордым именем моим поражена,
Тебя благословит прислужница любая, —
Стряхнув вечерний сон, усталость забывая,
Бессмертную хвалу провозгласит она.
Я буду средь долин, где нежатся поэты,
Страстей забвенье пить из волн холодной Леты,
Ты будешь у огня, в бессоннице ночной,
Тоскуя, вспоминать моей любви моленья.
Не презирай любовь! Живи, лови мгновенья
И розы бытия спеши срывать весной.
Приведем сразу же и еще один перевод, принадлежащий Илье Эренбургу, писателю и поэту, которому, как мы знаем, особенно дорога и близка была французская культура:
Старухой после медленного дня,
Над пряжей, позабывши о работе,
Вы нараспев стихи мои прочтете:
Ронсар в дни юности любил меня.
Служанка, голову от сна клоня
И думая лишь о своей заботе,
На миг очнется. Именем моим вспугнете
Вы двух старух у зимнего огня.
Окликнете — ответить не сумею;
Я буду мертвым, под землей истлею.
И, старая, вы скажете, грустя:
«Зачем его любовь я отвергала?»
Вот роза расцветает, час спустя
Ее не будет — доцвела, опала»
На наш взгляд, наиболее близок к оригиналу перевод Шервинского. Большинство строк им переданы почти буквально. Впрочем, каждый переводчик, сохраняя то, что ему кажется наиболее драгоценным у автора, неизбежно идет на отдельные жертвы. У Шервинского полнее, чем у других, сохранен ритмический узор Ронсара — звучание стиха, создающее общее настроение. Затем Шервинский бережно доносит до своего читателя все реалии авторского текста. Читатель, знакомый с оригиналом и любящий Ронсара, думается, без колебаний предпочтет именно этот перевод. Его портят лишь некоторые стилистические шероховатости. «Перед жаром» — неясно и не по-русски. «Пропев мои стихи» — буквально точно, но опять-таки не по-русски. У нас стихи не поют, — по крайней мере до тех пор, пока они не стали романсами, положенными на музыку. «Окружить хвалой» и «призрак без кости» тоже трудно отнести к удачам переводчика, да и быть старушкой «близ углей» вряд ли возможно. Старушка, как это ни горько, останется старушкой повсюду.
Именно поэтому гладкопись Левика при первом прочтении усваивается легче, но за эту легкость уплачено слишком дорого. Бесследно утрачена ронсаровская мелодика. Не может быть ничем оправдана чересчур свободная интерпретация гениального текста. В первом катрене мы спотыкаемся на тавтологии — «строфу споешь» и «Ронсар воспел», а уж дальше ... Откуда взял Левик долины, «где нежатся поэты»? Парадиз, где покойники уподоблены разжиревшим котам, — образ вовсе не свойственный Ронсару. «Бессонницу ночную», «тоскуя, вспоминать», «гордым именем моим» — все это целиком принадлежит переводчику. У автора никто не пьет, да еще «страстей забвенье», и о волнах Леты нет ни слова, да и большинство остальных эпитетов использовано столь же произвольно. «Гордое» у поэта не имя, а пренебрежение красавицы.
В оправдание Левика лишь скажем, что перевод Эренбурга куда слабее. И не только потому, что его звучание отстоит еще дальше от оригинала: в нем столько «отсебятин» и неоправданных вольностей, что это скорее стихи «на тему», нежели перевод. Обратим внимание читателя и на то, что, по Эренбургу, поэт не видит для своего имени более достойной перспективы как стать пугалом для старух в грядущих веках! («Именем моим вспугнете»). По сравнению с мизером ее судьбы блекнет даже неудобопроизносимость такой глагольной формы будущего времени 2-го лица множественного числа, как вспугивать.
Бросается в глаза странное единство всех трех переводчиков, выразившееся в их неспособности подсчитать количество старушек, действующих в стихотворении. В нем всего одна старуха символизирует безрадостное будущее Елены. Этим именно Ронсар и подчеркивает столь важное для него обстоятельство — грядущее одиночество его возлюбленной. Он четко и определенно говорит Елене, что она переживет его и станет коротать свои старческие дни в таком уединении, что с ней рядом не будет даже и одной служанки, с которой она могла бы делиться своими воспоминаниями.
Все переводчики наперебой смягчают эту безрадостную картину. У Шервинского действует «последняя служанка в доме старом». Эренбург запутался еще больше с подсчетом старух. У него «служанка на миг очнется», но служанка может и не быть старухой, а далее следует: «именем моим вспугнете (!) вы двух старух» — (ух!). Итого: сама Елена — старая, раз, служанка неизвестного возраста — два, и еще две неизвестно чем испуганные старухи — всего четверо. Не много ли?
Левик искусно старается избежать непосильной арифметической ловушки. «Ты будешь прясть одна», — говорит он и тотчас же «тебя благословит прислужница любая». Видимо, переводчик намекает на дом, полный прислуги. А как же одна? Что же у них в эпоху феодализма слуг за людей не считали?.. Увы, в эпоху феодализма и с арифметикой, и со старухами все было правильно, чего нельзя сказать о хозяйстве отечественного переводчика.
В конце концов дело не в этом. А в том, что Шервинский в своем переводе полнее и лучше других передает дух и атмосферу оригинала. Можно ли было избавиться от шероховатостей? Вероятно, можно. Впрочем, и в этом случае мы вряд ли получили бы русское стихотворение, адекватное гениальному сонету.
Позволим себе предложить читателю еще вариант, вовсе не настаивая, впрочем, на его особых преимуществах:
Когда уж старенькой, под вечер, у огня,
Вы, сидя при свече и свой клубок мотая,
Мой стих прочтете вдруг, себя же изумляя:
«В дни юности моей, Ронсар воспел меня!»
Служанки даже, на исходе дня,
Не будет подле вас, чтоб тихо засыпая,
Устав от дел дневных, очнуться, восклицая,
При имени моем, хвалой вас осеня.
Бесплотным призраком я стану под землей,
Кто в миртовой тени покой вкушает свой,
А вы у очага старушкою согбенной,
Жалеть, что я любил, что горд был ваш отказ,
Живите, верьте мне, цените каждый час,
И вашей жизни роз срывайте цвет мгновенный!
Здесь сохранены почти все интонации и реалии оригинала, последние четыре строки, в сущности, полностью заимствованы у Шервинского. Нам кажется, что они настолько безукоризненно точно воспроизводят подлинник средствами русского языка, что существенно улучшить их вряд ли возможно. Зато некоторые Шероховатости, допущенные Шервинским, сглажены. Впрочем, не будем скрывать — это достигнуто опять-таки ценой еще одной жертвы. «Поскольку вообще может идти речь о точности передачи и в стихотворном переводе, я старался быть верным слугой своего подлинника, — писал в предисловии к своему сборнику С.В. Шервинский, — сохраняя строфическую композицию, расположение мужских и женских рифм, а по возможности и иные илистические моменты». Вот именно чередование мужских и венских рифм мы и нарушили, стараясь внести исправления в его перевод. И Шервинский, строго научно подходивший к проблеме поэтического перевода, вряд ли простил бы нам это.
И все же, будем мы соблюдать это чередование или нет, самое печальное, что ни в одном из переведенных сонетов уже не струится горячая кровь, не бьется порывистыми толчками сердце бессмертного Ронсара. Все русские переводчики забывают завет Буало, касающийся сонета как формы вообще:
Запретен слабый стих в сонете навсегда,
И слово дважды в нем не смеет повториться.
Впрочем, и у самого Ронсара близко повторено слово «имя» (mon nom, votre nom). Правда, уж он-то никак не виноват, если «Искусство поэзии» осталось им непрочитанным, так как оно было написано Буало через 90 лет после его смерти, в 1674 году.
Пытаясь «улучшить» перевод Шервинского, мы злоупотребили однообразными глагольными рифмами (мотая, изумляя, засыпая, восклицая), сильно ослабив этим ткань стихотворения.
Но только ли в этом дело? Что-то случилось с сонетом и другое в процессе его перевода. Что именно? Бережно и тщательно передавая в иноязычном тексте все оттенки содержания, все реалии чудесного оригинала, мы, по окончании, испытываем странное чувство неудовлетворенности и признаемся самим себе в своем банкротстве. За пределами перевода осталось нечто весьма существенное. На каком-то этапе была безвозвратно упущена синяя птица поэзии, которая приводит в такое восхищение в творении Ронсара. Когда и почему это произошло?
О чем поведал поэт? Его возлюбленная пренебрегла им. Она противопоставила его домогательствам свой гордый, отчужденный и, вероятно, несколько даже презрительный отказ. А что же он? Сохраняя «свое лицо», он бросает ей вдогонку: «Придет время — пожалеешь! Пожалеешь, да поздно будет. Не сейчас, так в старости все равно пожалеешь...»
Простите, что за ерунда. Нам-то с вами, читатель, что за дело до такой банальнейшей ситуации, повторявшейся в веках и повторяющейся ныне повсюду и постоянно? Что может в ней взволновать нас, вызвать наше сочувствие, наше сопереживание?
Да, речь идет, конечно же, не о том: не скудная информация об элементарном конфликте между поэтом и его возлюбленной вызывает спустя четыре столетия трепетный отклик наших сердец.
Так ли мы прочитали, так ли поняли стихотворение?
Нет, не рядовому любовному приключению посвящено оно. В нем говорится о времени, о вечно загадочном и таинственном потоке времени. И первое слово сонета, так буквально передаваемое русскими переводчиками словом когда, вовсе не только «когда» в его семантическом значении. Оно именно Quand и только Quand. Это же первый удар колокола — «глагол времен, металла звон» — вот это что. И под этот колокольный перезвон поэтический гений Ронсара прозревает грядущее. Он, гордый повелитель слов, сообщающий каждому из них частицу своего бессмертия, знает: возлюбленная войдет с ним вместе в Пантеон, потому что он так хочет и это может. Она войдет как покорившаяся и влюбленная, или как презревшая и оттолкнувшая, но войдет. Войдет уже тогда, когда он завершит свой путь, а она, в пугающей близости последнего земного порога вспомнит, поймет и будет поражена сиянием той незаслуженной славы, которой он щедро венчает ее сегодня. Вот как великолепно отмщает ей Ронсар ... Месть гения и настоящего поэта!
Теперь склоним головы и признаемся в своем бессилии передать русскому читателю что-либо сверх бледного отзвука могучего аккорда, взятого Ронсаром. Отзвук — не более того. Ни в каком переводе мы не сумеем сохранить негромкий и печальный перезвон пронизывающих весь сонет этих quand, dévidant, filant, chantant, émerveillant, temps, oyant, sommeillant, bénissant, regrettant и перемежающихся с ними ударов вторящих им колоколов меньшего калибра с их bien, dédain à demain.
Л-ра: Русская речь. – 1994. – № 4. – С. 20-28.
Произведения
Критика