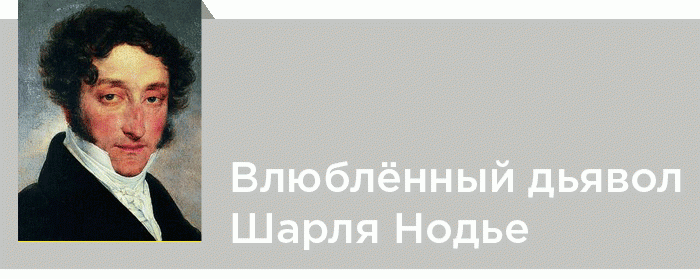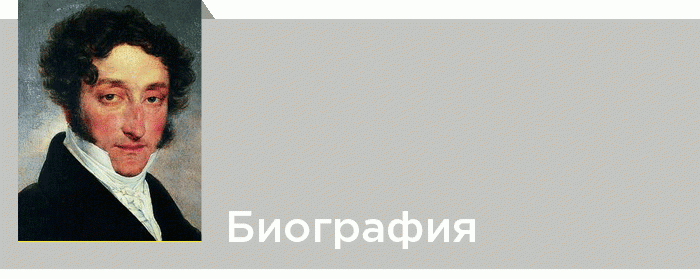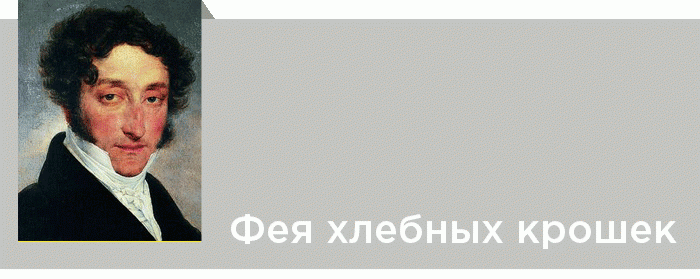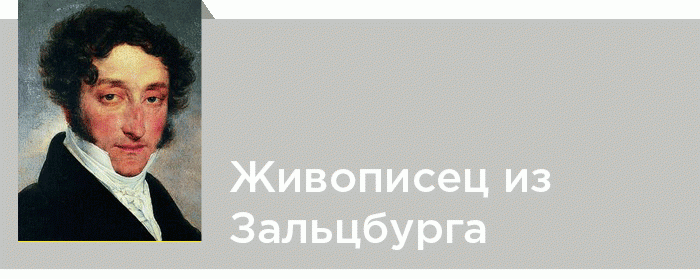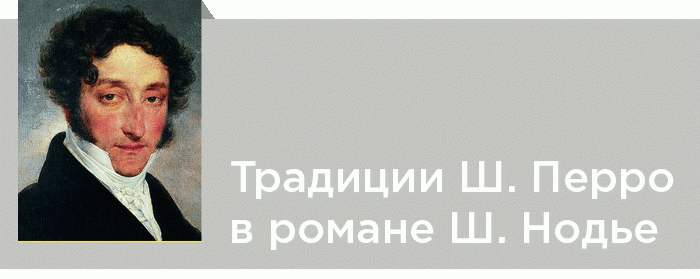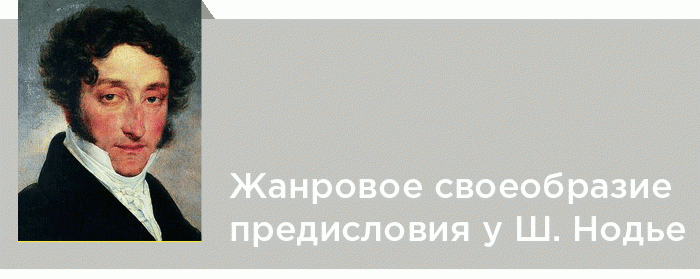Шарль Нодье. Трильби
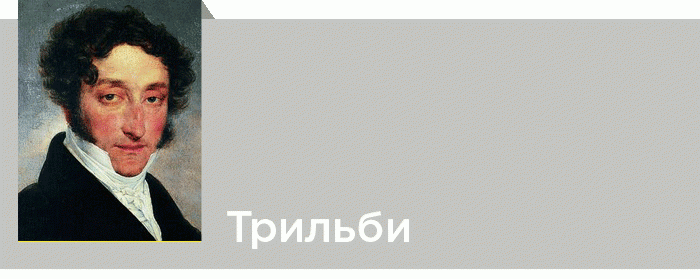
(Отрывок)
Все вы, милые друзья, слыхали о «дроу», населяющих Фулу, и об эльфах или домовых Шотландии, и все вы знаете, что вряд ли в этих странах найдется хоть один деревенский домик, среди обитателей которого не было бы своего домашнего духа. Впрочем, он скорее лукавый, чем злой, и скорее шаловливый, чем лукавый, иногда чудаковатый и своенравный, часто кроткий и услужливый, — у него все хорошие качества и все недостатки невоспитанного ребенка. Он редко посещает жилища знатных господ и богатые фермы, где много работников; ему суждено вести более скромное существование, и его таинственная жизнь связана с хижиной пастуха и дровосека. Там, в тысячу раз более веселый, чем праздные любимцы фортуны, он развлекается тем, что досаждает старухам, злословящим о нем в долгие зимние вечера, или смущает покой девушек непонятными, но милыми снами. Больше всего ему нравится в хлевах: он любит ночью доить деревенских коров и овец, чтобы насладиться приятным изумлением вставших до рассвета пастушек, когда они приходят на заре и не могут понять, каким это образом крынки, аккуратно поставленные в ряд, так рано наполнились до краев пенистым и вкусным молоком. Лошади радостно ржут, когда он гарцует на них, а он перебирает кольца их длинной, разлетающейся по ветру гривы, до блеска чистит их шелковистую спину или моет кристально чистой водой их стройные, мускулистые ноги. Зимой он предпочитает греться у домашнего очага, на покрытых сажей выступах трубы, где он ютится в трещинах стены, рядом со звучной келейкой сверчка. Сколько раз случалось видеть, как Трильби, милый дух хижины Дугала, в своем огненном колпачке, с развевающимся дымчатым пледом, прыгал по краю камней, потрескавшихся от жара, как он старался схватить на лету искры, разлетавшиеся от горящих поленьев и сверкающими снопами поднимавшиеся над очагом. Трильби был самый юный, самый любезный, самый прелестный из домашних духов. Даже если бы вы проехали по всей Шотландии, от устья Сольуэя до пролива Пентленд, вы не нашли бы ни одного, который мог бы сравниться с ним находчивостью и милым нравом. О нем рассказывали только приятные вещи, и повсюду шла молва о его остроумных причудах. Владелицы замков Аргайля и Ленокса все были так влюблены в него, что многие умирали с досады оттого, что эльф, очаровавший их во сне, не хочет поселиться у них; и старый лендлорд Люты, чтобы подарить его своей супруге, пожертвовал бы даже заржавленным мечом Арчибальда, сохранившимся еще со времен готов и украшавшим оружейный зал его замка. Но Трильби и не думал о мече Арчибальда, о дворцах и их владельцах. Он не покинул бы хижины Дугала даже за целое царство, потому что был влюблен в чернокудрую Джанни, задорную лодочницу с Красивого озера, и время от времени пользовался отсутствием рыбака, чтобы рассказать ей о своих чувствах. Когда Джанни, возвращаясь с озера, видела, как челнок ее мужа скрывается вдали, взяв неправильный курс, заходит в глубокую бухту, прячется за далеко выступающий мыс и его блуждающий огонек бледнеет в озерном тумане, а с ним вместе исчезает и надежда на удачный улов, она с порога хижины еще раз всматривалась вдаль, затем, вздохнув, входила, раздувала угли, побелевшие под золой, и в руках ее начинало плясать ракитовое веретено, а она напевала песню святого Дунстана или балладу о д'аберфойльском привидении, и как только ее отяжелевшие от дремоты веки начинали опускаться на усталые глаза, Трильби, ободренный тем, что его любимая заснула, легко выскакивал из своей щелки, с детской радостью прыгал в пламя, разбрасывая вокруг себя огненные блестки, приближался, робея, к уснувшей пряхе и порой, ободренный ровным дыханием ее уст, подлетал, отскакивал назад, возвращался, бросался к ее коленям, касаясь их, словно ночная бабочка, неслышным биением своих невидимых крыльев, ласкал ее щеки, катался в ее кудрях, невесомый, повисал на продетых в ее уши золотых кольцах или укладывался у нее на груди и шептал нежнее вздоха легкого ветерка, замирающего на листке осины:
— Джанни, красотка Джанни, послушай хоть минутку своего дружка, который любит тебя и плачет от любви, потому что ты не отвечаешь на его нежность. Пожалей Трильби, бедняжку Трильби. Я дух вашей хижины. Это я, Джанни, красотка Джанни, ухаживаю за твоим любимым барашком и так долго глажу его шерсть, что она начинает блестеть, как шелк и серебро. Это я, чтобы рукам твоим было легче, несу тяжесть твоих весел и отталкиваю в даль волну, которой ты едва касаешься ими. Это я поддерживаю твою лодку, когда она кренится под напором ветра, и направляю ее к берегу по движению прилива, как по пологому склону. Голубые рыбы озер Длинного и Красивого, те, что плавают у причалов во время отлива, — спинки их в лучах солнца горят, как ослепительные сапфиры, — это я принес их из далеких морей Японии, чтобы они радовали глазки твоей первой дочурки, когда она будет тянуться к ним, вырываясь у тебя из рук, следя за их ловкими, быстрыми движениями и разноцветными отблесками их сверкающей чешуи. Цветы, которые ты поздней осенью находишь по утрам на своем пути, — это я краду их с очарованных лугов, о существовании которых ты даже не подозреваешь, а если бы я захотел, я мог бы найти себе там радостное жилище и спать на постели из бархатистого мха там, где никогда не бывает снега, или в благовонной чашечке розы, увядающей только затем, чтобы уступить место розам еще более прекрасным. Когда ты вдыхаешь аромат пахучей травы, сорванной тобою на скале, и чувствуешь, как твоих губ вдруг словно коснулось крылышко пролетающей пчелы, знай, что это я поцеловал их на лету. Твои любимые сны, те, в которых ты видишь ребенка, ласкающего тебя так нежно, — это я их тебе посылаю, и я — тот ребенок, которого в сладостных грезах ты целуешь по ночам в горячие уста. О, дозволь осуществиться счастью наших снов! Джанни, красотка Джанни, прелестное очарование моих дум, предмет забот и надежд, волнений и восторга, пожалей бедного Трильби, полюби хоть немного эльфа хижины!
Джанни любила игры эльфа, его ласковую лесть и те невинно-сладостные грезы, которые он посылал ей во сне. Ей давно уже нравилось это наваждение, но она не признавалась в том Дугалу, хотя милое личико и жалобный голосок духа очага часто всплывали в ее мыслях во время того зыбкого перехода от сна к пробуждению, когда сердце невольно вспоминает впечатления, которые оно гонит от себя днем. Ей чудилось, что Трильби проскользнул в складки ее полога, что он стонет и плачет у нее на подушке. Порой ей казалось даже, что она чувствует прикосновение беспокойной руки и жар горячих уст. Наконец она пожаловалась Дугалу на настойчивость влюбленного эльфа, который был известен и самому рыбаку: ведь этот лукавый соперник сто раз зацеплял его крючок или привязывал петли его сети к коварным водорослям озера. Дугал не раз видел, как он, приняв образ огромной рыбы, лениво плавал у его лодки, обманывая его надежды на ночной улов, а потом, нырнув, исчезал, превращался в муху или бабочку и, коснувшись крылом поверхности озера, скрывался на берегу в полях, среди густой люцерны. Так Трильби обманывал Дугала, надолго задерживая его возвращение домой.
Представьте себе, как рассердился Трильби, как он встревожился и испугался, когда Джанни, сидя у очага, стала рассказывать мужу о соблазнах лукавого эльфа. Горящие поленья разбрасывали белое пламя, которое плясало перед ними, не касаясь их, угли сверкали яркими искрами, а эльф катался в пылающей золе так, что она крутилась вокруг него горячим вихрем.
— Ладно же, — сказал рыбак, — сегодня вечером я встретил старого Рональда, столетнего монаха из Бальвы; он свободно читает церковные книги и не простил аргайльским эльфам того, что они в прошлом году натворили на монастырском дворе. Он один может избавить нас от этого проказника Трильби и загнать его в скалы Инисфайля, откуда к нам приходят эти злые духи.
Еще не рассвело, когда отшельника призвали в хижину Дугала. Все время, пока солнце освещало горизонт, он провел в размышлениях и молитвах, целуя святые реликвии и перелистывая требник и клавикул.[3] Потом, когда уже совсем спустилась ночь и духи, рассеянные в пространстве, вернулись в свои одинокие жилища, он встал на колени перед горящим очагом, бросил в него несколько веточек освященного остролиста, которые с треском запылали, внимательно прислушался к меланхолическому пению сверчка, предчувствовавшего потерю своего друга, и узнал Трильби по его вздохам. Джанни только что вошла в хижину.
Тогда старый монах встал и грозным голосом трижды произнес имя Трильби.
— Заклинаю тебя, — сказал он ему, — силой, данною мне моим саном, выйти из хижины рыбака Дугала, когда я в третий раз пропою молитву пресвятой деве. Так как ты, Трильби, до сих пор никогда еще не совершал тяжких проступков и даже слыл в Аргайле духом беззлобным; так как мне известно из тайных книг Соломона, знанием которых особенно славится наш Бальвский монастырь, что ты принадлежишь к таинственному роду, чья будущая судьба еще не начертана непреложно, и тайна твоего спасения или проклятия еще скрыта в промысле господнем, я не стану выносить тебе более суровый приговор. Но помни, Трильби, что я заклинаю тебя силою, данною мне моим саном, выйти из хижины рыбака Дугала, когда я в третий раз пропою молитву пресвятой деве!
И старый монах спел в первый раз, и ему вторили Дугал и Джанни, чье сердце затрепетало в мучительном волнении. Она жалела уже о том, что рассказала мужу о робкой любви эльфа, а теперь, когда изгоняли привычного обитателя очага, она поняла, что была привязана к нему больше, чем ей казалось до сих пор.
Старый монах вновь трижды повторил имя Трильби.
— Заклинаю тебя, — сказал он ему, — выйти из хижины рыбака Дугала, а чтобы ты не надеялся увильнуть, исказив смысл моих слов, — ведь я не со вчерашнего дня знаю ваше лукавство, — объявляю тебе, что этот приговор непреложен вовеки…
— Увы, — прошептала Джанни.
— Если только, — продолжал старый монах, — Джанни не позволит тебе вернуться.
Внимание Джанни удвоилось.
— И сам Дугал не позовет тебя сюда.
— Увы! — повторила Джанни.
— И помни, Трильби, что я заклинаю тебя силой, данною мне святым причастием, уйти из хижины рыбака Дугала, когда я еще два раза пропою молитву пресвятой деве.
И старый монах пропел во второй раз, и ему вторили Дугал и Джанни, которая произносила ответные слова чуть слышно, опустив голову, полузакрыв черными кудрями свое лицо, потому что сердце ее теснили подавленные рыдания, а сдерживаемые слезы туманили глаза. «Трильби не из проклятого рода, — думала она, — сам монах только что признал это; он любил меня так же невинно, как мой барашек, он не мог жить без меня. Что станет с ним, если его лишат единственного счастья, которым он наслаждался по вечерам? Разве уж это так дурно, если в сумерки бедный Трильби играл моим веретеном, когда, засыпая, я роняла его на пол, или катался в шерсти, которой я перед тем касалась руками, и покрывал ее поцелуями».
Но старый монах, еще трижды назвав имя Трильби, снова в том же порядке произнес те же слова.
— Заклинаю тебя, — сказал он, — силой, данною мне моим саном, уйти из хижины рыбака Дугала, когда я еще раз пропою молитву пресвятой деве, и запрещаю тебе туда возвращаться, если только не будут выполнены те условия, которые я сейчас назначил.
Джанни закрыла глаза рукой.
— И знай: если ты не покоришься, я накажу тебя так, что ужаснутся все тебе подобные! Я заключу тебя на тысячу лет, непослушный и злокозненный дух, в ствол сучковатой и крепкой березы на кладбище!
— Несчастный Трильби! — проговорила Джанни.
— Клянусь в том моим великим богом, — продолжал монах, — и так оно и будет.
И он спел в третий раз, и Дугал вторил ему. Джанни молчала. Она опустилась на каменный выступ очага, а монах и Дугал приписали это волнению, естественно вызванному такой внушительной церемонией. Ответные слова прозвучали в последний раз; пламя в очаге побледнело; голубой огонек пробежал по потухшим углям и исчез. В трубе раздался протяжный крик. Эльфа больше не было.
— Где Трильби? — спросила Джанни, приходя в себя.
— Улетел! — с гордостью ответил монах.
— Улетел! — воскликнула она с таким выражением, в котором ему послышались восхищение и радость. Священные книги Соломона не открыли ему этой тайны.
Едва лишь Трильби скрылся за порог хижины Дугала, Джанни с горечью почувствовала, что с его исчезновением домик совсем опустел. Никто уже не слушал песен, которые она распевала по вечерам за работой, и она, уверенная в том, что лишь бесчувственным стенам приносит в дар свои припевы, пела теперь только по рассеянности или в те редкие минуты, когда ей думалось, что Трильби, более могущественный, чем клавикул и требник, рассеял, быть может, заклинания старого монаха и обошел суровые приказы Соломона. Тогда, устремив взор на огонь, она старалась различить среди причудливых узоров, образованных темной золой среди ослепительной груды горящих углей, те черты, которыми ее воображение наделило Трильби, но видела только расплывчатую и безжизненную тень, нарушавшую то здесь, то там этот сплошной красный блеск и исчезавшую при малейшем движении пучка сухого вереска, которым Джанни взмахивала перед очагом, чтобы раздуть огонь. Она роняла свое веретено, выпускала из рук нить, но Трильби уже не гнал веретено перед собой, как бы для того, чтобы стащить его у хозяйки, счастливый тем, что он подкатит его обратно и, как только Джанни снова возьмется за нить, поднимется по ней к ее руке, коснется ее беглым поцелуем, а затем так быстро спустится, ускользнет и исчезнет, что Джанни никогда не успеет испугаться и подосадовать на него. Боже! Как все теперь изменилось! Какие длинные стали вечера и как грустно на сердце у Джанни!
Ночи потеряли для Джанни свою прелесть, как и вся ее жизнь, и теперь они еще больше омрачались тайной мыслью о том, что Трильби, с радостью принятый владелицами замков Аргайля, живет там в покое и ласке, не боясь их надменных мужей. Какое унизительное для хижины на Красивом озере сравнение, должно быть, ежеминутно представляется ему в те прелестные вечера, которые он проводит под сенью великолепных каминов, где черные колонны из стаффского камня поднимаются над серебристым фиркинским мрамором к сводам, сверкающим тысячецветным хрусталем! Далеко простоте убогого очага Дугала до такого великолепия! И это сравнение становилось еще тягостнее для Джанни, когда она воображала себе своих знатных соперниц, собравшихся у камина, где горит дорогое ароматное дерево, наполняющее благоуханием полюбившийся эльфу дворец, когда она мысленно разбирала все подробности их нарядов, их платьев из ярких клетчатых тканей, красоту изысканных перьев птармигана и цапли, их искусные прически и когда ей казалось, что она слышит в воздухе пение их голосов, сливающихся в прелестной гармонии.
— Несчастная Джанни, — говорила она, — а ты еще думала, что умеешь петь! Но даже если бы голос твой был нежнее голоса морской девы, которую рыбаки слышат иногда по утрам, что ты сделала, Джанни, чтобы он вспоминал о твоем голосе? Ты пела так, как будто его и не было здесь, как будто только эхо слушало тебя, а все эти кокетки поют лишь для него, и у них перед тобою столько преимуществ: богатство, знатность, быть может даже и красота! Ты смугла, Джанни, потому что лицо твое, всегда открытое перед сверкающей поверхностью вод, не боится горячего летнего неба. Посмотри на свои руки: они гибки и мускулисты, но им не хватает нежности и белизны. Твои волосы, быть может, не очень красивы, хотя, когда ты распускаешь их на свежем ветерке озера, они рассыпаются по твоим плечам черными длинными, роскошными кудрями; но он так редко видел меня на озере, и не забыл ли он уже, что видел меня?
Преследуемая этими мыслями, Джанни засыпала гораздо позже обычного и не могла даже насладиться сном, потому что от тревоги, терзавшей ее наяву, она переходила тут к новым волнениям. Трильби уже не снился ей в фантастическом образе грациозного карлика очага. Вместо этого капризного ребенка перед ней являлся теперь светлокудрый отрок, чей стройный, исполненный изящества стан мог соперничать в гибкости с высоким прибрежным тростником; у него были тонкие и нежные черты эльфа и вместе с тем мужественный облик вождя клана Мак-Фарланов, того, который взбирался на Коблер, потрясая грозным охотничьим луком, или блуждал по аргайльским лугам, порой бряцая на струнах шотландской арфы; таким, наверное, был последний из этих знатных господ, внезапно исчезнувший из своего замка после того, как его предали анафеме святые отцы Бальвы за то, что он, нарушив древний обычай, отказался платить дань их обители. Но только взгляд Трильби уже не был теперь таким искренним и не выражал больше простодушного доверия, полного счастья. Невинно-шаловливая улыбка не порхала больше на его устах. Он печально смотрел на Джанни, тяжело вздыхал, гладил ее кудри или обволакивал ее длинными складками своего плаща; потом исчезал в неясной ночной тени. Сердце Джанни оставалось чистым, но она страдала при мысли, что была единственной причиной несчастья очаровательного существа, которое ничем ее не обидело и чьей наивной нежности она слишком быстро испугалась. В обманчивых видениях ее снов ей грезилось, что она зовет эльфа, велит ему вернуться и он с благодарностью бросается к ее ногам, покрывая их поцелуями и слезами. Потом, глядя на эльфа в его новом образе, она понимала, что теперь ее чувство к нему было бы преступно, и оплакивала его изгнание, не смея желать, чтобы он вернулся.
Так проходили ночи Джанни с тех пор, как исчез дух хижины, и сердце ее, омраченное справедливым раскаянием или непреодолимым влечением, беспрестанно сдерживаемым, но всегда побеждающим, не оставляла тоскливая забота, нарушавшая покой ее домашнего очага. Сам Дугал тоже стал тревожиться и задумываться. У хижин, где водятся эльфы, есть свои привилегии. В них ни за что не ударит молния во время грозы, и они не боятся пожаров, потому что внимательный домовой никогда не забывает, как только все уснут, сделать ночной обход гостеприимного жилища, укрывающего его от зимних холодов. Он заделывает на крыше просветы в соломе, разбросанной упрямым ветром, или укрепляет дверь в расшатанных бурей петлях. Вынужденный поддерживать для себя приятное тепло очага, он время от времени разгребает накопившуюся золу; легким дыханием он раздувает искру, пламя которой понемногу распространяется по углям, уже готовым погаснуть, и в конце концов охватывает всю их темную поверхность. Чтобы согреться, ему большего и не нужно, но он щедро платит за это благодеяние, наблюдая за тем, чтобы выпавший из очага уголек не разгорелся во время беззаботного сна хозяев; он вопрошает взглядом все закоулки жилья, все щели старинного камина; он ворошит сено в яслях, солому подстилки, и его заботы не ограничиваются уходом за скотиной: он покровительствует также мирным жителям птичьего двора, тем, кому провидение, оставив их без оружия защиты, дало в удел только жалобные крики. Кровожадную дикую кошку, которая спускается с гор, неслышно ступая, едва касаясь лапами мягкого мха, сдерживая свое тигриное мяуканье и пряча горящие глаза, что сверкают словно блуждающие огни; бродячую куницу, которая внезапно падает на свою жертву, хватает ее не поранив и, как обольстительница, заключает в свои нежные объятия, опьяняя ее дурманящим запахом, а затем запечатлевает на ее шее смертельный поцелуй; даже и лисицу часто находили мертвой возле мирного гнезда с новорожденными птенцами, в то время как их мать, сидя неподвижно, спала, спрятав голову под крыло, видя во сне свой счастливый выводок, дружно вылупившийся из яиц, из которых не пропало ни одно.
Достатку Дугала сильно помогала и ловля тех красивых голубых рыб, что попадались только в его сети; а с тех пор, как пропал Трильби, исчезли и голубые рыбы. Вот почему, когда рыбак появлялся на берегу, все дети клана Мак-Фарланов преследовали его криками: «У, противный Дугал! Это ты выловил всех хорошеньких рыбок из озер Длинного и Красивого; они не будут больше прыгать на поверхности воды, притворяясь, будто хватают крючки наших удочек, или застывать в неподвижности, точно голубые цветы, у розовых водорослей возле причалов. А когда мы купаемся, они больше не плавают вокруг нас и не предупреждают нас об опасных течениях, быстро поворачивая в сторону всей своей голубой стайкой». А Дугал продолжал свой путь, ворча себе под нос. Иногда он даже думал: «Быть может, и в самом деле смешно ревновать к домовому; но старый монах из Бальвы смыслит в этом больше меня».
Наконец, Дугал не мог скрыть от себя, как изменился с некоторых пор характер Джанни, еще недавно такой безмятежной и веселой, и когда он пытался припомнить, с какого дня началась ее меланхолия, в памяти его в ту же минуту вставала церемония заклятий и изгнания Трильби. Поразмыслив, он решил, что причиной тревог, докучавших ему в семейной жизни, и неудач, упорно сопутствовавших ему на рыбной ловле, могло быть колдовство, и, не сообщая этой мысли Джанни в таких словах, которые могли бы усилить горечь мучивших ее забот, он понемногу внушил ей желание просить могущественной защиты от преследовавшей его судьбы. Несколько дней спустя в монастыре Бальвы должны были служить торжественный молебен святому Коломбану, к которому молодые женщины той страны обращались за заступничеством чаще, чем к другим святым, потому что он, будучи сам жертвой тайной и несчастной любви, больше других обитателей небесных сфер был снисходителен к скрытым горестям сердца. О чудесах милосердия и любви, совершаемых им, шла молва; Джанни никогда не могла слушать без волнения эти рассказы; в последнее время они часто вставали в ее воображении среди ласкающих надеждой грез. Она тем охотнее согласилась на предложение Дугала, что еще никогда не бывала на плоскогорье Календер и что в этих новых для нее местах она надеялась освободиться от воспоминаний, преследовавших ее у домашнего очага, где все говорило ей о трогательной прелести Трильби и о его невинной любви. Только одно обстоятельство омрачало мысль об этом богомолье: ведь сам старейший из монахов, неумолимый Рональд, заклинания которого навсегда изгнали Трильби из его укромного уединения, должен спуститься из своей отшельнической кельи, чтобы принять участие в торжественной службе по случаю дня святого покровителя монастыря; но Джанни, у которой были слишком веские основания упрекать себя во многих нескромных мыслях и, быть может, даже в преступных чувствах, быстро решилась принять это покаяние и снести горечь его присутствия. Чего же и собиралась она просить у бога, как не того, чтобы он помог ей забыть Трильби, или, вернее, его ложный образ, который она создала себе; и разве могла она питать ненависть к этому старцу, который только снизошел к ее мольбам, заранее наложив на нее покаяние!
«Да и потом, — решила она про себя, не отдавая себе отчета в этом невольном обороте своих мыслей, — Рональду было больше ста лет, когда листья падали в последний раз, и, может быть, его уже нет в живых».
Дугал был не так озабочен, потому что он гораздо точнее знал цель своего путешествия: он рассчитывал, сколько должна принести ему в будущем более умелая ловля этих голубых рыб, которые, как он думал, никогда не должны были перевестись в озере, и, считая, что уже одно только благочестивое намерение посетить гробницу святого настоятеля могло привести этот плавучий народ в мелкие воды залива, он напрасно вглядывался в них, обходя небольшой изгиб в конце Длинного озера, со стороны прелестных берегов Тарбе, очаровательных мест, воспоминание о которых никогда не изгладится в памяти путника, если даже сердце его чуждо тех иллюзий любви, что украшают все страны.
Прошло немного меньше года со дня сурового изгнания эльфа. Зима еще не началась, но лето уже проходило. Листья, схваченные утренними заморозками, скручивались на концах поникших ветвей, и казалось, что их причудливые, букеты, тронутые яркой киноварью или испещренные золотисто-рыжими пятнами, украшают кроны деревьев более свежими цветами и более блестящими фруктами, чем те, которыми наделила их природа. Можно было подумать, что на березах пучками зреют гранаты, а на фоне бледной зелени ясеней висят спелые гроздья и, как бы сами не веря себе, сверкают сквозь тонкое кружево легкой листвы. Есть в этих днях поздней осени нечто необъяснимое, придающее всем чувствам особую значительность. Каждый шаг времени запечатлевает на пустеющих полях или на челе пожелтевших деревьев новый, все более неоспоримый и явный признак умирания. Из глубины лесов как будто раздаются угрожающий шум, треск сухих ветвей, шелест падающих листьев, неясная жалоба хищных зверей, которые, предчувствуя суровую зиму, начинают тревожиться о своих детенышах; шорох, вздохи, стоны, порой похожие на человеческие голоса, поражают слух и сжимают сердца. Даже под сенью храма путник не спасается от преследующих его ощущений. Под сводами старых церквей слышатся те же звуки, что и в чащах старых лесов, когда шаги одинокого прохожего отражают звучное эхо нефа и когда от ветра, проходящего снаружи сквозь щели досок, дребезжит свинец поломанных витражей и странные аккорды сочетаются с глухим скрипом полов под ногой человека. Иной раз точно тоненький голосок юной девы, заточенной в монастырь, вторит величественному гулу органа; и осенью эти впечатления так естественно сливаются, что тут часто может ошибиться даже инстинкт животных. Сколько раз случалось видеть как волки доверчиво бродят среди колонн заброшенной часовни, словно среди белеющих стволов буков; стае легкомысленных птиц безразлично — опуститься ли ей на вершины высоких деревьев или на остроконечную крышу готической колокольни. Завидя ее стройный шпиль, очертания которого напоминают ему родной лес, коршун суживает понемногу орбиту своего кругового полета и опускается на ее острие, как на конец копья, возвышающегося над щитом с трофеями. Эта мысль могла бы рассеять мрачное предчувствие Джанни, когда она вслед за Дугалом подошла к часовне Гленфаллак, куда они направились, потому что здесь должны были собраться богомольцы. И вот она заметила, как ворон с огромными крыльями опустился на древний шпиль и сел там, испустив протяжный крик, выражавший такую тревогу и боль, что Джанни не могла не счесть это за плохое предзнаменование. Она приблизилась, робея, и осмотрелась вокруг, а сердце ее невольно сжалось, в то время как слух испуганно ловил слабый шум волн, несмотря на безветрие разбивавшихся у подножия заброшенного монастыря.
Так, от одних развалин к другим, Дугал и Джанни добрались до берегов узкого озера Каттрин, потому что в те отдаленные времена лодочники попадались реже и богомольцам чаще приходилось останавливаться в дороге. Наконец, после трех дней пути, они увидели вдали сосны Бальвы, темная зелень которых так живописно выделялась на фоне высохшего леса и бледного мха, покрывавшего гору. Над ее бесплодными скалами чернели старые башни монастыря, словно свисая с вершины скалы, откуда они, казалось, устремлялись в бездну, а вдали громоздились флигеля полуразвалившихся строений. С тех пор как святые основали эту обитель, ни одна человеческая рука не прикасалась к ней, чтобы исправить опустошения, причиненные временем, и легенда, распространенная повсюду в народе, гласила, что, когда ее священные развалины исчезнут с лица земли, враг божий на много веков восторжествует в Шотландии и затмит нечестивым мраком чистое сияние веры. Вот почему толпы христиан каждый раз ликовали, убеждаясь, что монастырь по-прежнему имеет величественный вид и может простоять еще долго. Радостные крики, восторженные возгласы, тихий шепот надежды и благодарности сливались тогда в общей молитве. Вот в эту минуту благоговейного и глубокого волнения, вызванного ожиданием или зрелищем чуда, все богомольцы, стоя на коленях, называли в молитве главную цель своего путешествия: жена и дочери Колла Камерона, одного из ближайших соседей Дугала, просили о новых нарядах, которые должны были затмить на будущих праздниках простую красоту Джанни; Дугал — о том, чтобы к нему в сети попали сокровища в драгоценной шкатулке, которая, на его счастье, оказалась бы целой и невредимой в дальнем конце озера; а Джанни — о том, чтобы ей забыть Трильби и не видеть его больше во сне; впрочем, эту молитву она не в силах была вознести от всего сердца и откладывала ее, чтобы еще раз обдумать у подножия алтаря, прежде чем безраздельно доверить ее внимательному слуху святого покровителя.
Богомольцы добрались наконец до паперти древней церкви, где, по обычаю, один из самых старых отшельников ожидал их, чтобы принять приношения и предложить трапезу и ночлег. Еще издали сияющая ясность лика святого старца, его величественная осанка, не изменившаяся с годами, суровость его неподвижной и почти угрожающей позы поразили Джанни воспоминанием о ком-то, кто внушал ей уважение и страх. Отшельник этот был строгий Рональд, столетний монах из Бальвы.
— Я знал, что увижу вас, — сказал он Джанни таким проникновенным голосом, что, если бы бедняжку при всех обвинили в каком-нибудь грехе, она и тогда не смутилась бы сильнее. — И вы также, добрый Дугал, — продолжал он, благословляя рыбака, — вы хорошо сделали, что пришли за милостями бога в дом, принадлежащий ему, и от мучащих вас тайных врагов просите у нас покровительства, которого теперь можно добиться только ценою больших жертв, потому что небо уже утомлено грехами народа.
Говоря это, он провел их в длинную трапезную; остальные богомольцы отдыхали на камнях в преддверии храма или разошлись по многочисленным часовням подземной церкви, следуя каждый своей приверженности тому или иному святому. Рональд перекрестился и сел. Дугал сделал то же самое. Джанни, охваченная непреодолимой тревогой, пыталась обмануть настойчивое ожидание святого отца, рассеянно обводя взглядом все те редкостные предметы, которые впервые представились ее глазам в этом незнакомом месте. Со смутным любопытством смотрела она на огромные древние своды, на величественно поднимавшиеся пилястры, на необычную резьбу и изысканный узор украшений и на множество пыльных портретов в ветхих рамах, развешанных в бесчисленных, обшитых деревом простенках. Джанни до тех пор никогда не бывала в картинной галерее; впервые ее глаза были поражены этим почти живым воспроизведением человеческого лица, в котором по воле художника отразились все жизненные страсти. Она с восхищением созерцала эту вереницу шотландских героев, так не похожих друг на друга ни выражением лиц, ни характером, а их подвижные зрачки, как бы провожавшие все ее движения, казалось неотступно преследовали ее, когда она переходила от одного портрета к другому, одни с волнением бессильного участия и напрасной нежности, другие с злобной угрозой, с проклятием во взгляде. Один из них благодаря малоизвестному в то время сочетанию тонов и красок, казалось, выступал из плоскости полотна, как будто кисть смелого художника предвосхитила его воскресение из мертвых, и Джанни так испугалась при мысли о том, что он сейчас выскочит из своей золотой рамы и, как призрак, пойдет по галерее, что, дрожа, бросилась к Дугалу и в страхе опустилась на скамейку, которую ей подвинул Рональд.
— Вот это, — сказал Рональд, продолжая свою беседу с Дугалом, — благочестивый Магнус Мак-Фарлан, самый щедрый из наших благодетелей, тот, за кого мы возносим больше всего молитв. Возмущенный оскудением веры у своих потомков, грехи которых на многие века продлили муки его души, он преследует их сторонников и сообщников даже из рамы этого чудодейственного портрета. Мне говорили, что едва только друзья последних Мак-Фарланов появлялись в этом зале, как благочестивый Магнус, чтобы отомстить им за преступления их недостойного рода, срывался со своего полотна, на котором художник думал запечатлеть его навеки. Следующие за ним пустые места предназначались для портретов наших угнетателей, но эти стены отвергли их, как отвергло и небо.
— Однако, — сказала Джанни, — последний из этих простенков, кажется, занят… Вот там портрет, в конце галереи, и если бы занавес, который его закрывает…
— Я вам говорил, Дугал, — продолжал монах, не обращая внимания на слова Джанни, — что это портрет Магнуса Мак-Фарлана и что все его потомки осуждены на вечное проклятие.
— Однако, — повторила Джанни, — вот тот портрет в конце галереи, портрет, закрытый занавесом, ведь он не мог бы находиться в этом святом месте, если бы человек, изображенный на нем, тоже был предан вечному проклятию. По расположению остальных портретов галереи видно, что он принадлежит к роду Мак-Фарланов, но в таком случае как же мог один из Мак-Фарланов?..
— Гнев господен имеет свои границы и поражает не всех, — прервал ее Рональд, — значит, у этого молодого человека есть друзья среди святых…
— Он был молод!.. — воскликнула Джанни.
— Ну и что ж из того, — резко возразил Дугал. — Не все ли равно, сколько лет проклятому богом?..
— У проклятых нет друзей на небе, — живо ответила Джанни и бросилась к портрету. Дугал удержал ее. Она села. Богомольцы постепенно входили в зал, и их огромный круг все теснее смыкался вокруг кресла почтенного старца, который, обращаясь к ним, начал свою речь с того места, где он прервал ее.
— Истинно, истинно говорю вам, — повторял он, приложив руки к запрокинутому лбу, — нужны страшные жертвы! Нашими молитвами мы можем призвать покровительство господне только к тем душам, которые просят о нем искренне и, как мы, не знают ни колебаний, ни слабости. Недостаточно бояться наваждения дьявола и молить небо избавить нас от него. Нужно еще проклясть дьявола! Знаете ли вы, что милосердие может оказаться большим грехом?
— Возможно ли? — спросил Дугал.
Джанни повернулась к Рональду и посмотрела на него, немного осмелев.
— Как можем мы, несчастные, сопротивляться врагу, добивающемуся нашей погибели, если мы не обратим против него все средства, которые предоставляет нам религия, всю силу, которую она нам дает? Зачем нам усердно молиться за тех, кто преследует нас, если они беспрестанно возобновляют свои козни и злодеяния? Даже святая власяница и жесткие вериги наших покаяний не защищают нас от чар злого духа; мы страдаем от них так же, как и вы, дети мои, и о жестокости вашей борьбы можем судить по той борьбе, которую ведем мы сами. Неужели вы думаете, что наши бедные монахи прошли такой длинный путь по этой земле, столь богатой наслаждениями, провели жизнь, в которой уделом их были только лишения и тяготы, и их никогда не тянуло к земным радостям и им не приходилось бороться со стремлением к тому преходящему благу, что вы называете счастьем? О, сколько сладостных мечтаний обуревало нас в юности! Сколько преступно тщеславных порывов мучило нас в зрелые годы! Сколько горьких сожалений ускорило появление седины в наших волосах и сколько угрызений совести отягощало бы нас перед ликом нашего господа, если бы мы медлили вооружиться против греховного духа проклятиями и мщением!..
При этих словах старый Рональд сделал знак толпе, и все богомольцы сели в ряд на узкую резную скамью, тянувшуюся вдоль стен вокруг всего зала; а он продолжал.
— Судите о силе наших горестей, — сказал Рональд, — по глубине одиночества, окружающего нас, по бесконечной покинутости, на которую мы обречены. Среди самых жестоких тягот судьбы вам не отказано в утешении и даже в радости. К каждому из вас стремится чья-то душа, каждого из вас понимает чья-то мысль, у каждого из вас есть второе я, связанное воспоминаниями, или выгодой, или надеждой с вашим прошлым, настоящим или будущим. Вы вольны думать о чем вам угодно, идти куда захотите, вы свободны в выборе своих привязанностей, тогда как вся жизнь монаха, вся история отшельника на земле протекают в суровом уединении между порогом церкви и входом в катакомбы. Длинная чреда наших лет, неизменно похожих друг на друга, заканчивается тем, что одну могилу мы меняем на другую и переходим из сонма священников в сонм святых. Разве не должны вы хоть как-нибудь воздать тем, кто, претерпевая такие муки, упорно жертвует собой ради вашего спасения? Так вот, братья мои, узнайте же, до какой степени забота о ваших душах день ото дня отягощает суровость нашего покаяния! Узнайте, что недостаточно было того, чтобы мы, подобно всем остальным людям, испытали власть демонов сердца, которой не может избежать ни один из несчастных сынов Адама. Нет! Даже самые отверженные духи, самые презренные домовые находят злобную радость в том, чтобы смущать краткие минуты нашего отдыха и покой наших келий, так долго остававшийся нерушимым. В особенности некоторые из этих праздных эльфов, от которых с таким трудом и ценою стольких молитв мы избавили ваши жилища, жестоко мстят нам за то, что лишились своей власти благодаря нашим смелым заклинаниям. Изгоняя их из тайного убежища на ваших фермах, мы не называли точно места их изгнания, и поэтому только те дома, откуда мы их удалили, могут не бояться их вторжения. Поверите ли, даже святые места не внушают им уважения, и теперь, когда я говорю с вами, их адский рой ждет только наступления сумерек, чтобы густыми стаями разлететься под монастырскими сводами!
Несколько дней тому назад, в то самое мгновение, когда гроб одного из наших братьев готов был опуститься в глубину погребального склепа, веревки вдруг оборвались со свистом, похожим на пронзительный смех, и рака, падая со ступени на ступень, с грохотом низверглась под своды. Оттуда доносились голоса, похожие на голоса мертвецов, разгневанных тем, что смутили их последний сон; они стонали, возмущались, кричали. Тем из присутствовавших, кто стоял к склепу ближе других и чей взгляд достигал его глубины, чудилось, что приподнимаются могильные плиты, развеваются саваны и скелеты, движимые колдовскою силой духов, неясными группами располагаются на скамьях и их безобразные очертания сливаются с сумраком, царящим в алтаре. И вдруг все огни в церкви… Слушайте!
Толпа теснилась, внимая Рональду. Только Джанни, охваченная одной неотвязною мыслью, играла кольцами своих кудрей и слушала, не вникая в смысл его слов.
— Слушайте, братья мои, и скажите, какой тайный грех, какое предательство, какое убийство, какое прелюбодеяние в мыслях или на деле могло навлечь на нас это бедствие? Все огни в храме погасли. Только факелы послушников разбрасывали беглые искры, которые, то удаляясь, то приближаясь, собирались в зыбкие и тонкие голубые лучи, похожие на волшебные огоньки ведьм, потом поднимались вверх и терялись в темных углах преддверья и часовен. Наконец неугасимая лампада святейшего из святых… Я видел, как пламя ее заколебалось, потемнело и потухло. Потухло! Глубокая ночь, ночь беспросветная, воцарилась во всем храме, на хорах, в алтаре! Святые дары впервые погрузились во мрак ночи! Такая сырая, такая темная ночь, ночь, всегда пугающая нас, но особенно страшная, наводящая необыкновенный ужас под куполом наших церквей, где нам обещан вечный свет!.. Растерянные монахи разбежались по огромному храму, в темноте казавшемуся еще обширнее; стремясь найти узкий выход, позабытый ими, они наталкивались на предательские стены; их жалобные голоса сливались в общий гул, и эхо доносило до их слуха страшный, угрожающий шум, и они в ужасе убегали, думая, что эти крики и стоны исходят от печальных призраков могил, плачущих над своим каменным ложем. Один из них почувствовал, как статуя святого Дунстана шевельнулась, схватила его ледяною рукой и в вечном объятии прижала к себе. Там и нашли его мертвым на следующий день. Самый юный из наших братьев (он прибыл к нам недавно, и мы еще не знали ни его имени, ни из какой он семьи) так крепко обхватил статую молодой святой, надеясь на ее помощь, что свалил ее на себя, и она, падая, придавила его. Это была, как вы знаете, статуя, недавно изваянная одним из искусных мастеров по образу той девы из Лотиана, которая умерла с горя, потому что ее разлучили с женихом. Причина стольких несчастий, — продолжал Рональд, стараясь привлечь неподвижный взгляд Джанни, — быть может, заключается в чьей-нибудь неуместной жалости, в непреднамеренно греховном заступничестве, в одном каком-нибудь грехе, быть может совершенном только в помыслах…
— В одном грехе, совершенном только в помыслах! — воскликнула Клэди, младшая дочь Колла Камерона.
— В одном-единственном! — с нетерпением повторил Рональд.
Джанни, спокойная и рассеянная, даже не вздохнула. Душа ее была захвачена тайной портрета, скрытого занавесом.
— Итак, — сказал Рональд, вставая и вкладывая в свои слова проникновенно-торжественное и властное выражение, — мы назначили этот день, чтобы предать вечному проклятию злых духов Шотландии.
— Вечному проклятию! — со стоном прошептал чей-то замирающий вдали голос.
Да, вечному проклятию, если оно будет произнесено добровольно и единодушно. Если все голоса повторят его, когда оно вознесется перед алтарем.
— Если все голоса вознесут вопль проклятия перед алтарем! — повторил тот же голос. Джанни уходила в конец галереи.
— Тогда все будет кончено, и злые духи навсегда низвергнутся в бездну.
— Да будет так! — проговорил народ и толпой последовал за грозным врагом эльфов. Другие монахи, более робкие или не такие строгие, уклонились от мрачной церемонии этого жестокого обряда, потому что, как мы уже говорили, эльфы Шотландии, по народным верованиям, не осуждались на вечное проклятие и внушали скорее тревогу, чем ненависть; ходили довольно правдоподобные слухи о том, что некоторые из них, не боясь суровых заклинаний, угроз и анафемы, забиралась даже в келью милосердного отшельника или в замурованную нишу святого подвижника. Что до рыбаков и пастухов, то они по большей части могли быть только благодарны домашним духам, так внезапно и безжалостно осужденным: но, плохо помня о прошлых услугах, они охотно разделили гнев Рональда и, не колеблясь, обрекли на изгнание этого неведомого врага, чье присутствие проявлялось только в благодеяниях.
Произведения
Критика