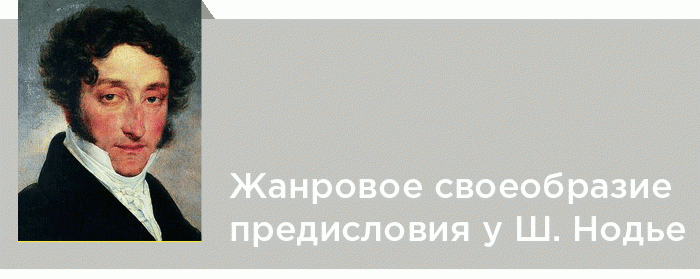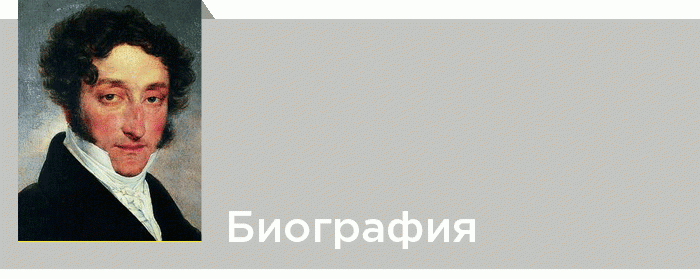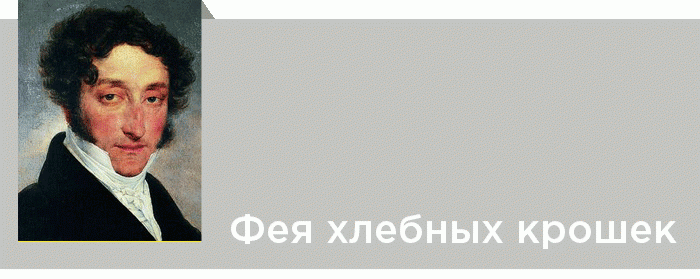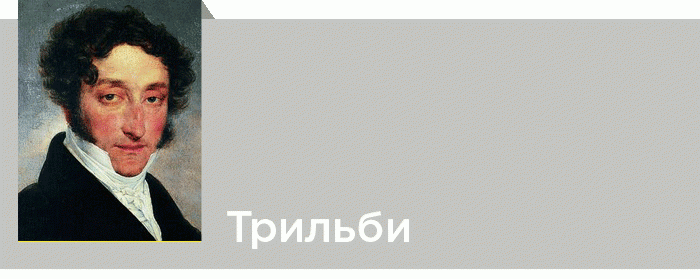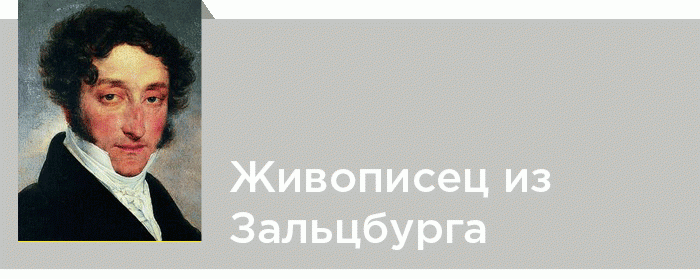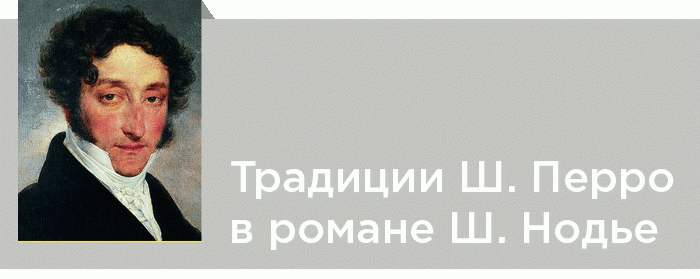Влюблённый дьявол Шарля Нодье (Романтическая повесть-сказка «Трильби»)
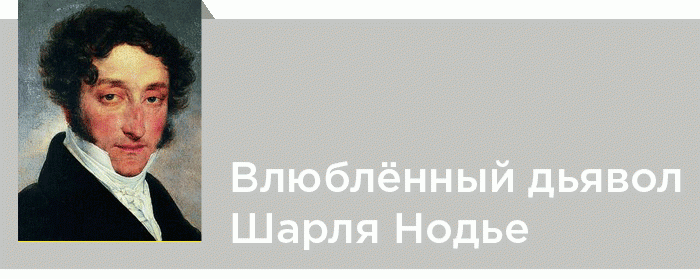
Л. Мироненко
В последние полтора десятилетия интерес к Шарлю Нодье заметно вырос. Долгое время существовавший в сознании главным образом как автор романа «Жан Сбогар», сегодня он все более раскрывается как самобытный и многосторонний художник, без учета вклада которого во французскую литературу картина ее будет и неполной, и не вполне понятной.
Георг Брандес в разделе, посвященном Шарлю Нодье, отчетливо сформулировал мысль о парадоксе Нодье, о его особом месте во французской литературе — почетном и неудобном одновременно. По мнению ученого, Нодье «был предтечею более значительных умов, чем он сам», писатель обладал крайне редкой для французской поэзии «склонностью к фантастическому и смелостью в проложении новых путей, так что он является одновременно и предтечею, и пионером».
Это положение во многом откорректирует литературную судьбу Шарля Нодье. Он отнюдь не обласкан своими современниками. Корифеи 1830-х — Стендаль, Мериме, Гюго (даже те из них, кто продумывал перипетии «романтической битвы» в салоне Нодье) не находят в нем достоинств 30-40-х гг., к которым бы они относились без снисходительности. Один Мюссе, всегда независимый в своих суждениях, видит в Нодье не только незаурядное дарование, но и сугубо французскую талантливость:
Та Muse, ami, toute française,
Toute à l’aise...
В литературоведении Франции преобладает психоаналитическое прочтение Нодье, хотя есть работы, в которых поэтика художника получает конкретно-историческое истолкование. Прежде всего надо назвать исследование П.-Ж. Кастекса, внимательного к социальным и эстетическим реалиям, включившего Нодье в литературную историю Франции. В значительной работе М. Шнейдера «Фантастическая литература во Франции», творчество Нодье, выделенное в разделе «Вариации на тему Гофмана», хотя и несколько обедняется, но также рассматривается в широком контексте литературной традиции. То же можно сказать и о главе, посвященной Нодье в книге П. Мартино. Монография Ю. Жюэна «Шарль Нодье» скорее обобщает имеющиеся факты, нежели предлагает свою концепцию.
Из работ о Нодье, написанных в СССР и СНГ, можно назвать статью Д. Д. Обломиевского в его монографии «Французский романтизм». Попытка включить Нодье в движение национальной романтической мысли французов остается актуальной. К сожалению, исследователь сосредоточивается не на анализе художественного наследия писателя, а только на его эстетических представлениях. Две статьи Н. С. Шрейдер, напротив, приковывают внимание к художественной специфике романтизма Нодье. Они акцентируют разные этапы эстетического сознания писателя, отразившие и движение романтической мысли Франции.
* * *
Общепризнанным стало мнение, что создателем романтическом сказки (conte fantastique) во Франции стал Нодье. Он ввел этот жанр почти за 10 лет до того, как французский романтизм усвоил вкус к фантастическому. Предпосылки и судьба этого жанра у французом иные, чем в Германии, где он стал центральным в романтической прозе. Во Франции даже в XVII веке, веке Шарля Перро, когда волшебная сказка («сказка фей», по французской терминологии) царила в литературных салонах, ее редко воспринимали серьезнее, чем изысканное развлечение. Категоричность идеолога Просвещения Вольтера, безоговорочно сурового к «сказкам фей» («эти фантастические небылицы, лишенные порядка и здравого смысла, не заслуживают уважения, — их читают по слабости, но разумом их осуждают») перерастает личное восприятие. В словах Вольтера — проявление сугубо французских начал, органическая классицистичность, тяготеющая к ratio и геометрической симметрии. Фантастическое, причудливое не без напряжения входило в литературу Франции, даже в наиболее открытые им жанры. По существу, «сказки фей» не так уж нарушали здравый смысл. Преимущественно они дидактичны, хотя и исполнены фации и поэзии. Сен-Виктор прав, что феи в этих сказках выглядели щепетильными гувернантками или элегантными дамами модных салонов. Рационализм волшебных сказок, по сути, противостоял игре воображения. Очень существенно в «сказках фей» то, что заметил еще Ретенжер: атмосфера волшебной сказки — атмосфера гармоничного мира, в котором непременно восстанавливаются добро и справедливость.
Просветительские contes, в частности, вольтеровские, философские в использовании фантастики, весьма далеки от традиционной сказки. Свифтовско-вольтеровская фантастика — форма сатиры на общество и одновременно форма исследования, прогнозирования его будущего состояния, желанного или, напротив, порождающего сомнения в смысле его превосходства над отрицаемым настоящим. Дух сомнения, обнажение относительности различных норм, истин, близки романтизму. Н. Я. Берковский справедливо видит в Вольтере «одного из ближайших предшественников романтической иронии». Но остающийся незыблемым рациональный аллегорический дух фантастики, связанной с осознанными просветительскими идеалами мира и человека, отделяет ее от фантастики романтической.
Новое качество фантастики, по мысли Кастекса, возникает у Казота. Она у него, наконец, обрела таинственность, отказавшись от картезианских исчерпывающих объяснений действительности и стала способом постижения неведомого в человеческой душе. В нашей науке Казота тоже рассматривают как предтечу романтического сознания.
Нодье, который в 1830-е гг. станет апологетом сказки, еще в 20-е гг. способствует возникновению нового жанрового синтеза.
В данном случае нас интересует не сложившийся жанр сказки, а процесс его созидания; складывающийся жанр, в котором только происходит перестройка хронотопа, определившая его романтическую природу. В «Трильби» (1822) поиски и открытия Нодье совершенно очевидны.
Вопрос о своих литературных учителях проясняет сам Нодье: Перро и Казот. Имя Перро он неоднократно упоминает в самом восторженном контексте. Казот — также признаваемый литературный авторитет, немеркнущее впечатление детства и — герой его новеллы 1836-го года «Месье Казот». Автору «Влюбленного дьявола» отведена в ней роль ясновидца, родственная той, которую играют и вымышленные герои «Цикла невинных» Нодье (1830 — 1833), прозревающие, как и Казот, поэзию или катастрофу там, где другие о них не догадываются. Хотя религиозно-дидактическое начало Казота оставляет Нодье равнодушным.
«Трильби» написал не новичок в литературе. К внутренней нравственно-психологической проблематике сказки Нодье шел от своих романов с их гибельными любовными коллизиями, героями-изгнанниками, поведением и страстями, родственными модному в предромантической и раннеромантической Европе «неистовству». Психология и поэтика сна, которые войдут в «Трильби», в «неистовом» варианте уже предстали в «Смарре» (1821). В «Трильби» «неистовство» утихает, оставив лишь свой знак и уступив место латинским нормам сознания.
Сюжет сказки — история драматической любви эльфа Трильби к жене рыбака Дугала — прекрасной лодочнице Джанни. Психологическая коллизия «Трильби» уже представала у Нодье в форме, далекой от фантастики, — в романе «Изгнанники» (1802), «Зальцбургском художнике» (1803). В несколько преображенном виде этот же сюжет — роковая любовь с неустранимыми внешними и внутренними препятствиями, когда любящий неизбежно губит предмет своей страсти, — воплощен и в романе «Жан Сбогар» (1818). В этом плане Нодье стоит одном ряду и с автором «Коринны» Ж. де Сталь, и с автором «Аталы» и «Рене» Ф. Р. де Шатобрианом, в произведениях которых любовные несчастья имели своим первотолчком моральный запрет, табу, отражавшие социально-этический статус общества, его насилие над личностными проявлениями духа. Новая проблематика породила новую акцентировку, новаторское применение уже открытых приемов, стимулировала поиски новой сказочной поэтики.
Самый любовный треугольник с замужней героиней, несущей в себе любовь не к мужу, начиная с «Принцессы Клевской», усвоен романной прозой, но он — почти эпатаж для сказки. Жанровое перемещение не только свидетельствовало о подвижности поэтической системы, но неизбежно влекло к решительной переоценке как эстетических, так и нравственных представлений.
«Трильби» — сказка о фольклорных временах, рассказываемая и воспринимаемая в другом времени. Разительное отличие французов от немцев, англичан, славян — в спокойном отношении к фольклору. Обратясь к нему позже, чем их соседи, французские романтики не будут его широко использовать. Своеобразный парадокс, но фольклором французов была античность. И эта «книжность» воображения по-новому предстанет и в романтизме.
В предисловии к первому изданию «Трильби» Нодье основным источником своей сказки назовет Вальтера Скотта, который, по мысли автора, упоминает сюжет, известный всему миру: «это Влюбленный дьявол всех мифологий». Вторым источником он считает поэму Анри де Латуша «Изгнанный Ариэль», герой которой, Ариэль, спасаясь от Титании, королевы фей, находит убежище в бедной хижине, покоряя сердце ее хозяйки.
Источники определили лишь отдельные фабульные моменты сказки Нодье, не снизив ее оригинальности. Психологизм, сказавшийся в сложности конфликта «Влюбленного дьявола», неоднозначности внутреннего облика Бьондетты — влюбленного дьявола, не только соблазняющей Альвара, но и страдающей от его равнодушия, — на Нодье воздействует, однако не довлеет. Джанни и Трильби лишь внешне напоминают пару Альвар — Бьондетта. У Нодье мотив соблазна и падения трансформирован в тему предназначенности любовников друг другу и законности их стремления к счастью. В системе конфликтов «Трильби» отражается антихристианский, антиавторитарный подтекст.
В «Трильби» возникает особый персонаж — посредник, который, с одной стороны, соединяет легендарное время с художественным теперь, сказку с действительностью, а с другой — корректирует сюжет о влюбленном дьяволе. Повествователю приданы черты той чувствительности, близости к природе, демократичности, которые тяготеют к сентименталистско-просветительской концепции героя, но одновременно связывают его с персонажами самого Нодье, являясь их преломлением в другом жанре. Самый образ меланхоличного и жадного к впечатлениям путешественника, равно как и северный пейзаж, возникают в «Прогулке из Дьеппа в Шотландские горы». В предисловиях к обоим изданиям «Трильби» Нодье настаивает на подлинности пейзажа, на его принципиальной сопоставимости с природой Англии.
Повествователь — образ характерный для Нодье-сказочника и в дальнейшем, не является участником событий. Он существует в сказке как рассказчик, лирический комментатор, изредка прямой, чаще — прячущийся в настроение, порожденное пейзажем, косвенной ассоциацией с временем рассказчика. Повествователь образует, в сказке довольно сложное обрамление, одновременно включающее в себя и информацию эрудита о шотландских преданиях, и пейзажную живопись, воспроизводящую Север, и меланхолические излияния в духе элегической поэзии начала века, и взволнованную антидидактическую мораль финала. Сразу устанавливаются отношения между повествователем, его «хронотопом» и сказкой. Сказка для него не чужое пространство, хотя оно имеет свои закономерности, отличные от его вкуса. Позже, например, у Мериме, conte станет созерцаемым пространством для его повествователя, хотя подчас связи рассказчика с персонажем непосредственны («Венера Ильская»). У Нодье пространство conte духовно проживаемо. Но вместе с тем, сказка существует объективно, она не может претендовать на то, чтобы занять все пространство произведения, хотя мораль повествователя заодно с моралью сказки. В этой слитности, но и выведенности повествователя за пределы сказки подготавливается не только характерный для Нодье тип романтического героя, принявшего решение жить мечтой при ясном понимании, что она не есть жизнь («невозможное было возможно, но возможное было мечта»). Здесь и едва ощутима трагико-ироническая ситуация устремленности романтического героя к идеалу и недостижимости идеала. В «Трильби» это существует как потенция.
С первых строк установлен специфический наивный тон и обрисован гармоничный, по-своему изысканный мир сказки, не сказочного дворца, как всегда у Мари д’Онуа и часто у Перро, а сказочной хижины пастуха и дровосека. Атмосфера фантастического достигается посредством поэтизации обычного интерьера, обычных предметов, уместных и естественных в этой обстановке. Устанавливается особая позиция: восприятие жизни как сказки. Это окажется принципиальным не только для Нодье, но, думается, для жанра conte fantastique в целом. Жанр предъявляет требование на особую духовно-интеллектуальную установку, отгораживаясь от «сказки фей» с ее поэтической однородностью, а с другой стороны, уже при возникновении обнаруживая потенцию бесконечной подвижности своей системы. Эта система уже при зарождении открыта и сказке, и жизни. Именно эта способность жанра позволит ему позже объединить художников столь различных: Нодье и Бальзака, Мериме и Жорж Санд, Мюссе и д’Оревильи, Готье и Жанена.
Главный волшебный персонаж в речи повествователя предстает, как игра поэтического воображения, как греза замечтавшегося: «Трильби, милый дух хижины Дугала, в своем огненном колпачке, с развевающимся пледом...». Характерно, что визуальный образ Трильби в снах Джанни будет иным: ни огненный колпачок, ни дымчатый плед там не предстанут. Эта установка на «своего Трильби», творимого по законам воображения, чрезвычайно симптоматична. Различные персонажи видят Трильби по-разному: для повествователя он — творение его фантазии, почти привидевшееся существо из огня и дыма; для Джанни — дитя, потом отрок; Дугалу Трильби является в виде большой рыбы; Рональд сражается с невидимым духом. Однако эти перевоплощения Трильби не лишают его образ определенности; персонаж Нодье отмечен рационализмом французов. Не размываются здесь границы видимого и сущностного, как часто бывает у немецких романтических сказочников (Гауф, Гофман и др.). В статье, вышедшей 10 лет спустя после «Трильби» «О некоторых феноменах сна», Нодье утверждает, что «сон — это состояние не только самой могучей, но и самой ясной мысли». Ни в «Трильби» ни в сказках 30-х гг. Нодье не отдает предпочтения интуиции перед рацио.
Восприятие разных обликов Трильби в сказке своеобразно детерминирует носителя образа: тем явственнее, тем очеловеченнее эльф, чем духовнее персонаж, его воспринимающий. В самой градации — французское математическое воображение.
Создается особая эластичность художественного мира, который может восприниматься и в локусе, и в универсуме. При этом сохраняется высокая географическая пейзажная конкретность, этническая определенность.
Уже в зачине — поэтическое совмещение: легенда — это и греза об одухотворенном мире. Закономерно в речь повествователя вплетается тема снов: они — время эльфа, когда он «смущает покой девушек непонятными, но милыми снами».
В самой сказке тема сна предстанет по-особому. Сны композиционно не выделяются. Художественный мир Нодье своеобразно уходит от гофмановского дуализма. У него нет чередования сказочного и бытового. Это специфически целостный мир, поэтому у Нодье принципиально соединимы разнородные персонажи: эльф может являться Джанни, героине сказочной, органически соединяющейся с духом фантастики и поэзии. Но он может являться и Дугалу, герою если не антисказочному, то, во всяком случае, действующему на периферии конфликта, так и не проникающему в его суть (о том, что, как и некоторые второстепенные персонажи, Дугал видел Трильби, лишь сообщается в речи повествователя). Преимущественный способ появления Трильби в сказке — сны Джанни, но эта форма не выдерживается последовательно: однажды Трильби появится и наяву. Правда, Джанни отчетливо видит лицо шаловливого ребенка или печального подростка — воплощение эльфа во сне. Когда же Трильби предстанет перед ней в лодке, облик его будет зыбким, скрытым вечерними сумерками. У Джанни останется впечатление сна. «Я не спала», — дважды повторит она после встречи с Трильби на озере и перед последним разговором с ним. У Нодье остается знак сновидческого мира, но отнюдь не в той концентрации, что у Новалиса. Главным для него станет не интуитивное познание мира, а самопознание героини, не открытие гармонии мира, как в «Генрихе фон Офтердингене», а постижение его дисгармонии и характера этой дисгармонии. Французская фантастика Нодье не умеет быть не социальной.
Сказочная героиня переживает несказочный конфликт, который придаст моральным понятиям conte fantastique Нодье — любви, верности, долгу — небывалую в сказке сложность и драматизм. Формально Джанни, действуя в рамках конфликта «страсть-долг» (конфликт, которому особую напряженность придали классицисты), — верна линии поведения классицистской и, опосредованно, — сказочной героини. Верность — условие положительности героини любой сказки. Но в волшебной сказке героине приходится, сберегая свою верность, бороться с внешними обстоятельствами, с чьими-то незаконными посягательствами на ее честь. Внутренние сомнения, которыми охвачена Джанни, уже другого рода, они — пострасиновские, в них появилась психологическая сложность, напряженные поиски нравственных норм, которые изначально не сформулированы. Трагическая вина, ее постижение и искупление; неосознанная любовь, ее осознание, выбор позиции — это две сливающихся линии в истории Джанни. Основным конфликтом станет не конфликт с Дугалом, он заглушен, хотя и не снят, а конфликт с Рональдом, монахом из Вальвы. Врагом Трильби, любящего Джанни, становится не Дугал, ее супруг, а монах, в глазах которого Трильби — существо языческое, проклятое Богом, но в повествовании — родственное Св. Коломбану, покровителю монастыря. Поиски нравственного идеала будут сопряжены со скрытым спором с христианством, хотя это отнюдь не атеистическая сказка.
Антихристианское начало у Нодье воплощается вне традиций Просвещения, без вольтеровской нетерпимости. Однако долго приписываемая Нодье религиозная ортодоксальность вряд ли оправдана. В «Трильби» ощущается внутренний спор с «Гением христианства» Шатобриана. Трудно сказать, осознанный ли это полемический выпад Нодье против шатобриановской апологетики, но объективно он приходит в конфликт с основными положениями трактата. Религия у Нодье, в отличие от автора «Рене», не способна дать мир мятежной душе, утратившей и отыскивающей духовные ориентиры. Напротив, у Нодье она стимулирует безнравственность и жестокость. Сам тезис Шатобриана о позитивности абсолютного авторитета, дисциплинирующего и умиротворяющего душевное своеволие, подвергается серьезному сомнению. Искания героини Шарля Нодье в духе иного сознания, переросшего привычку к слепому подчинению. Она открывает обязательность и неустранимость ответственности перед собою. В ее конфликте с Рональдом вызревает и реализуется романтический протест, направленный не столько против индивидуального деспотизма монаха, сколько против насилия как такового, недоверия к человеку, фанатической ослепленности и — главное, ибо это могло появиться только в сложившемся романтическом сознании, — против отношения к миру, явлению, человеку, как неизменной данности, всегда равной себе.
Главным структурообразующим моментом в сказке станет духовная эволюция героини. Изначально Джанни дарован гармоничный мир — тот, который предстал в речи повествователя: любовь Трильби в этой части не нарушает гармонии, ибо он — и влюбленный, соперник Дугала, но он — и дух хижины. Невинность этой любви подчеркнута и сновидческим воплощением Трильби — он дитя: «Я тот ребенок, которого в сладостных грезах ты целуешь по ночам в горячие уста». (У Декотиньи рассматривающего ««Трильби»« в аспекте демонологии, это сюжет приручения женщиной дьявола). По мере осознания и роста чувства будет взрослеть и Трильби в снах Джанни. Утрачиваемая гармония и безмятежность и поиски «потерянного рая» реализуются у Нодье в форме традиционной и одновременно новой.
Хотя в структуре сказки просматривается традиционная сказочная композиция — троичность повторяемого действия (три обращения Дугала к Рональду с просьбой о помощи, три проклятия, совершаемых Рональдом над Трильби, три безмолвных спора Джанни с Рональдом, три сна Джанни о Трильби, точнее два сна и один как бы сон), но костяк просматривается с трудом. Нодье переключает внимание на развитие любовного чувства, тщетно подавляемого героиней, воспринимаемого нею, как незаконное, греховное. Однако эта троичность отметит этапы познания ею мира и самопознания.
Не только образ Джанни, но и образ фантастического существа эльфа Трильби связан с предшествующим творчеством Нодье. Изгнание Трильби из хижины Дугала тематически и эмоционально связано с темой «Изгнанников», «Зальцбургского художника». Утрата родины и недостижимость любви — это также и коллизия сказочного персонажа Нодье.
Разумеется, волшебная сказка располагает многочисленными незаконными отлучениями героини, изгнаниями, вынужденными бегствами за пределы родного пространства, но ностальгическая печаль Трильби, тоскующего по своей родине, по своей хижине сообщает такую взволнованность повествованию, что фабульный примитив, имеющий многочисленные прецеденты, преображается до неузнаваемости. Разумеется ностальгия Трильби вырастала и из личного опыта Нодье, знавшего опалу, и из широкого социально-исторического опыта Франции первых десятилетий века, когда эмиграция стала судьбой многих. Кроме того, на изгнанничестве Трильби — чуть заметный оттенок истории падшего ангела, хоть и без намека на демонизм. Наконец, изгнанничество Трильби соединяется в сказке с мотивом отдаленности от родины повествователя, которого «судьба путешественника, а может быть, и некая сердечная забота» приводит в Шотландию. Эти переклички ситуаций-положений внутри произведения важны для создания романтического философско-психологического подтекста, для совмещения локуса и универсума. Они, думается, и первые проявления романтико-иронического сознания, создающего сложную игру совмещения и различия, художественного двойничества — одновременно и ощутимого, и невидимого.
В сказку Нодье вошла и поэтика тайны, более всего она связана с Трильби. Образ этот структурно наиболее сложный. У Трильби несколько воплощений. Он — эльф, и в сказке воплощает тему неземного существа с соответствующими способностями и возможностями. Есть Трильби из снов Джанни — она видит не эльфа, а ребенка, подростка.
позже узнает героя своих грез, увидев в галерее портрет молодого человека. Наконец, существует Джон Трильби Мак-Фарлан, родственный канонизированным церковью фанатику Магнусу Мак-Фарлану и милосердному Святому Коломбану. Эта расщепленность образа однако не порождает атмосферы иррациональности, а вместе с тем, уходит от обязательной договоренности, определенности класицистско-просветительской поэтики. Ритм воплощений Трильби, все более «очеловечивающегося», связан с психологической линией сказки. Любовный сюжет разворачивается как история самопознания и познания истины героиней. Именно Джанни раскроет тайну Трильби, неведомую не только Рональду, но и самому Трильби. Традиционный сказочный мотив узнавания здесь преобразуется не только в психологический анализ, но и в напряженные поиски новых нравственных ценностей. Активность внутренних переживаний Джанни создает особую динамику сюжета.
В сказке прочерчивается четкая линия осознаваемой и растущей любви Джанни к Трильби. Одновременно с этим усиливается и разочарование в Дугале, но формируется и новое более высокое чувство ответственности, основанное уже не на страхе и не на слепом подчинении долгу. Важно, что каждый шаг, сближающий Джанни с Трильби, осмысляется как роковой, но и как гуманный и героический. Колебания героини обретают глубокую моральную мотивировку: в них не только опасения за себя, но тревога за мужа и возлюбленного. Этапы растущего чувства геометрически четко соответствуют этапам разочарования и зреющего протеста, который все больше превращает Джанни в идейного противника Рональда. Эта линия также психологизируеется, усложняясь несказочными поворотами. Нодье полностью отрывается от однозначности образов «сказки фей» и просветительских contes. Все персонажи «Трильби» обладают внутренней сложностью, проходят если не значительную, то все же ощутимую эволюцию, уклоняются от однозначной оценки. Не только Джанни, но и Дугал отмечен внутренними сомнениями, неуверенностью в правильности требований Рональда, преследующего Трильби. Внутреннюю сложность несет и сам Рональд, персонаж, отмеченный несомненным драматизмом. Монах, принявший на себя бремя монашеской жизни, отрекшийся от счастья и не нашедший благодати, предстает в «Трильби» и в трагическом ореоле одиночества и отверженности.
Усложнившаяся система оценок, вырастающая в сказке Нодье, сама по себе свидетельствует о новых качествах жанра, обращенного к анализу духовной жизни современника.
Новым стало и пространство сказки, оно стремится вырваться в бесконечность. Конфликт Джанни, Трильби и Рональда получает особое освещение в космическом развороте сказки. Он соединяется с конфликтом языческого и христианского начал, борьба которых также не определена однозначно.
Легенда о Бен-Артуре, вплетающаяся в повествование, не только создает колорит места и времени, но соединяется с духовными исканиями Джанни и — на другом уровне — с авторской концепцией мира. История распри Артура, изгнанного из его жилья «искусством дерзновенного народа», с людьми, история его усмирения святым старцем, разумеется, несет информацию о победе христианства. Но в сказке эта история формирует образ мира, охваченного страстями, враждой, нетерпимостью. Изгнанный из привычных мест Артур имеет основания для недовольства, но множит вражду, а основатель Бальвы, святой старец, обладает тем преимуществом, что несет мир. Рональд, монах Бальвы ведет постоянную войну с духами, и эта война плодит ненависть и безнравственность. Святой старец усмирял Артура, узурпирующего людей, Рональд сам становится узурпатором.
В контексте истории Франции сюжет вбирал в себя проблемы революции, ее диалектики, красного и белого террора, репрессий Реставрации.
Любовь христианки Джанни и проклятого церковью Трильби в таком мире обретает повышенную ценность. В эстетическом плане сказка Нодье отрывалась как от идей гармоничного мира «сказки фей», так и от моделируемого мира просветителей. Образ мироздания, представление о нем определяет и обильный в сказке пейзаж. Нодье, по словам Мартино, был из первых, кто учил французов любить оссиановский антиклассицистский пейзаж, в котором исчезали четкие геометрические линии версальских садов. Эстетически новое становилось частью фантастического, но всегда фантастическое уравновешивалось галльским Ratio. Атмосфере фантастичности способствует и преимущественное изображение пейзажа в сумерки, когда естественно утрачивается резкость и определенность контуров, а доминирование сумерек объясняется в речи повествователя характером северной природы. Вместе с тем, драматическая патетика оссиановского пейзажа у Нодье не снята, но ослаблена. Пейзаж у него отражает некое расхождение видимого и сущностного, связь между которыми однако постижима (яркость осеннего пейзажа — пора умирания; угрожающее нагромождение камней, «темные, совсем черные массы, которые издали можно было принять за лежащие прямо на пути подводные камни», но за ними «широкие удобные для лодочников бухты» и т.д.).»
Conte fantastique у Нодье составила новый жанровый синтез. Фантастика ее развивается в двух направлениях и двух темах. Эти темы-направления потребовали своей жанрово-стилевой выразительности. Первое связано со «сказкой фей»: это тема эльфа Трильби, его сказочной родины, своеобразная феерия. Фантастический интерьер этой страны условно-поэтичен и тяготеет к жанру идиллии. Колористический знак этого мира в сказке Нодье — свет, яркость. Второе направление сказки связано с монастырем Бальва. Стилевое воплощение его контрастно феерии. Стиль тяготеет к готике, хотя Нодье избегает нагнетания кошмарного (сцена на кладбище драматична, но сдержанна; пейзаж, воспринимаемый Джанни, предчувствующей несчастье, мрачен, но не перенасыщен зловещими знаками и т.д.). Эти две темы составляют художественно разработанный контраст, но соединены историей влюбленных. Мироздание у Нодье предстает как бы в незавершенности: его движение передано через постоянную, уходящую в прошлое и будущее борьбу, результаты которой непредсказуемы. В этой колоссальной перспективе «сказка фей» о беспечном и влюбленном эльфе и прекрасной рыбачке преобразуется в свою противоположность: идиллия оборачивается трагедией. «Сказка фей» у Нодье, становится лишь отблеском искомой гармонии, которой в «Трильби» никто не достигает, и возникает сомнение в самой возможности достижения. То, что написано, предлагается читать и как сказку, и как мечту.
Композиция «Трильби» постоянно чуть-чуть пружинит, вмещая и наивно-драматический сюжет легенды с простодушными персонажами, сюжет глубоко трагический, дорастающий до героики. У Нодье отсутствует еще «конфликт» разных уровней сюжета, они еще не пародируют друг друга. Соединение их неиронично, еще в духе чувствительной поэтики сентименталистов. Сказку воспринимает родственное сознание повествователя, который адресует ее родственным же натурам, Когда в 30-е годы в его conte fantastique войдет образ делового обывателя, тогда и возникнет романтическая ирония, несущая в себе понимание силы и уязвимости романтического мечтателя.
«Я был ребенком и мне неведома была ирония, которую Бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печальном мирке», — напишет Гейне во «Введении к Дон Кихоту». Ш. Нодье, как и французский романтизм в целом, пройдет этот путь познания.
В «Трильби» еще нет очевидного двоемирия, которое возникнет в его более поздних сказках. Эта сказка — словно бы еще поиски другого мира, другой системы ценностей. Здесь автор словно еще затрудняется оторваться от классицистской дидактики, хотя решительно уходит от аллегоризма и нормативности.
Уже в «Трильби» складываются национальные черты жанра, в нем явственно просматривается социальность, вкус к психологическому анализу, рациональность. Его фантастика по-иному, чем просветительская, но тоже чужда фидеизму. Она отрывается от атмосферы ужасного (на ином этапе и с другими целями ее восстановят Бальзак и Мериме). Непринужденность, чувство меры, свойственные Нодье в «Трильби», отражают природу французского романтизма. Поэтому conte fantastique во Франции, возникнув позже, чем в Германии, стала отнюдь не только «вариацией на темы Гофмана», как определил его место М. Шнейдер.
Л-ра: Вікно в світ. – 2000. – № 1. – С. 101-112.
Произведения
Критика