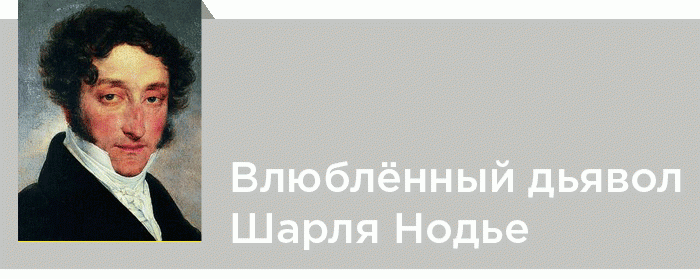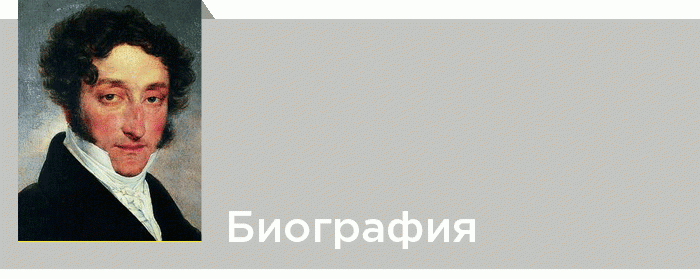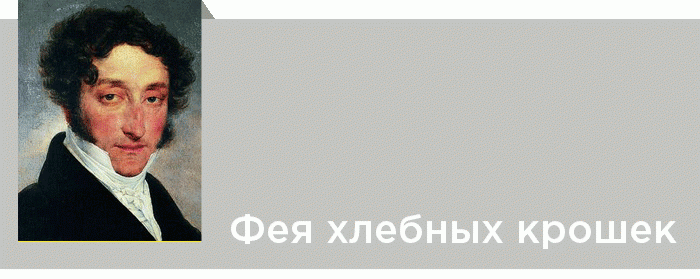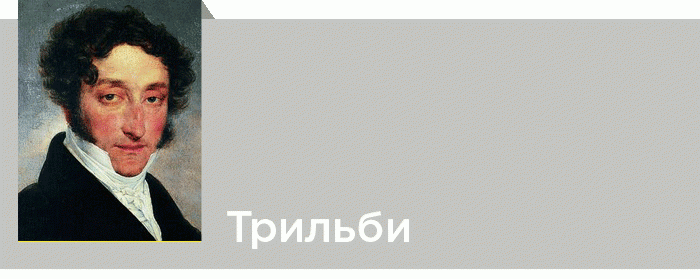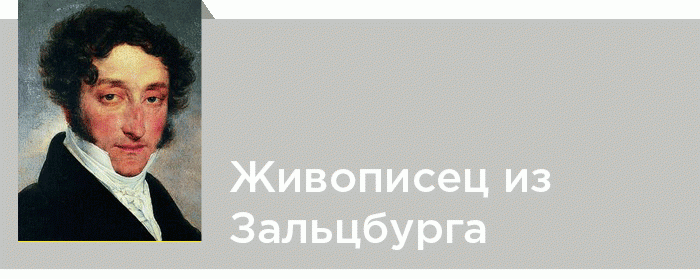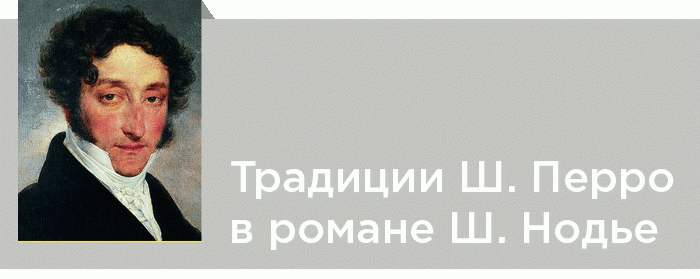Жанровое своеобразие предисловия в новеллистике Шарля Нодье
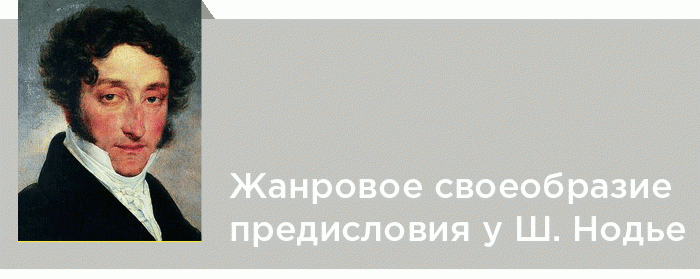
T. H. Жужгина-Аллахвердян
Шарль Нодье, любимец и учитель французских писателей, пришедших в литературу в 1820-е годы, не создал, подобно Ж. де Сталь, В. Гюго или Стендалю, крупных литературных манифестов. Но его статьи для журнала «Французская муза» (1823, 1824), критические материалы, изданные в 1820 году (двухтомник «Избранные критические сочинения»), и опубликованные в последующие годы статьи и рецензии, а также предисловия к новеллам «Смарра» (1821,1832), «Трильби» (1822) и «Фея хлебных крошек» (1832) сыграли немаловажную роль в становлении и развитии романтической эстетики и художественного творчества.
Первые две новеллы были написаны Нодье в годы всеобщего увлечения «неистовой» тематикой, третья - в период социальной и эстетической зрелости романтизма. Этим объясняются некоторая «неистовость» изложения мыслей в предисловии к изданиям 1821-1822 годов и уверенность высказываний в сочетании с иронической снисходительностью к критикам в более поздних работах.
За автором предисловий, мистифицированным или беллетризированным, всегда стоит сам Нодье. Об этом свидетельствуют многочисленные биографические факты, упоминаемые в предисловиях и тексте новелл, хотя в традиции романтического историзма Нодье не всегда заботится о точности их, так как для него правда мыслей и чувств была важнее правды фактографической. Поэтому он так легко прибегает к мистификации в предисловии к новелле «Смарра», издания 1821 года, приписывая авторство некоему графу Максиму Одену, переводчиком которого он якобы является. Мистифицированные факты, однако, относятся к тому периоду, когда Нодье действительно находился в Иллирийской области (1812-1813) как редактор французской газеты «Телеграф». Только спустя одиннадцать лет после первого издания новеллы с мистифицированным предисловием, автор объяснил, что спрятался за вымышленным именем переводчика из боязни сравниться с великими классиками, которых стилизовал, - Гомером, Феокритом, Виргилием, Катуллом, Лукианом, Данте, Шекспиром и Мильтоном.
В начале 20-х годов не только Нодье был увлечен литературной игрой. Пожалуй, наиболее яркими мистификациями этих лет в традиции Дж. Макферсона и Т. Чаттертона, открытых романтиками, были «Театр Клары Газуль» и «Гузла» П. Мериме. История «Гузлы» во многом напоминает историю «Смарры». Оба произведения созданы на основе иллирийского фольклора и мотивированы желанием увлечь читателя занимательностью, новизной повествования и интригующими особенностями биографии вымышленного автора. И у Мериме, и у Нодье в гетевской традиции небывалое и «неслыханное» объясняется с позиции разума и здравомыслия и проявляется в смешении категорий достоверного и правдоподобного (vrai et vraisemblable). С этой целью оба писателя вводят в повествование рассказчика, свидетелей описанных событий, персонажей, якобы знакомых с действующими лицами. Чтобы соблюсти принцип правдоподобия, Нодье, однако, часто переносит действие (мои заметки о новеллах «Смарра» и «Библиоман») своих «странных историй» в область сновидений или безумной мечты, ссылаясь на предание или книжный сюжет, иллюстрируя вынашиваемые им на протяжении многих лет идеи. Этим объясняется выбор и типа рассказчика - библиомана-сновидца или безумца, или сумасброда, или фантазера, и формы повествования - сновидения, бреда, легенды, сказки.
В предисловии к «Смарре» 1821 (год) автор объяснял свое внимание к апулеевской форме повествования исключительно трудностями перевода и спецификой воображения французского читателя, жадного до неистового и грубо-чувственного. По мнению мнимого «переводчика», произведения Апулея и Фортиса «Путешествие по Далмации» имеют один и тот же источник. «Смарра» якобы только свидетельствует об их родственном происхождении и оправдывает желание облечь в поэтическую форму варварское предание с незамысловатой фабулой, а что может быть совершеннее античной формы? Автор останавливает свой взгляд на «Метаморфозах» Апулея, считая такую форму повествования вполне подходящей для переложения сюжета о демонах сна. П. Мериме в емком определении «Смарры» как «сна скифа, пересказанного греческим поэтом», подтвердил идею поэтического единства содержания и формы, к которой стремится Нодье в этой необычной новелле. В 1832 году он призывает, ссылаясь на слова А. Шенье: «... будем слагать античные стихи на новые сюжеты», и выделяет в качестве образца из общего ряда необычных историй уже не только Апулея, но и Вольтера как сочинителя «Орлеанской девственницы» и «Задига», Гомера как создателя Полифема и Эзопа, автора Волка-доктринера, в существование которых якобы верили непререкаемые авторитеты - переводчик «Одиссеи» Андре Дасье и Жан де Лафонтен.
По мнению Нодье, цель фантастического рассказа состоит в изображении «деформированной реальности», отражающей действительную жизнь. Преследуя эту цель, Нодье всего лишь следует античной или народной литературной традиции, которая была так сильна во Франции, предпочитая предание, легенду или сказку в манере Ш. Перро и переводы «Тысячи и одной ночи» А. Галлана назидательным рассказам Мармонтеля. Автор предисловия 1832 года утверждает, что в начале пути был «единственным, кто безошибочно предчувствовал пришествие новой литературы» и знал, что сюжеты неисчерпаемы и огромные просторы еще не завоеваны воображением. Он, безусловно, лукавит, когда сравнивает себя с посредственным, непроницательным человеком, который не смог в полной мере воспользоваться этим даром.
Повторяя, творчески переосмысляя и развивая старые мотивы, образы и приемы повествования, Нодье почти всегда намеренно декларировал их стилизацию, как бы провоцируя упреки в том, что он был только «имитатором литературных форм, готовых и канонизированных или еще только нарождающихся». Но «подражание» для Нодье, как и его мистификация и стилизация, только увлекательная литературная игра, в которой все - особенно фантастика, тайны, ужасы, кошмарный бред, страшные сны, как и размышления о душе, предназначении человека, жизни и смерти - не только тема для рассказа, но и способ выразить собственные философско-эстетические взгляды и психологические наблюдения.
Подобно Вальтеру Скотту, которого высоко ценил, Нодье старается убедить читателя в том, что все было именно так, как рассказано. В предисловии к «Смарре» 1821 года автор размышляет о ценности наблюдений и описаний чувств и ощущений, переживаемых слушателями фантастических историй, о лингвистических и поэтологических сложностях перевода иноземного произведения, рассчитанного на определенный тип воображения, о поисках адекватной формы изложения, доступной франкоязычному читателю. При этом он не только не разуверяет читателя в том, что представленная история действительно странная, но, наоборот, это подчеркивает. Эта позиция укрепляется в более поздних работах. По мнению признанного мэтра французских романтиков, задача автора в том и состоит, чтобы заставить читателя поверить, что странные истории имеют место в жизни. Потому в сказках Нодье так часто появляются рассуждения на тему психологии сновидения, безумия и особого воображения, свойственного поэтической натуре. Такие рассуждения призваны подтвердить, что автор необычного рассказа руководствуется прежде всего здравым смыслом. При этом он воспринимает свои творения как бы со стороны, оценивая и становясь на позицию критика. Упоминаемые при этом факты личной биографии Нодье способствуют этой литературной игре, как и отповедь критике, которая усмотрела в новелле массу недостатков, как-то: «неясную фабулу», «запутанную идею», «рассеянную и отягощенную многочисленными деталями по всякому поводу мысль рассказчика», «бесцельные отступления», «не объясненные естественно связными мыслями», но будто подчиненные словесной игре, напоминающей игру в кости», переходы повествования, невозможность «распознать рациональную линию и замысел автора». По собственному признанию, он воспринял отмеченные критикой «недостатки» повествования как похвалу, лишь подтверждающую, что цель достигнута. Предисловие 1832 года Нодье закончил критической нотой: «... если кто-то решился прочитать «Смарру» до конца, не заметив, что читал сон, он проделал бесполезную работу». Сновидение для Нодье было идеальной формой выражения иронии, в которой соединились ложь и правда (mensonge et vérité). Здесь, как и в предисловии к сказке «Фея хлебных крошек», очевидно выдержанном в игровом ключе, получили развитие мысли о фантастическом и его отношении к сновидению, высказанные ранее в статьях «О фантастическом в литературе (ноябрь 1830) и «О феноменах сна» (февраль 1831).
После изложения фантастического события или воспарения в новалисовском стиле, автор резко «приземляет» читателя, возвращая его из мира сверхчувственного в рамки здравомыслящей материальной действительности. Г. Брандес в свое время был разочарован финалом «Инес де Лас Сьеррас». «Заключение, которое ничего не объясняет и которое можно не читать» в «Фее хлебных крошек» не в меньшей мере разочаровывает читателя, почти поверившего в сказку о мандрагоре и царице Савской, разрушая иллюзию правдоподобия фантастического события. Но даже этот хладнокровно-ироничный финал все же дает возможность выбора: кто верит в чудесные сказки, может продолжать в них верить, а кто не верит, может продолжать в них не верить. В предисловии к «Смарре» 1832 года Нодье подводит итог своим психологическим открытиям: «Мне не оставалось ничего более, как удовлетворить бесполезное инстинктивное любопытство моего слабого ума и открыть в человеке источник правдоподобной или правдивой фантастичности, которая порождает только естественные впечатления или суеверия, распространенные даже среди высоких умов нашего века безверия, безвозвратно утратившего наивность античности».
В 1889 году Анатоль Франс, чьи эстетические вкусы формировались в эпоху позитивизма, в импрессионистической статье «Роман и магия» писал: «Нелепое - одна из радостей жизни; вот почему из всех книг, созданных человеком, наиболее надежной судьбой и длительной жизнью обладают сказки, и сказки самые неправдоподобные: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Тысяча и одна ночь» и - отчего не сказать об этом прямо - «Одиссея», которая также представляет собой сказку для детей». Для Нодье «Одиссея» не детская сказка, но образец серьезной и одновременно наивной фантастики древних. Хотя несомненно поэты примитивной эпохи понимали иную реальность и ее влияние на состояние мысли, спуск Улисса в ад, как и многие места в Святом Писании, по его мнению, только сон. А. Франс рассуждает сходно с Ш. Нодье: «Все чудесное обман. Мы знаем это и хотим, чтобы нас обманывали», «Старик Апулей - тоже недурной выдумщик, он подарил мне восхитительную иллюзию чудесного». Нодье также уповал на иллюзию чудесного (фантастический мир правдивее реального) и утверждал его право на жизнь. Хотя, по словам его героя, «Фея хлебных крошек» не более чем вздор, небылица, необходимо завоевать внимание слушателей, для чего нужно самому верить в небылицы, тогда вера рассказчика передается тем, кто его слушает.
Возвращаясь к проблеме воображения, Нодье на этот раз связывает ее с проблемой безумия, не забывая о правдоподобном соотношении небывалого и возможного. При этом, как мастер рассказывать небылицы, приверженец литературной игры и иронии, умело соединяющий ложь и правду, он произносит парадоксальную фразу: «Я ненавижу правду в искусстве». Это утверждение показало особую эстетическую позицию Нодье в искусстве, озвученную в шутливо-иронической форме, но все же с некоторым вызовом, в то время как Гюго, Ж. Санд, Стендаль, Бальзак провозгласили принцип правдивости искусства и назвали литературу зеркалом жизни. Вероятно, эстетические разногласия, как и политические размежевания этих лет, разъединили Нодье и его друзей во главе с Гюго. С некоторой тоской Нодье писал в предисловии к «Смарре» издания 1832 года, что то, что искал, предчувствовал и предугадал раньше других, уже найдено В. Скоттом и воплощено В. Гюго в типах необычных, но вполне возможных в жизни (намек на Гана Исландца и Квазимодо), а также Гофманом - «в неистовой нервозности художника-энтузиаста или явлениях, более или менее отмеченных магнетизмом».
Позиция Нодье, продиктованная некоторой элитарностью взглядов мэтра и библиофильскими вкусами коллекционера редкостей, была и «особой формой реагирования на действительность», и иронической художественной игрой, в которой с максимальной силой проявился его талант рассказчика и исследователя. Такая форма реагирования на действительность, типичная для 20-х годов, потеряла свою актуальность после Июльской революции для большинства писателей из окружения Нодье. Но в 20-е годы даже Бальзак, подобно Нодье, успешно вел игру с читателем, в чем признавался в предисловии к первому изданию «Шагреневой кожи» (
Отбиваясь от критиков в 1832 году, Нодье был вынужден демистифицировать автора предисловия 1821 года, переводчика господина Одена, под псевдонимом которого выступал довольно часто в тот период, и с позиции здравого смысла пояснял происхождение «Смарры». Но и эти новые объяснения были литературной игрой, и Нодье, занимаясь саморазоблачением, не открывал до конца истинную правду. В том же 1832 году в предисловии к «Фее хлебных крошек» автор, предупреждая нападки критиков и заигрывая с читателем, колеблется между здравым смыслом, фантазерством и безрассудством. Но и эта позиция мотивирована психологически: он всего лишь передает историю, рассказанную безумным Мишелем-плотником. Позиция здравого смысла поддерживается в новелле присутствием рассудительного шотландца Даниеля, который охлаждает возбужденное воображение поверившего рассказу Мишеля слушателя. И это тоже художественная игра, целью которой является выяснение, что есть ложь и что есть правда, что есть безумие и что есть здравомыслие, что есть жизнь и что есть смерть.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 101-105.
Произведения
Критика