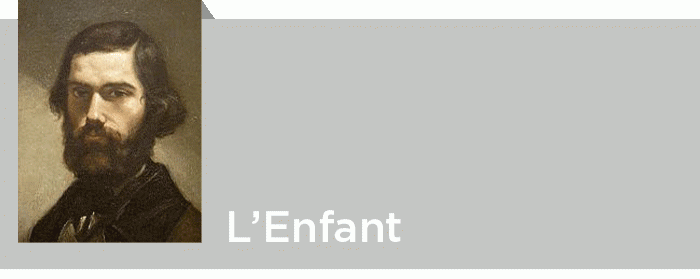Валлес и Гюго

И. Н. Артемьева
Пятнадцать лет тому назад французский исследователь Ж. Дельфо, просматривая старые номера английской газеты «Игзаминэ», случайно обнаружил статью Ж. Валлеса «„Девяносто третий год” В. Гюго», а затем нашел и ее перевод в «Ревю англо-франсэз», подписанный псевдонимом Луи Коломб. Автор с восхищением говорил о правдивом изображении Великой французской революции в романе, о гражданском мужестве Гюго, выступившего в период реакции в защиту революционеров. «Девяносто третий год» покорил его глубокой симпатией к восставшему народу, обоснованием законности революции.
Эта статья, долгое время остававшаяся неизвестной, была написана Валлесом в 1874 г., в период его лондонской эмиграции после поражения Парижской коммуны. Она вносит существенные коррективы в наши представления об отношении к творчеству Гюго как самого Валлеса, так и в более широком плане — революционно-демократической критики его времени. Между тем в отечественном литературоведении публикация Дельфо практически почти не учтена; во французских работах, посвященных Валлесу, сообщение Дельфо также не вызвало существенных откликов.
До сих пор наши представления о трактовке творчества Гюго ранней критикой были основаны главным образом на работах П. Лафарга. Как известно, в статье «Легенда о Викторе Гюго» (1885) Лафарг подверг резкой критике его «политические метаморфозы», оценивал оппозиционные мотивы его поэзии как «риторическое пустозвонство», стремясь развенчать буржуазно-либеральную легенду о Викторе Гюго как символе свободы и недооценивая объективно прогрессивную сторону творчества и общественной деятельности Гюго. Резкость суждений Лафарга была обусловлена прежде всего борьбой с буржуазными радикалами, пытавшимися использовать имя Гюго в своих политических интересах; нельзя также не учитывать присущих ему в то время элементов вульгарного социологизма.
Разумеется, позиция Валлеса, во многом предвосхитившая оценки зарождавшейся марксистской критики, также в значительной степени определялась политическими мотивами. Однако интерпретация Валлесом творчества Гюго в 1870-1880-е годы носила более объективный и разносторонний характер. К пониманию творчества Гюго, нашедшему отражение в статье 1874 г., Валлес пришел далеко не сразу. В 1850-1860-е годы, когда, он впервые стал проявлять интерес к Гюго, его эстетическая концепция была близка к платформе «искренних реалистов», Шанфлери и включала некоторые положения формировавшегося натурализма. Развитие его взглядов шло в русле позитивистской антиромантической критики, начатой «искренними реалистами», Прудоном, Флобером, Тэном, натуралистами, которые трактовали романтизм как полный отход от реальной жизни, погружение в беспочвенную мечтательность, беспредметное воображение, индивидуализм. Валлес также считал романтический метод отжившим, не отвечающим требованиям современной действительности, искажающим реальную картину мира. С полной отчетливостью он заявил об этом уже в 1857 г. в памфлете «Деньги»: «Старые формы, в которые отливали свои опасные заблуждения и нелепые банальности версификаторы, метафизики, трибуны, ораторы, — все это кажется мне конченным, мертвым, наполовину похороненным. Посмотрите, как они уходят: Шатобриан, Давид, Рюд, Ламенне... Вторая половина XIX столетия открыла новое общество с другими волнениями, с другими чувствами, с другим оружием. Что было прекрасно вчера, будет смешным завтра. Нужно идти в ногу со временем, жить в прозе, ибо так сегодня живет мир». В предисловии к памфлету Валлес начисто отверг «старую» (т. е. романтическую) литературу и философию. В ряде последующих статей он дал презрительную оценку писателям-романтикам: «Романтизм состарился и, растолстев, породил рахитичных детей»; романтики «теряются в облаках». Он иронически говорил об их стремлении к возвышенному, таинственному, оторванному от земли идеалу. «Необходимо изо всех сил сражаться с этой тенденцией к мистицизму, которая есть не что иное, как плащ бессилия или маска тирании, — заявил он в 1865 г. — Бог, бездна, хаос, тайна! Предоставим верующим говорить подобным образом».
Отвергая романтический метод и его традиции, Валлес в период, предшествовавший Коммуне, был действительно беспощаден и не всегда справедлив к великому поэту, в котором он видел вождя и как бы символ современного романтизма. Его первая большая статья о Гюго посвящена сборнику «Песни улиц и лесов» (1865), который удивил и разочаровал современников своим контрастом с предшествующими произведениями: им казалось, что поэт оставил в стороне волновавшие его прежде философские, этические, социальные проблемы; в звучных, изящных, подчас пасторальных и игривых стихотворениях Гюго воспевает очарование весны, природы, женскую красоту, разнообразные нюансы любви. (В современной французской критике «Песни улиц и лесов» оцениваются более положительно: они включаются в духовный и художественный контекст времени, отмечается их психологизм, первые штрихи импрессионистического письма, доведенного до совершенства в «Искусстве быть дедом».) Анализируя сборник, Валлес подчеркивает, что выступает «от имени правды», и видит главный просчет Гюго в отходе от жизненной правды. Уже «название книги — это ложь»; Валлес не находит в ней ни настоящей жизни улицы с радостями, горестями и проблемами населяющих ее людей, ни живых искренних впечатлений от природы. Темы стихотворений кажутся ему мелкими и незначительными, а сами стихотворения холодными, высокопарными, лишенными искреннего чувства: «Ваши грандиозные слова меня не трогают». Валлес упрекает Гюго в педантичном следовании канонам его направления, нарочитости чувств, условности образов, которые принадлежат к «семейству „уст мрака” (намек на известное стихотворение Гюго, завершающее сборник «Созерцания». — И. А.) или метят в вершины эпопеи». Манерность и вычурность он усматривает в цикле стихотворений, изображающих идиллические сценки любви, наделенные человеческими чертами деревья и цветы. Сборник «Песни улиц и лесов» свидетельствует об упадке таланта и творчества Гюго — таков общий вывод Валлеса. Статья полна язвительных выпадов против романтизма. В целом Валлес не понял сущности символического стиля Гюго. Характерно, что в том же 1865 г. молодой Золя написал рецензию на этот сборник и также подверг его суровой критике.
Мысли, высказанные Валлесом в рецензии на «Песни улиц и лесов», развиваются и в его статье «Эрнани 67» (1867), явившейся откликом на постановку в «Комеди франсэз» этой драмы, которая находилась в течение пятнадцати лет под запретом цензуры Второй империи. Ее возобновление стало возможным в связи с некоторой либерализацией режима в конце 1860-х годов. Спектакль превратился в республиканскую манифестацию, в Гюго видели непримиримого врага Империи, революционера. Валлес же, вступивший к этому времени в активную политическую борьбу с режимом, отнюдь не разделял этого энтузиазма; он полагал, что ни в теме, ни в конфликтах пьесы нет ничего революционного: «Нет ничего, что хоть отдаленно напоминало бы свободное и боевое произведение. Как! Об этой мелодраме говорят, что она — исходная точка революции!». Серьезным недостатком пьесы представлялось Валлесу то, что ее героями являются король, феодалы, благородный разбойник, даже простые люди. К тому же исторические сюжеты казались Валлесу не злободневными. Подобно «искренним реалистам», он призывал писателей обращаться к современной жизни, историям обыкновенных людей из «низших классов». Вели в феврале 1830 г., в период «романтических битв» вокруг премьеры спектакля, конфликт между легкомысленным, эгоистичным королем и благородным разбойником, представителем низов, звучал революционно, то в 1860-е годы Валлес не захотел услышать революционного звучания в исторических сюжетах.
Отношение Валлеса к произведениям Гюго в период, предшествовавший Парижской коммуне, в известной степени определялось и его недоверием к политической позиции прославленного писателя. Он вспоминал о монархических симпатиях молодого Гюго, не мог простить ему звания пэра Франции и участия в 1848 г. в Национальном собрании, открывшем Луи Бонапарту дорогу к власти. Вот почему он так решительно протестовал против того, чтобы называть Гюго революционером, а «Эрнани» — боевым произведением. Недоверие к политической позиции Гюго объясняет, очевидно, и тот факт, что ни в одной из статей Валлес даже не упоминал о его политических памфлетах, обличавших Наполеона III.
Валлес не соглашался признать новаторство Гюго даже в области драматургии, предельно узко трактуя его драматургическую реформу — лишь как отказ от классицистических единств и реформу александрийского стиха. Борьба Гюго против засилья классицизма на театральных подмостках казалась ему в середине 1860-х годов пройденным этапом.
Критикуя «Эрнани», Валлес называл себя реалистом и отвергал литературу, в основе которой лежит романтический вымысел (как его трактовали в 1860-е годы). Он видел в ней лишь патетику в изображении необузданных страстей, исключительность и порой невероятность ситуаций, нагромождение ужасов и мелодраматических эффектов. Страсти, владеющие персонажами, конфликты, двигающие действие, чужды, по мнению Валлеса, его современникам. Он полагал, что в пьесе отсутствуют серьезные проблемы, а есть лишь невероятная и пустая интрига. Утопической он считал и философско-этическую концепцию Гюго, который понимал мир как постоянное движение от зла к добру, от тьмы к свету, от лжи к истине.
Валлес вновь бросил Гюго очень существенное для него обвинение в отсутствии искреннего чувства. «Пьеса, может быть, имеет душу?» — спрашивал он и сам отвечал: «Нет!». Валлес воспринял идею Шанфлери о том, что в основе творчества лежит чувство, волнение от увиденного или пережитого. Писатель должен «искренне» и «наивно» передавать свои впечатления от действительности. Лишь таким образом, не прибегая к воображению, не думая о красоте формы, о произведенном эффекте, можно добиться, по его мнению, правдивого изображения жизни. В валлесовской апологии чувства, внимании к внутреннему миру человека некоторые французские исследователи увидели влияние на него эстетики романтизма, несмотря на антиромантические декларации Валлеса. Ж. Дельфо, сопоставив романы «Девяносто третий год» и «Жак Вентра», обнаружил в них одинаковое видение истории, чувство образа и чувствительность и даже поставил вопрос, не был ли Валлес последним крупным романтическим писателем. Представляется, однако, что сопоставление такого рода носит формальный характер. Валлес принадлежал к другому поколению писателей; его мировоззрение, понимание человека и его души, взаимоотношений человека и общества существенно отличались от концепций, бытовавших в эпоху романтизма, хотя, разумеется, как он и сам отмечал в ряде статей, писатели его поколения не могли не воспринять многое из того духовного наследия, которое создали деятели культуры предшествующих эпох.
Трактовка понятий «чувство», «волнение», «переживание» у Шанфлери и его последователей получила исчерпывающее объяснение в работах Б. Г. Реизова. Для Валлеса, как и для «искренних реалистов», требование «личного чувства» не предполагало ограничения творчества кругом переживаний одинокого, изолированного от мира индивидуума. Напротив, искусство призвано, по Валлесу, обращаться к внешнему миру. Человек живет в обществе, его душа и чувства не могут быть глубоко поняты и правдиво показаны без изображения окружающего мира. Вступая в полемику с романтическим методом (в духе его интерпретации в 60-е годы), Валлес заявляет, что нельзя «ограничиваться описанием страсти, подвешивая человека, как Вулкана, на золотой или железной цепи между небесным сводом и земной корой, не привязав его веревкой к действительности». Он настойчиво декларировал отличие своего понимания души и чувств человека от романтической их интерпретации.
И все же отношение Валлеса к творчеству Гюго уже в 1860-е годы не было однозначным. Острая критика романтического метода, многих аспектов творчества Гюго и политической умеренности сочетались в его статьях с восхищенными отзывами о его художественном гении. Валлес высоко оценивал поэтическое дарование Гюго. Так, он восторженно отзывался о Гюго-поэте в статье «Париж» (1866). «Я часто восхищаюсь Виктором Гюго», — подчеркивал он в статье «Мюссе и абсент» (1868).
В 1870-е годы, после Парижской коммуны, оценки Валлеса стали приобретать более объективный и многогранный характер, что и нашло отражение в его статье о «Девяносто третьем годе». Для Валлеса большое значение имел тот факт, что Гюго, хотя и не принял до конца Коммуну, призывал к милосердию по отношению к коммунарам во время «кровавой недели» и открыл двери своего дома изгнанникам революции. Роман «Девяносто третий год» вызвал большой интерес среди эмигрировавших в Лондон коммунаров. В марте 1874 г., вскоре после опубликования валлесовской статьи, коммунарами была организована конференция на тему: «Гюго-романист, его последнее произведение о 93 годе». Как и многие из его современников, Валлес справедливо полагал, что обращение Гюго к Великой французской революции было откликом на недавние события Коммуны. Он видел преемственность между революциями 1789-1794 гг., 1848 г. и Коммуной и попытался оценить роман в свете идей и опыта Коммуны.
И в этой статье Валлес по-прежнему не принимает романтический метод Гюго и упрекает его в «библизме фраз, в результате чего идея тонет во тьме или тумане. Торжественная и расплывчатая манера плохо сочетается с ужасающей точностью происходившей драмы». Аналогичные упреки будут встречаться и в более поздних статьях Валлеса. Так, в 1878 г. он поддержит Золя, когда тот в своих литературно-критических статьях «наступил на трепещущий хвост романтизма». Сражаясь в 1870-1880-е годы за создание нового свободного искусства, открыто связанного с народной борьбой за преобразование мира, Валлес иногда вновь заявляет, что поэзия Гюго далека от реальной жизни, труда и борьбы народа: «Новая Франция, приходящие поколения, поднимающийся народ требуют иной поэзии, чем романтическая поэзия с ее манией идеального, так же, как иного театра и иного романа».
И все же пафос поздних статей Валлеса о Гюго, начиная со статьи о «Девяносто третьем годе», состоит в другом. Одну из главных заслуг Гюго Валлес видел в том, что писатель с сочувствием изобразил потерпевших поражение революционеров, восставший народ, «погибших, чья агония была ужасной, а память проклята. Он показал пример беспристрастности историкам будущего».
Самое пристальное внимание Валлеса привлекает решение Виктором Гюго проблемы соотношения гуманных целей революции и жестокости, неизбежной в процессе ее свершения. Пережив Коммуну, Валлес понял, «как ветер гражданских распрей колеблет весы гуманности». Во время недавних событий Коммуны он страшился революционного насилия, пытался смягчить меры, принимаемые против сторонников Версаля. В этом сказалось его увлечение в 1860-е годы теориями Прудона. Осмысляя в эмиграции опыт Коммуны, Валлес стал глубже разбираться в классовых противоречиях буржуазного общества, пришел к осознанию неизбежности насилия в революции. Если в статьях 1860-х годов Валлес безоговорочно осуждал якобинский террор, то в статье, посвященной роману Гюго, он пришел к выводу, что революционеры были «секретарями суда, а не палачами». Называя их секретарями суда, он как бы утверждал законность насилия против врагов революции, насилия, вызванного напряженной классовой борьбой. Примечательно, что наиболее интересным героем романа Валлес считает не Говена, движимого идеями гуманности и высшей справедливости в революции. Он почти не останавливается на этом столь важном для Гюго образе, однако замечает, что гуманность Говена обращается в предательство — спасая Лантенака, он обрекает страну на продолжение гражданской войны: «Вандея сохранила голову потому, что этот революционер обладает сердцем». Валлес не подвергает анализу философско-этические проблемы, лежащие в основе конфликта Говена — Симурдена, в поступке Говена он видит лишь проявление слабости. Его внимание обращено на сторонника беспощадности к врагам революции — Симурдена.
С глубоким одобрением Валлес подчеркивает сложность образа Симурдена, сочетавшего доброту и чувствительность с твердостью и даже фанатизмом, когда речь шла о защите революции. В то же время он упрекает Гюго в том, что тот «не завершил» роман: самоубийство Симурдена в конце романа представляется ему идейной и художественной неудачей Гюго. Хотя автор «Девяносто третьего года» и признавал историческую неизбежность революционного насилия, он оставался сторонником нравственного совершенствования человечества как основного пути к преобразованию мира, бескровного утверждения идей свободы и справедливости. В романе идея гуманности и высшей справедливости в конечном счете побеждает принцип террора, революция очищается от насилия самоубийством Симурдена, который как бы сам осознает ошибочность своей прежней позиции. Валлес не принимает подобного решения конфликта. Он критикует Гюго и за то, что решение конфликта между беспощадностью революции и ее гуманными целями перенесено в романе из конкретного социально-исторического плана в план философско-эмоциональный. По его мнению, Гюго не показал достаточно глубоко сущность Вандейского мятежа, эгоизм и своекорыстие его главарей, суеверие и забитость поддерживающих их крестьян.
Однако высказывая о романе ряд критических мыслей, Валлес в целом дает «Девяносто третьему году» чрезвычайно высокую оценку. Пафос романа, по мнению Валлеса, заключается в изображении революции как широкого народного движения, и он приветствует Гюго именно за то, что он взволнованно и убедительно нарисовал «толпу безымянных и эксплуатируемых людей, которые прежде умели лишь подавлять свои страдания, чтобы петь хвалу хозяину... но которые с 89-го, с 93-го года стали называться Народом». Валлеса не интересуют эпизоды романа, происходящие в Конвенте, характеристики исторических деятелей — Марата, Дантона, Робеспьера. Его привлекают глубоко человечные образы рядовых участников революции — солдат батальона «Красная шапка». Его волнует трогательная история вдовы Флешар и ее маленьких детей (Валлесу по-прежнему присуща некоторая сентиментальность, роднившая его с «искренними реалистами»), Валлес восхищается символическим образом восставшего народа в сцене морского сражения, в которой Гюго как бы воплотил свое эпическое видение истории.
Уже в 1860-е годы Валлес утверждал, что литература призвана обращаться к народу, изображать народную жизнь; после Коммуны эта мысль стала одной из центральных в его литературно-критических статьях. Поэтому с таким восхищением он отмечал демократическую направленность творчества Гюго: начиная с романа «Отверженные» (так полагал Валлес) он отказался от историй из жизни аристократов, «добавил к своей лире металлическую струну» и «встал на защиту несчастных и оклеветанных».
Таким образом, если в ранних статьях Валлес не всегда проявлял при оценке творчества Гюго историческую чуткость и, участвуя в острых литературных полемиках, порой неоправданно резко отзывался о нем, то рецензия на «Девяносто третий год», как и последующие статьи о Гюго, свидетельствует о том, что Валлес по достоинству оценил не только литературный талант Гюго, но и осознал общественное значение его произведений, глубокий демократизм и с гораздо большей объективностью, чем прежде, охарактеризовал роль Гюго в развитии передовой французской литературы. Внимательный анализ статей Валлеса о Гюго во многих отношениях дополняет историю восприятия Гюго революционно-демократической критикой Франции.
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия 2. – 1987. – Вып. 3. – С. 48-54.
Произведения
Критика