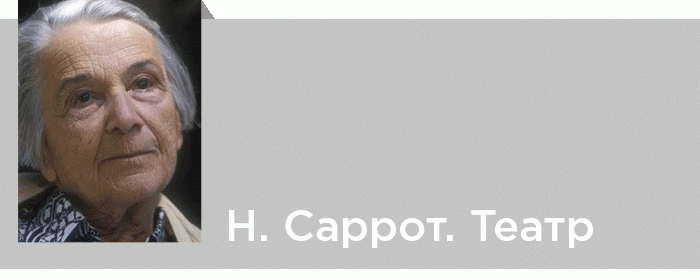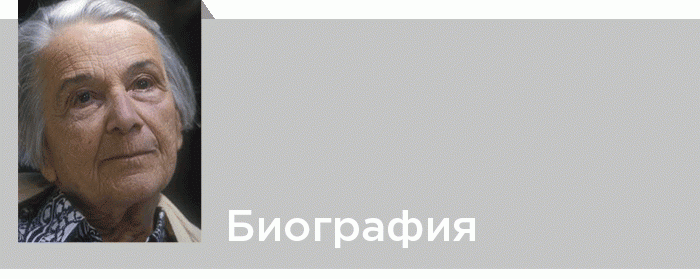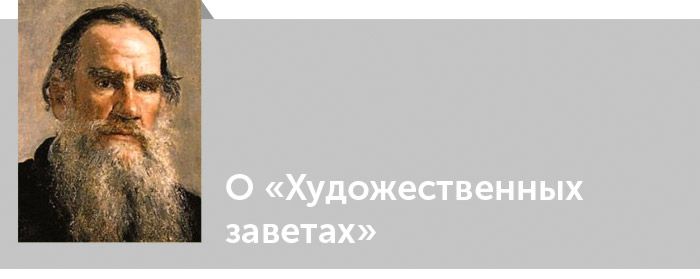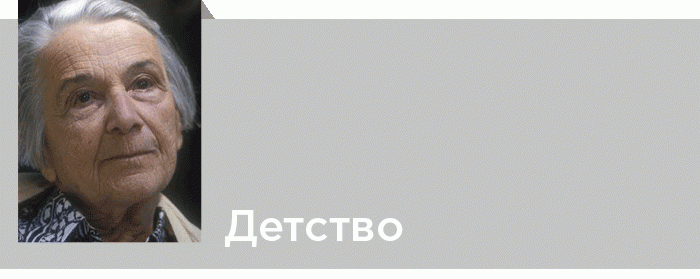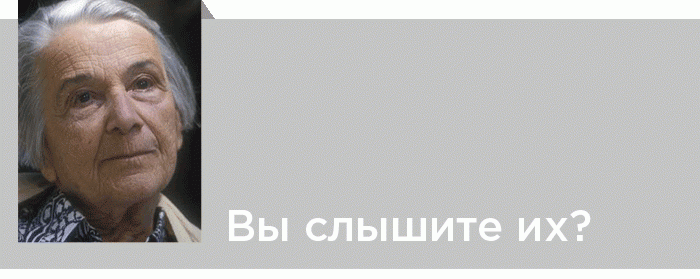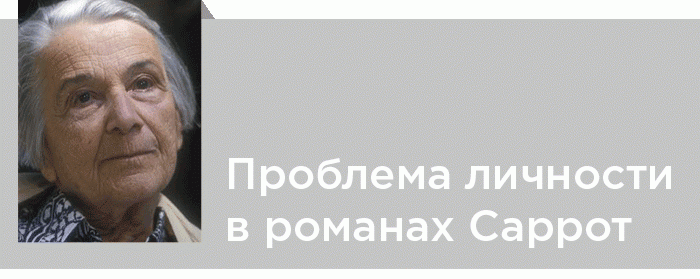Натали Саррот. Золотые плоды

(Отрывок)
—Послушай, ты вел себя ужасно, неужели нельзя было сдержаться… Мне стало так неловко...
— Неловко? Что за чепуха? Почему неловко, черт возьми?
— Все это ужасно... эта открытка, эта репродукция... с каким видом он ее достал... А ты бы посмотрел на себя: взял ее в руки, сунул мне не глядя, даже не посмотрел в его сторону... Он был так обижен...
— Обижен... подумаешь! Обиделся, потому что я не впадаю в экстаз, как они все, не падаю ниц…
Падать ниц всем, сразу, в экстазе... возгласы хором... чудо единения... До чего странные люди... Вот он засунул руку в нагрудный карман и вынимает... Тут тебе надо бы обрадоваться, как радуется врач, когда приходит конец его сомнениям и он видит там, где и предполагалось, крошечный прыщик, сыпь... надо было обрадоваться, когда он достал из внутреннего кармана, у самого сердца, именно это и протянул тебе, жадно блестя глазами, предвкушая эффект: «Вы видели этот рисунок?.. Курбэ... Изумительно... Взгляните...»
—Смешно. Чудак он. Понимаешь, это же та самая репродукция... теперь они все держат ее у себя дома…
Прикноплена на серых с розами обоях, над письменным столом — для вдохновения — или над камином, меж зеркалом и рамой, и везде — о, чудо! — та же самая… А какие у них становятся лица... какие ужимки... Застенчиво… Гордо... Это мое открытие... Моя находка... Мое маленькое тайное сокровище. Не расстаюсь с ним никогда. Новы, вы... с вами можно... Вы вполне достойны... Вам я могу без боязни: это не профанация, не принижение... С вами, только с вами поделиться. Дарю. Подношу вам. Лучшее, что у меня есть. Крупная голова, выпуклые глаза, толстые губы — трубочкой... и — приглушенным голосом, с трепетом: «Курбэ. Единственный. Самый великий. Да, я утверждаю. Я не боюсь этих слов. Он — величайший гений. Шекспир и он. Всегда говорил и говорю: Шекспир и Курбэ».
— Что же, по-твоему, — он повысил голос, — я позволю собой вертеть? Мне в высшей степени безразлично — пусть обижается. Не люблю, чтобы меня учили... Считали за дурака.
— Право, я тебя не понимаю. И никогда не понимала, как ты можешь принимать все это так близко к сердцу? А мне всегда до того боязно. Особенно с ним. Да и вообще с ними со всеми… Честное слово, я просто не знаю, куда деваться. Мне всегда кажется...
— Да, на тебя и смотреть было смешно... Вся подалась вперед... с таким благоговением, так серьезно... Будто перед причастием... А голосок… «Ах, да... Прелестно... Где она? В каком музее? Да, да... Великолепно…» Нет, ты меня рассмешила... А сама и не смотришь.
— Да, не смотрю. Я из вежливости. Может, если бы не ты, я бы тоже не так... Но мне за тебя неловко, не могу я…
— А вот представь себе, по-моему, ты вела себя с ним нехорошо... Ты не права... Я, например, вовсе не презираю его...
— А я презираю? Ты с ума сошел!
— Вот именно. Презираешь. «Ах, бедняжка, надо с ним помягче. Он так страдает от своего снобизма, от своей глупости... Не надо трогать... больное место. Не замечать ничего, так стыдно... А он такой чувствительный, страшно дотронуться...» Ты с ним обращаешься, как с психическим больным. Да и все ломают с ним комедию. Вы мне напоминаете пьесу Пиранделло, помнишь — санитары изображают придворных? Он — слово — и все в восторге. Он несет чепуху — и все соглашаются, пряча глаза. А он рыщет взглядом, нет ли где несогласных. Он их не терпит. И чуть кто пытается взбунтоваться — все на него, скопом... Все, как ты: «Ах, мне неприятно... Я разволновалась». А я вот не разволновался... С такими вещами не шутят, я этого не люблю... Курбэ тут ни при чем... Не в том дело... Я сам ходил его смотреть, нашего знаменитого Курбэ, нарочно ходил во время завтрака, чтобы никого не встретить. Посмотреть спокойно, со свежей головой. Невозможно! От них не удерешь... Уже на лестнице — иду наверх, а он спускается — этот Дюлю, ну, критик, пишет бездарные статейки и всегда невпопад... А тут он сразу — палец вверх: «Что, будете смотреть?.. Какая выставка, а? Вы в первый раз? Вот увидите. Первоклассно. Грандиозно. Потрясающе... Только умоляю, не пропустите... там, в конце, в малом зале... крошечное полотно... внизу слева...» Это уж он сам открыл, лично. Это его заслуга: «Голова собаки. Вот увидите. Молчу, молчу!»
— Но ведь им и вправду это нравится... Уверяю тебя. Им хочется с кем-нибудь поделиться... По-моему, это даже трогательно.
— И я знаю эту потребность — непременно делиться, общаться. Да, все это прекрасно, все это очень хорошо... Но такой тип, как Дюлю — нет, не смеши меня...
Узнают друг друга с первого взгляда. Люди одного круга, не так ли? Те же закрытые клубы, те же салоны. Те же портные, поставщики. Тот же цветок в петлице, те же гетры и шелковые жилеты, тот же монокль в глазу. Но эта маленькая деталь, этот чуть заметный признак изящества... такой смелый, такой тонкий штришок... редкий вкус, изысканность... «О, пустяк... Только вам, строго между нами... пройдите туда, скажите — от меня, — что вы, что вы, пожалуйста! — и там, в глубине, слева... Никто не замечает, но я вам советую. Поразительная вещь, вы просто влюбитесь: голова собаки...»
«А голова собаки? Вы ее видели?.. По-моему, восхитительно... По-моему, просто чудо... Одна эта маленькая вещь могла бы...»
Да, эта маленькая вещь объединила всех... восторги... слияние душ, единство... Кажется, и я поддаюсь... щекочет нервы, изумительно... Подступает, накатило... Возгласы... Экстаз... Ну же, давайте, все вместе, громче... Еще, еще. Вперед. Теперь и я лечу со всеми вместе, сметая преграды, срывая тормоза... До конца... Меня ничто не удержит .. ни жалкая боязнь смешного, ни леденящий страх стыда. Еще. Я поддаюсь, я охвачен восторгом... А он, вон там... смотрите. Он впадает в транс... в него вселилось божество, он в конвульсиях, закатил глаза, на губах пена, катается по земле, рвет на себе одежду... «Для меня...» Он бьет себя в грудь... «Для меня, я не боюсь сказать... нет ничего выше. Курбэ — самый великий. Шекспир...» Последний спазм. Все тело — дутой: «Шекспир и Курбэ».
— Слушай, меня от этих людей мутит. Стадо овец, отвратительно... Мне осточертели их вопли, их истерики. Все преувеличено, и восторги и похвалы... Главное — переплюнуть друг дружку. Только послушать их. Он один, нет ему равных ни среди современных художников, ни среди старых мастеров. Величайший гений мира. И все это всерьез, понимаешь? Никто не улыбнется. Им все нипочем, они не боятся быть смешными, да и кто им судья? Они всегда правы, будьте спокойны! И если кто осмелится им перечить... Ты видела, как он на меня посмотрел? Да если бы я даже боготворил Курбэ... у него действительно есть прекрасные полотна... все равно я бы промолчал. Этот их Беллок, который хвалит самую жуткую пачкотню... А Мазиль… всегда бьет мимо. Любую дрянь превозносит до небес….Но об этом ни слова. Молчание. Им все сходит с рук. И горе тому, кто посмеет напомнить…Ты себе представляешь – неуч, тупица вдруг спросит: « Неужто мнение Мазиля имеет значение? Помните, как он расхваливал этого маляра?...» Фу, как он смеет…Ату его! Ату! Какой ужас! Какая непристойность! Разве можно так оголяться? Нельзя же… напоказ… Вот ты меня считаешь безжалостным, грубым… Но я бы и то не стал… Слишком легко их уязвить… Ведь в душе я такой же, как ты… Мне их как-то жалко…
— Тебе — жалко? Вот мне было действительно жаль его, когда ты с таким видом... А он как будто весь раскрылся... такой беспомощный, беззащитный. Мне казалось, ты пользуешься его слабостью... не знаю... так грубо... Да, уверяю тебя, в тебе было столько превосходства, высокомерия... Мне вдруг стало ужасно его жаль...
...Так мягко, деликатно, немного боязливо. Смутно чувствуя какую-то враждебность, угрозу, стараясь, напрягаясь, не жалея сил, только бы их обезоружить, задобрить, отдать им все, да, все, что угодно... вон то, или нет — вот это... Все вам, вот... кладу у ваших ног... все, что я видел... все, что знаю... фильмы, пьесы, романы, концерты, выставки... Ну как, вам нравится?.. Угодил?.. Хоть бы отвести от себя... хоть бы... слабая надежда — да смогу ли я, удастся ли мне... До чего трогательно это детское упорство, эта наивность... удастся ли увлечь вас, захватить?
Робкая улыбка сразу гаснет, доверчивый, дружественный взгляд вдруг тускнеет, туманится, подергивается влагой, в нем беспокойство, удивление... Вот животное — ничем его не смягчить, бесчувственный, бесстрастный, улещивай его сколько угодно. И тут последняя попытка... рука во внутреннем кармане... вынуть это сокровище... талисман... тайный знак. Ведь мы же братья, правда? Я знаю, знаю... Я вам несу святые дары... Я подаю вам хлеб-соль...
— Нет, ты был несносен... Ты был невежлив. Потому тебе всегда хочется наказать человека, если он чему-то поддался хоть немного, зачем силой заставлять его быть независимым? Ты его задел, ты его обидел... Мне было больно смотреть — он так съежился...
— Ничуть он не съежился... Впрочем, вполне возможно, что он и съежился. От презрения. От отвращения... А на тебя смешно было смотреть, до чего ты старалась сгладить мою «промашку», выпросить за меня прощение. А по-моему, он мне надерзил... вдруг переменил тему, завел разговор про отпуск...
— Конечно, ведь ты сам показал, что отвергаешь его дары. Ты не захотел побрататься с ним... Вот он и попытался найти другую тему...
— Другую тему, хо-хо! Вот именно. Другую тему. Доступную моему пониманию. Поездки — вот это для меня. Еще немного — и он стал бы обсуждать со мной марки автомобилей: это доступно! Но до чего ты перепугалась... Не выдержала...
— Да, не выдержала, не могла...
Земля разверзлась. Гигантская пропасть. И он на той стороне, он удаляется, не обернувшись... надо крикнуть... позвать... пусть обернется, пускай возвратится... ах, не бросайте нас... мы идем к вам, на ваш берег, помогите, помогите, мы идем... хватайте конец... еще одна попытка... доверьтесь нам еще раз... Скажите, а вы читали?.. Что вы об этом думаете?..
— А самое потешное, когда ты его спросила... мало тебе было разговоров, нет, надо нарочно его втягивать... когда ты его спросила про эту книжицу...
— Про «Золотые плоды»?..
— Да-да, про них. Я подумал, проверяешь ты его, что ли? Хочешь узнать, действительно ли он такой... что он думает. И ты про книгу... Что у тебя было на уме? Что ты вообразила?
— Абсолютно ничего. Мне и дела нет до его мнения. Просто хотелось его успокоить. Вернуться в его дом, в его вотчину...
Опоздала... Он не поддался. У него до сих пор стоит поперек горла, что я не глядя передал тебе репродукцию и слова не сказал... Опоздала ты. Смешно было смотреть, как он с ледяным видом процедил сквозь зубы: «Да. Читал. Очень неплохо». А чего другого ты ждала? Ведь эта v книжка — последний крик моды, да? Статья Вернье была? Рамон про нее писал? Что же еще он мог тебе сказать?
— Ах, не в этом дело... Ты не понимаешь. Я надеялась, что завяжется разговор... Невыносимо было чувствовать, что все пути отрезаны...
Часами, без устали, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на чуть напряженных лицах, они раздувают пламя внимания, они питают его всем, что у них есть, черпают из своих сокровищниц — полными охапками, полными горстями, — отдавая все свои богатства, все клады — не жалеть, не жадничать, все отдать! Но вдруг у одного из них пламя, едва заметно трепеща, сникает, гаснет, и тот, другой, который неустанно следит за этим пламенем, продолжает, будто ничего не случилось, веря, что пламя снова вспыхнет, зная, что его не оставят во тьме, не дадут ему заблудиться, без помощи пропасть во мраке, и, стараясь не сбиться, найти верный путь к этому пламени, он идет к нему, вслепую, смело, напрямик...
И пламя снова вспыхивает... вздрогнуло, заметалось и опять ожило — ведь это была только минута слабости, усталости, не бойтесь, вот оно снова горит. «Да-да, я вас слушаю, вы правы, я тоже так думаю... мне тоже очень-очень понравилось... вот только конец как будто... Нет? Вы не считаете? Должно быть, вы правы... Непременно перечитаю, подумаю...»
Тебя ломает, все тело ноет, но надо держаться во что бы то ни стало... смелей... еще усилие... ближе... вот... — и рука погружается во внутренний карман, вынимает репродукцию, протягивает ее... И вдруг — грубый отпор... Ледяной порыв ветра... Все гаснет... Черная ночь... Где вы? Отвечайте. Мы здесь, мы, оба. Слышите, я вас зову, ответьте же мне! Дайте знак, что вы еще здесь. Ау! — кричу я изо всех сил. «Золотые плоды» ~~ вы меня слышите? Что вы о них думаете? Неплохо, правда?» И унылый голос, как эхо, отвечает: «Золотые плоды»? — Неплохо...»
Пустынные улицы. Стучат шаги. В домах темно, но какое счастье, сама судьба, нежданная удача — то окно, его окно еще светится... Ну, жребий брошен... Парадное открывается, лампочка зажглась, две ступеньки, стеклянная дверь, лестница — взлететь сломя голову... нет, зачем?., где это видано?.. Это только так говорится — сломя голову, но кто же так ходит? Вот как надо — спокойно, только не думать... ни о чем не думать... через две ступеньки, нет — ступенька за ступенькой... Палец тянется к звонку. Нажимает. Звонок. Вот оно... Шаги приближаются... Нет, не хочу, стойте... Но дверь открыта... Взять себя в руки, собраться...
— Ничего, не пугайтесь, увидела свет, решила, что можно... Забыла перчатки... шарф... кажется, здесь...
Нет, поздно, отступать некуда. Да не толкайте меня, дайте хоть минуту собраться, решиться, ну вот, я разжала пальцы, наклонилась над пустотой, я отрываюсь, под ногами пропасть, лечу, лечу...
— Нет, не в том дело... Я вернулась, чтобы вас спросить... Вы будете смеяться... Это безумие... Но я хочу знать... Я страдаю, понимаете? Я хочу, чтобы вы со мной поговорили... Вот вы только что мне ответили: «Золотые плоды»?.. Неплохо...» И мне показалось, что тон у вас... Умоляю вас, скажите, не отказывайте мне... Вы, только вы можете мне помочь... Для этого я и вернулась...
...В общей палате — растрепанные женщины, волосы — сухими космами, одни бьют себя в грудь, кривляются, хохочут, задирают юбки, показывая худые серые икры, вертят задом, другие стоят, вытянув руки, неподвижно, в кутерьме и шуме, словно изображая статуи в живых картинах — кататония, эпилепсия, истерия, смирительные рубашки, души, удары, свирепые надзиратели...
...Но это ничего, мне все равно, я не боюсь... Мне необходимо, чтобы вы мне сказали... Вы обиделись, правда? Скажите. Дайте мне ответ. Вы отшатнулись от нас? Вы подумали... Что вы подумали?.. Несомненно, вы подумали то же, что и я... Отвечайте же, это необходимо. Вы молчите. Ага, молчание — знак согласия... видите, я угадала... Вы подумали, что вас считают... Все вокруг пылает, обжигает тело, лицо... Но я должна схватить, вытащить из костра, спасти... вот оно... дайте мне подойти... Только протянуть руку... пустите... Вот я взяла, схватила... позвольте... Вы обиделись на нас за Курбэ, вы хотели отойти, сжечь все мосты... А когда я попыталась подойти, протянула к вам руки, когда я вас спросила о «Золотых плодах»... вы хотели нас оттолкнуть, показать, что уже поздно, что разрыв окончателен... Нет, не говорите ни слова, если неохота... Только подайте знак, большего я не прошу, только мигните, прищурьте глаз... И я буду спокойна. Мир. Я буду спасена. Мы будем спасены. Навеки. Вечное спасение. В нетленном свете. В небесах. Созерцая лик божий.
Ах, значит, ничего этого не было? Вы ничего не подумали? «Золотые плоды»?.. Неплохо!» Вот все, что вы сказали. Больше ничего. Вот что вы мне бросили, вот чем я должна довольствоваться, вот что вы бросаете голодным, чтобы от них избавиться, вы, вы, такой богач, владелец стольких сокровищ. И вот все, что мне досталось: вы считаете, что «Золотые плоды» — это неплохо. Что же мне еще надо? Не станете же вы читать нам лекции, объяснять... Вот что вы мне выдали — мелкую денежку... как ее ни верти, ни разглядывай — непонятно, откуда она... Я таких не видела... Наверно, вы привезли эти монетки из дальних стран, но я там никогда не бывала... А тут они не в ходу, тут, где я живу, — и вы это знаете. Что же прикажете с ними делать? Берите их себе. Вот, возвращаю вам. Мне они ни к чему.
...Знакомые образы вновь обретенной родины... Они излучают нежность, от них веет покоем. К ним устремляется путник, возвращаясь из диких краев, узник, выпущенный на волю... вот они, все тут, на месте, приколоты к стене над письменным столом. Вот Верлен в пелерине, со стаканом абсента сидит на клеенчатом диванчике в старом кафе, вот Рембо с легким галстуком, развевающимся на ветру, Андре Жид — узкие щелки индейских глаз из-под широкополой мексиканской шляпы... И эта...
— Ага, вы ее прикололи... я тоже... не расстаюсь, всегда со мной... Восхитительно, правда? Я считаю — вы со мной согласны? — что Курбэ никогда ничего прекраснее не создавал... — Его пальцы, словно лаская, чертят в воздухе. — Особенно эта линия... Вся эта часть... Поразительно, вы не находите? Вообще для меня Курбэ, честно говоря...
Длинная узкая голова наклоняется. Что-то мелькает в лице... словно едва уловимая ирония... Во взгляде — удивление... Что с вами? Что это на вас нашло? Неужто здесь, среди своих, еще надо как-то выражать... объяснять... Разве это не ясно само собой?
Верно, как это он забыл? Ведь они тут у себя дома, в родной стране, в стране цивилизованной, где уважают истинные ценности, воздают по заслугам, где царит справедливость, торжествует правое дело. Но как объяснить тому, кто никогда не сталкивался с произволом, с обскурантизмом, с варварством? Откуда ему понять, как он может даже предположить — и как посметь признаться ему в этом?
Так блудный сын, еще пахнущий сырыми углами, пропитанный запахами нищеты, застиранного белья, дешевой помады, липучих духов, алкоголя, наркотиков, блевотины, испытывает мучительный стыд, когда, подняв голову над тонкой, чуть благоухающей духами рукой, он видит серебряные локоны матери, ее все еще стройную шею, стыдливо охваченную бархоткой, и встречает доверчивый взгляд ее глаз.
— Если бы вы знали, какое наслаждение быть подле вас, здесь, до чего я счастлив, что вы тут... Вам трудно понять... для вас это непонятно... с вами такое никогда не случалось... Знаю, так бывает только со мной. Помните, мы как-то об этом говорили, а может быть, я только собирался вам рассказать? Есть люди, с которыми нельзя встречаться, их надо избегать, они — яд, от них остается оскомина... Даже наутро отвратительное состояние. Будто смотрел скверную пьесу, скверный фильм... Знаете, как после дурного ужина... язык обложен... Они тебя пачкают... Унизительно...
«Скажите, а «Золотые плоды» вам нравятся?..» На длинной, худой шее — маленькая головка, гладкое, чуть старообразное лицо примерной девочки... приторная бесполая физиономия ханжи... «А «Золотые плоды» вам нравятся?» Голос — как тонкий гибкий зонд, она вводит его осторожно, деликатно... Еще немного — и она засюсюкает, как с младенцем. Я, мол, все понимаю, знаю, как к нему подойти... Знаю, что кому подходит... Вот что нужно ему подсунуть. Смотри, я ему подношу вот это... увидишь, тут он не будет сопротивляться... Ты его спугнул, и зря, но я все улажу... «Золотые плоды» — вот то, что ему надо, это точно.
— Есть люди, которых нипочем нельзя подпускать к себе. Паразиты, которые сжирают в тебе самое сокровенное. Одолевают тебя, как микробы... Конечно,, я уверен, что вы никогда... Вы бежите от них, как от чумы... Что я говорю — бежите! Для вас они просто не существуют...
— Да, разумеется, я избегаю неприятных мне людей . насколько возможно, я не люблю тратить на них время...
— Знаю, знаю, я так часто наблюдал за вами. В вас живет инстинкт самосохранения... Завидую. Восхищаюсь вами — вы так умеете избегать лишних контактов, так держитесь в стороне.
— Но кто же и вам мешает? — Уже в снисходительном взгляде суровость, на тонкой переносице — морщинки, легкое отвращение на лице: — Зачем вы с ними связываетесь?
— Ах, зачем... Вот именно — зачем? Да, зачем?
Но разве есть такой декрет, такой закон, разве есть распоряжение свыше, которое дает ему право отказываться от встреч с этими милейшими людьми, с людьми такой культуры, такими достойными, интеллигентными? Что они сделали, чем настолько нарушили правила, законы, обычаи, что к ним надо применять такие жестокие меры, лишать их всех человеческих прав?.. Отвечайте! Что они вам сделали? Какие у вас основания? Какие улики? Никаких, верно? Тут уж только ваша утонченность, ваша сверхчувствительность. Вы даете волю каким-то своим неуловимым впечатлениям. Ни один нормальный человек этого не почувствует, никто вас не поймет. Но вы так углубляетесь в свои переживания, так нянчитесь с ними. Да, конечно, вы такой утонченный, такой деликатный... Нет, пожалуйста, не думайте обо мне плохо, не осуждайте меня. Уверяю вас — я себе ничего не позволяю. Абсолютно ничего. Никакой небрежности, никакой бесцеремонности, ручаюсь вам. Я прекрасно знаю свои обязанности, свой долг... Ах, как я тронут... какая радость, как мило с вашей стороны... давно не виделись... Прелестные люди... такие простые, открытые, такие доверчивые, у него в гостях. Под его крышей... Они ему вверили эти минуты, эти драгоценнейшие, священные моменты своей жизни. Он сделает все, что может, он будет достоин их доверия, можно на него рассчитывать. Он принимает эту честь... поклон... разрешите взять ваши пальто... Вам не жарко? Ах, прохладно? Погодите, сейчас, вот сюда, к камину, садитесь, пожалуйста, нет-нет, сюда, тут вам будет удобнее... кресло, подушки, портвейн, виски... Они немного стесняются... как-то сжались... кажется, их что-то переполняет и они стараются сдержаться, не дать себе воли... Что же это? Подозрительность? Враждебность? Что-то есть в нем самом, от него что-то исходит, проникает в них, и там что-то прорастает, растет. Ему хочется отвернуться, опустить глаза... Смешно, нет, просто глупо: как тот герой — откуда это? — который всегда опускал глаза, чтобы не ослепить людей светочем своего ума... какая чепуха... Смотрите — нет ничего, нет во мне ничего такого, что мешало бы посмотреть вам прямо в глаза. Видите — я гляжу на вас, мы равны, мы равны, мы абсолютно одинаковые, вы это знаете... Вы и чувствуете, как я, вы все понимаете, как я, а может быть, и лучше меня... Зачем же мне ломать комедию? Зачем вас обманывать? Какое я имею право скрывать от вас... Что же в вас таится, что может помешать мне поделиться с вами тем, чем я делюсь со всеми? Для вас, как для всех моих друзей, я поищу, я выищу для вас из всего, что знаю, из всего, что вижу... выжму, высосу... все для вас... погодите... сейчас я вам покажу... Рука погружается во внутренний карман пиджака. Внимание... Но инстинкт самосохранения вспыхивает, удерживает его руку. Стоп. Осторожно. Не делай глупостей. Это чужие, это враги, они насторожились, словно чувствуют невидимую угрозу, незримую опасность... Ни в коем случае нельзя рисковать, не то вызовешь... Что вызовешь? Бред, фантазия, искушение. Изыди, сатана. Власяница, вериги, осенить себя крестом, преклонить колена, избави нас от лукавого... Вот... Молитва услышана. Он очистился, он безгрешен. Смиренно, покорно он подчиняется, он выполнит послух. Рука подчиняется... она опускается во внутренний карман. Достает... так и надо... так и полагается, ведь ты принимаешь у себя милейших друзей... их все так интересует...
— Этот Курбэ... Не знаю, видели ли вы его? Изумительно, правда?
Ни малейшего признака интереса. Чужая рука берет открытку двумя пальцами и передает ее. Молчание. Да, вот именно. Молчание. Ни слова. Взял репродукцию и передал ее, не сказав ни слова. Но что же тут такого, скажите на милость? Где же тут презрение, сдержанность? Какая тут скрытая издевка? Перестань выдумывать, слышишь? Ты опять за свое? Простой человек, понимаешь, обыкновенный честный малый, знающий цену таким вещам, взял у тебя из рук репродукцию — ты сам ему подал — и, взглянув на нее... Нет, он почти и не взглянул... Хорошо. Пускай. Вероятно, он ее знает. Человек он тонкий, культурный. Ничего не сказал? Но ведь молчание — знак согласия. Промолчал из уважения. Из скромности. Считает свое мнение несущественным. Думает, никому оно не интересно. Это делает ему честь. Он человек прямой. Он из тех простых, искренних людей, которые не любят пустых фраз, притворства...
Простой. Скромный. Искренний. Полный уважения. Молчание — знак согласия. Хорошо. Пусть будет так, сдаюсь. У меня галлюцинации. Опасные симптомы мании преследования. Хорошо, больше не буду, даже когда это бьет в глаза. Даже когда это вопиющая явь, даже когда она наклоняется над репродукцией, словно подавленная, когда она пищит от восторга, а он на нее смотрит с изумлением, — хорошо, я ничего не думаю, никакого сговора между ними нет, никаких тайных знаков они не подают, ничем они не показывают, что мы бесконечно далеки друг от друга, что они откуда-то издалека видят меня, всего, целиком, заключенного в их поле зрения. Нет, не то. Они тут рядом. Так близко, что видят меня не всего целиком, им виден только я, таким, каким я себя им сейчас показываю, крупным планом, — ясным, доверчивым, чистосердечным взглядом я смотрю на них — глаза в глаза.
— Зачем я с ними встречаюсь? Сам не знаю. От глупости, наверно, от безволия. Конечно, это дико... не знаю, как вам объяснить... Во мне есть нелепое чувство равенства. Я принимаю их на веру. Говорю с ними о том, что мне ближе всего... Пытаюсь затронуть их лучшие чувства... Мне всегда кажется, что я сумею их убедить... Что надо лишь показать... кому угодно... Вот, взгляните, какое чудо. Этот Курбэ...
— А «Золотые плоды» вам нравятся?.. — Тонкий, сладкий голосок так вкрадчиво, осторожно пытается проникнуть. Именно то, что ему нужно... вот увидите... я-то знаю, как к нему подойти... Настороженный, ищущий взгляд... Что ж, она не ошиблась, пусть все видят, пусть слышат, сейчас крикну во весь голос: «Да, нравятся! Слышите, нравятся!..» Стоп. Смирно. Ни с места. На караул! Да, нравятся. И никаких объяснений. Я такой. Смотрите — вот я какой, видали? Да, мне нравятся «Золотые плоды», как вы уже догадались. Все. Точка. И я вам запрещаю приставать ко мне. А теперь — вон отсюда! Подите прочь! Насмотрелся я на вас, кончились мои причуды. Позабавился, дал вам приблизиться, захотелось снизойти до вас. А теперь — марш на место, в людскую, в подвал. Здесь господские покои.
— Фу, не стоит о них думать, довольно. Ну их к черту! Все. Мне сейчас на них наплевать. Забыл. Мне тут так хорошо, все свои... Лучше скажите мне, я давно хотел спросить... по правде сказать, я книгу не читал, времени не было, только пролистал... хотелось бы от вас узнать: эти «Золотые плоды» — что вы о них думаете?
— Изумительная книга. Кстати, я сейчас о ней пишу... Задумал статью... И-зу-ми-тель-но...
Какой-то привкус в этом слове, чем-то оно не вяжется с этим человеком — у него такое хорошее, усталое лицо, у этого старого друга, такие добрые, выцветшие глаза, а в этом слове есть что-то высокопарное, глупо-самодовольное, немного смешное... Он смешон... Слышишь?.. Они подслушивают за дверью, они тут, настороже... И-зу-ми-тель-но... Слово отдается в них, отскакивает назад, ко мне, усиленное, искаженное. Изз-ззу-ми-ии-тель-но!.. Они толкают друг дружку под локоть, гогочут... ишь, как он самоуверен... какой тон... не терпит возражений... приказ отдан. Главнокомандующий принял решение. А тот, наш, сразу... Что я тебе говорила? Знаю я его! Вот увидишь...
Нет, нет и нет. Ничего вам не увидеть. Я свободен, слышите? Абсолютно свободен. Независим. Меня не проведешь. Никто мне ничего не навяжет...
— Неужели? А вот для меня эти «Золотые плоды»... Что-то я в них не верю... столько разговоров... Лемэ в восторге...
Не боюсь я этого взгляда сквозь прищуренные веки, хоть он и вонзается мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, я подхожу — смотрите все! — прямо к столу, где на крупно исписанных листах лежит эта книга. Я ее открываю... И как останавливают рукой зазвеневший стакан, так я устанавливаю в себе тишину... Пусть все замрет, застынет. Я ухожу в себя, во мне — уравновешенность, утяжеленность, почти инертность. Уверяю вас, меня не так просто заставить вздрогнуть, заставить сдвинуться с места — тут нужен сильный ток. Но ничего — сознаюсь, — ничего не вызывают во мне эти глянцевитые, жесткие, накрахмаленные, замороженные фразы... Ничего... Совершенно ничего... И мне становится спокойней, сам не знаю почему. Я чувствую какое-то облегчение... Оттого ли, что я становлюсь ближе к вам, перехожу на вашу сторону, ощущаю свое сходство с вами, — от этого ли мне стало легче? Рад, что могу вам сказать: ничего не чувствую, ни малейшей вибрации, видите, как я честен, как откровенен. Да, я свободен, я силен, я честный, искренний. Свободен... свободен до конца... честен...
...Но что это?.. Вот... Честное слово... Как будто прошло дуновение?.. Нет, я должен... откровенно... нельзя отрицать... должен признаться... я что-то почувствовал... невольно... слышу какой-то необъяснимый звук... неуловимый звон... волны — от слова к слову, от фразы к фразе — расходятся, а в ответ какой-то отзвук, я его слышу... ничего не поделаешь — слышу... Да, вам, конечно, его не услыхать, для вас надо бить в барабаны, орать. А мне, чтобы ничего не слышать, надо затыкать уши... И вот уже слова мне кажутся весомыми, хочется их удержать, взвесить, раскрыть, исследовать на досуге... уверен, что я в них найду... знаете, чем человек умнее... Да отойдите же! Вы мне мешаете!.. Столпились тут, шумите... При вас я ничего не слышу, все звуки сливаются, при вас мне кажется, что в комнате — скверная акустика... вам же сказано — уходите! Вы — вязкие, волглые, вялые. Ваше присутствие, ваша близость пачкают... Тут, среди нас, вам места нет...
— Да, как видно, это чудесная книга, вы правы. Непременно прочту. Каждую фразу надо смаковать. Брейе — настоящий писатель. Это бесспорно. И некоторым неучам будет полезно услышать это именно от вас.
Что, слышали! Вы, там! Вас заставят восхищаться, вас припрут признанием, загонят, как стадо овец, под охрану псов!
— Да, все эти люди разыгрывают знатоков... Тупицы... Не понимаю Бодлера — что он в них находил... А я... при одной мысли, что они есть на свете, я страдаю... Бывают минуты, когда хочется всех их уничтожить.
— Чудак вы... Берите пример с меня. Не обращайте на них внимания. Больше уверенности. Правда и красота всегда побеждают, даю вам слово. Надо только спокойно делать свое дело. Потихоньку идти своим путем.
— Знаю, это глупо, вы, несомненно, правы. Ну, мне пора. Простите, если помешал. Но вы понимаете, есть минуты, когда я становлюсь эгоистом, и тут уж ничего не поделаешь — мне необходимо вас видеть.
Защитная завеса жестов, слов... «Нет, нет, вовсе нет... не извиняйтесь, нет, нет... напротив, заходите... И не принимайте так близко к сердцу! — Ласковое похлопывание по плечу, добродушный смешок. — Перестаньте встречаться со всеми этими людьми... ну, желаю удачи, хорошей работы, до встречи, да-да, вечерком... с удовольствием...» — И за тонкой дымовой завесой все, что в нем исчезло с приходом незваного гостя, все, что рассыпалось, но втайне ждало, все это снова собирается, складывается, приходит в порядок. И только закрылась дверь — без шума, как можно тише, осторожнее... так, что тот услышит только приглушенное короткое хлопанье, но этот легкий щелчок грубо сбросит его в небытие, заставит растаять, распасться — ни следа от него не останется... Даже запечатлевшийся на миг образ — длинная темная фигура спускается по лестнице — и тот исчез без следа. Не осталось ничего — даже чувства облегчения. Не надо ничего ставить на место, вытирать, не надо никаких исправлений. Не осталось ни царапины, ни пятнышка, ни пылинки на гладком, блестящем механизме: старая машина, великолепно сконструированная, прочная, неуязвимая, отлично вычищенная и смазанная, приходит в движение, начинает идти полным ходом.
И, садясь к столу, он знает, что теперь часы потекут медленно и послушно, они пройдут перед ним вдаль, в тишину, в одиночество ночи, они вольются в него, они его наполнят ощущением свободы, силы, незыблемости — предчувствием вечности. Разбросаны листы бумаги, рядом — раскрытая книга. «Изумительно» — так он сказал. Значит, так и надо написать: это изумительная книга.
Как огромные цветы, искусно разбросанные на тщательно подстриженном, густом и шелковистом газоне, раскрывают свои плотные жестковатые лепестки, так со страницы, взятой наугад, из фразы, плавной и сжатой, тяжелый и громоздкий imparfait du subjonctif с царственной уверенностью разворачивает свое длиннейшее, неуклюжее окончание.
Нет, скорее этот subjonctif, чье неподатливое, утяжеленное окончание так легко поднято четким и гибким ритмом всей фразы, — он скорее похож на расшитый шлейф тяжелого парчового платья, — шлейф отброшен нервной ножкой, изящная напудренная голова церемонно наклоняется и вскидывается вновь с высокомерной учтивостью. И на этот реверанс каждый благородный кавалер сразу отвечает глубоким и низким поклоном.
Тяжеловесные, немного смешные старинные моды попадают в руки искуснейшего модельера, и он, очистив их от всего наносного, обнажив их сущность, умело располагая линии, придает современной моде печальную прелесть воспоминания, юную и древнюю, как мир.
В это грамматическое чудовище, в его несколько смешной, неуклюжий хвостовой придаток проникают тончайшие разветвления нашей мысли, они проходят, как нервные волокна, в грозное острие скорпионова хвоста — и вот уже выскакивает чуткое жало, вытягивается, пружинит и молниеносно впивается во что-то бесконечно хрупкое, почти неощутимое — в какой-то зачаток смысла, в едва уловимый замысел.
Как бы критики ни хвалили это произведение, все будет мало: со всей строгостью, со всей настойчивостью они должны перед каждым писателем поставить как образец этот литературный язык — настолько в нем все просеяно, отобрано, рафинировано, очищено, ограничено строгой, упругой, но все же несколько жестковатой формой, в которой отливается и застывает то, что должно сохраниться во времени.
Тут само собой отбрасывается, нипочем не пропускается все расплывчатое, вялое, слюнявое, скользкое. Все то, что разговорная речь подхватывает и разносит мутным потоком.
Тут вас не встретят резким смехом, лихорадочным взглядом, пожатием потных рук. Никто не хватает вас за лацканы пиджака, никто не дышит вам в лицо тяжелым жарким дыханием.
Тут каждый знает свое место. Тут вы в своем кругу, в хорошем обществе. С какой сдержанной благовоспитанностью, с какой изысканной вежливостью вас приглашают войти. С каким целомудрием, с каким гордым достоинством ищут вашего внимания. Полно, да ищут ли его? Просто перед вами в чистейшей радости пляски кто-то танцует соло. Каждое предельно точное движение, каждый освященный вековыми традициями жест насыщен скрытым смыслом: тысячелетний образ восславляет великие тайны — любовь, смерть.
Изумительно. Это надо сказать. Надо крикнуть. Но прежде, чем начать — пауза. Пальцы с пером подняты кверху, локоть опирается о стол: «Я считаю — и пишу об этом, взвешивая каждое слово, — что «Золотые плоды» — воплощение...»
...Чистейший образец высокого искусства — вещь, замкнутая в себе, наполненная, округлая, гладкая. Ни трещины, ни царапины, куда могло бы проникнуть что-то постороннее. Ничто не нарушает цельность превосходно отшлифованной поверхности, сверкающей всеми гранями в светлых лучах Красоты.
И под этим теплым сиянием в нем начинает играть кровь, смело взлетают слова... «Изумительно»... Выше: «Редчайшее произведение искусства»... Выше: «В современной литературе еще не было такого произведения». Выше, еще выше... Горные вершины встают вдали... «Лучшая вещь, написанная после Стендаля... После Бенжамена Констана...»
— Отличная статья Брюлэ о «Золотых плодах». Первоклассно. Превосходно.
Бесстрастный голос, холодная констатация. Лицо неподвижно, взор устремлен вперед. Как жерло орудия, нацеленное солдатом, который, застыв на броневике, проезжает по улицам завоеванного города.
Нечего смотреть по сторонам: всякое сопротивление сломлено. Кто посмеет шевельнуться? Эй вы, бунтари, сорвиголовы, что, хотели все смести с лица земли? Плясали по засеянным полям, топтали посевы в дикой пляске, орали во все горло — знайте, кончился ваш праздник. Победили вековые устои. Честные люди могут вздохнуть спокойно. Да, теперь можно сказать — немало пережито. Все было захвачено ревущей ордой, всюду грязный плебс, он крошил святые образа, осквернял священные храмы. Любой варвар — бог весть откуда — выкрикивал бессмысленные речи. И все это приходилось молча терпеть. Видеть изо дня в день, как самые верные, самые стойкие друзья подло перебегали на сторону победителей. Смрад и пот. Вульгарные, хриплые выкрики. Гнусная брань. Все приходилось терпеть. Смотреть беспомощно на эту развинченность, распущенность, на темные заросли, кишмя кишевшие нечистью, — бесформенная магма, темный хаос, ночи, пронзенные зловещими вспышками огня...
И вдруг — о чудо! Эта вещь — маленькая, скромная, безобидная. Девственница в одежде пастушки. И одним махом сметены все силы зла. Наконец воцарился порядок. Мы спасены. Теперь им покажут, этим лентяям, неучам, этим «детям природы», «сильным личностям», теперь их научат идти в строю. Уважать правила хорошего тона, приличного поведения. Им внушат — ага, вам это не по душе? — что литература — святыня, недоступная обитель, что только смиренным послушничеством, терпеливым постижением великих мастеров немногие избранники завоевывают право войти в нее... А шулерам, выскочкам, втирушам в ней места нет.
Со всех сторон стекаются толпы — принести присягу верности, преданности вновь установленному порядку, отдать ему поклон.
Вот они, высокие учреждения. Правительство. Члены обеих палат. Все пять академий. Высшие школы. Университеты.
После Ларошфуко, после мадам де Лафайетт, да, я скажу во всеуслышание, после Стендаля — Брюлэ прав, — после Бенжамена Констана... Скажем, я — ведь я романов вообще не читаю... — Длинный палец задумчиво потирает тонкое морщинистое веко. — Времени нет... дни так коротки... а вечерами надо как-то входить в курс... сейчас все так быстро меняется... надо читать последние труды... И когда выдастся свободный часок, я не вправе растрачивать его впустую... предпочитаю возвращаться к классикам, к любимым писателям... Но тут, должен сознаться, в этих «Золотых плодах» я обрел редчайшую радость, я и не думал, что современное произведение может так захватить... Изумительно... Настоящая жемчужина... — Рука любовно гладит воображаемую округлость... — Прелестная вещица. Замкнутая. Плавная. Полновесная. Ни одного промаха, ни одной погрешности против хорошего вкуса. Тут этого не найти. Ни одной ошибки в построении. И такая утонченность, правда? Кажется, так просто, но какая изысканность. Настоящее чудо, и это в наши времена!..
Да что они, с ума сошли? Ей хочется вскочить, остановить их... Да как они смеют? Неужто они забыли, что он тут, что он слушает, уйдя в себя... и с каждым словом, которое они произносят таким бесцеремонным тоном, в нем — и она это чувствует (нет ни одного движения его души, которое не передалось бы ей), — в нем что-то накапливается, тяжелеет... Она не сводит глаз с его пальцев — холеные ногти нетерпеливо постукивают по столу... Ей хотелось бы стать мизинцем на этой руке, которая когда-то первая перелистала, нет, не верится... так давно это было... до ее рождения. Она хотела бы стать морщинкой у его глаз, уставших от пристального созерцания стольких полотен, статуй, стольких рукописных страниц, подписанных незнакомыми именами, страниц, в которых она (посметь ли ей признаться?), она, невежественная, нечуткая, видела только безобразное месиво, унылое нагромождение и в которых он, будто в нем чудом затрепетала игла компаса, мог показать восхищенным поклонникам, молча ждущим, когда приоткроются нехотя губы и прозвучит короткое суждение, — показать одним мановением руки, одним взглядом нацеленных в нужную точку глаз: «Вот смотрите... вы видите... вот тут...» И тебя словно током пронзает, перед тобой встает и трепещет что-то живое, упругое... «О-о, смотрите, как хорошо... превосходно... Как, вы сказали, ее зовут, вашу молодую приятельницу?»
Исполнились все смутные предчувствия... Те минуты счастья, когда еще в шесть, в семь лет она, лежа на траве на берегу ручья, смотрела как тополя окружают высокое небо дрожащими листьями... Неужто это правда? Это он обо мне? Про мои стихи? Неужели он так сказал... Она уже давно перестала ждать, отказалась... и с ней случилось чудо... крыло архангела благой вестью коснулось ее склоненной головы... Будет ли она достойна?.. Хватит ли сил?.. Учитель... сейчас... она опускает голову... простите их. Ибо не ведают... простите этих варваров, этих невежд, которые тужатся, лезут из кожи вон, да как они смеют, безумцы, кто дал им право при вас судить с такой безапелляционностью... Им, этим пешкам, нулям, безымянным выходцам из толпы, которой только и пристало в молчании проходить по священным покоям, полным реликвий, — это вы научили их почитать святыни, это вы открыли им глаза, пробудили в них священный трепет, а теперь они смеют, забыв свое место, выскакивать, разглагольствовать — при вас!.. Тише! Перестаньте! Кому интересно ваше мнение? Замолчите. Учитель, мы хотим слушать вас.
Она едва удерживается, чтобы не склониться к его руке, нетерпеливо постукивающей по столу, к его колену, подрагивающему в раздражении... она поднимает на него взгляд... мы ничтожества... бедные невежды... мы блуждаем в ночи, вязнем в трясине... спасите, вызволите нас, заклинаю... она смотрит на него молящими глазами: «Почему вы молчите?.. Скажите нам... Что вы думаете об этом романе?»
Он коротко фыркает сквозь сжатые ноздри, отделяя себя ото всех, отстраняя их... гн... га... «Но, милый друг, вы ко мне обращаетесь, словно я оракул... — В подергивании щеки — презрение, даже легкое отвращение. — Я и сам не знаю...» — «О нет, нет, вы знаете, знаете...» Они снисходительно усмехаются, его умилостивили, почти растрогали... «Да? Неужели? — И медленно, словно нехотя, по принуждению: — Мне кажется, что я склоняюсь к мнению доктора Легри... Прекрасный роман эти «Золотые плоды». Хотя, быть может, и не по композиции. Тут я лично вижу некоторые недостатки. Да и не в том, как подчеркивает Брюлэ, достоинство книги, что она написана отличным классическим языком. Теперь его превосходно умеют подделывать. Все начинающие этим грешат. Нет... дело не в языке... Кстати, я вовсе не нахожу, что он так уж классичен. То есть классичен в том смысле слова, как его обычно употребляют. Наоборот, тут много запутанности, барочности, он тяжеловат, даже иногда неуклюж. Кстати, мы склонны забывать, что классики, когда они были новаторами, тоже казались запутанными, неуклюжими. Это трудная книга. Я брался за нее несколько раз. И мне она нравится именно своей современностью. Превосходно отражает дух нашего времени. А ведь именно это, если я не ошибаюсь, и отличает настоящее произведение искусства...»
А этой хочется просить пощады, снисхождения к своим старым мышцам, старым костям. У нее мелькнула надежда, она почувствовала облегчение, увидев, что он сидит в стороне — у него так часто бывает этот надутый, недовольный, немного раздраженный, презрительный вид, — в такие минуты ее всегда тянет к нему как зачарованную, ей хочется покрасоваться перед ним, оголиться — одна эта мысль ее вгоняет в краску, как она смеет? — выдать себя, сказать ему: «Да, вам я могу признаться, Люсьен, вам, как старому другу... Знаю, вы меня не выдадите, не станете презирать... Вам я доверяюсь... вам сознаюсь... Эти «Золотые плоды»... о них столько разговоров... ничего не могу поделать... десятки раз бралась за них... Это так жестко, так холодно. Думаешь укусить сочную мякоть и ломаешь зубы о металл»...
А он — ни слова, только посмотрел на нее... и в его глазах, в его улыбке как будто мелькнуло сочувствие... Между ними — и она это почувствовала, она это знает, — возникло что-то вроде заговора, какая-то близость — ее отраженное восхищение, неизменное преклонение, — и он откликнулся... да, она знает, что иногда она его забавляет, что ее болтовня развлекает его подчас, — и ее обожание, ее постоянство, он их видит, милый Люсьен...
И вот ему бросили вызов. Его вытащили из уединения, заставили играть роль, которая ему положена по чину.
Облачиться в красную мантию с горностаевой оторочкой, надеть черную судейскую шапочку и произнести перед стоящей в молчании публикой роковой приговор. И он произносит его со всей ответственностью. Каждое слово взвешено. Приговор окончательный: «Золотые плоды» — отличная книга».
Что ж, надо подчиниться. Пробил час поста и молитвы. Надо оторваться от всего, что любила... от сокровенного тепла, когда, свернувшись клубочком, она плыла по течению все дальше, дальше, бог знает в какой сладостной неге, в приторных, стыдных, восхитительных ароматах... Все это надо забыть. Вот так. Прямая, чистая, она идет вперед.
Что-то серое, холодное расстилается перед ней... Гробницы, своды, склепы, музеи, где тусклый свет падает на плиты пола, на разбитые колонны, на мраморные саркофаги, на статуи в царственных, иерархических позах, с незрячими глазами, с застывшими лицами. Ей хочется отпрянуть, убежать, вернуться туда, в мягкое тепло, к другим, к своим ближним, к себе подобным, они тянут ее, зовут... Да пустите же меня... она оборачивается, гнев ее душит... отпустите, не цепляйтесь, уходите, у меня нет ничего общего с вами, мне отвратительны ваши пылающие лица, ваши голодные глаза, непристойные жесты цепких рук —они все хватают, щупают, ноздри жадно раздуваются, втягивая мутные тошнотворные запахи гнили. Отойдите прочь, я вхожу. Видите, вот я. Одинока. Чиста. В молчании, в уединении, издалека я почтительно созерцаю.
Произведения
Критика