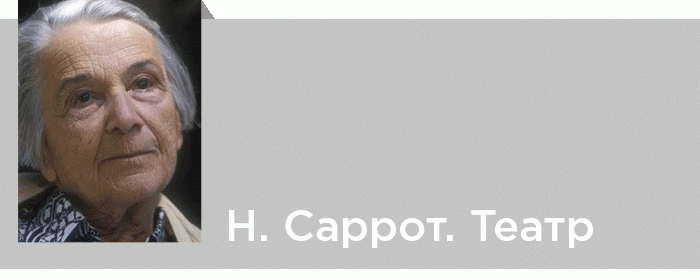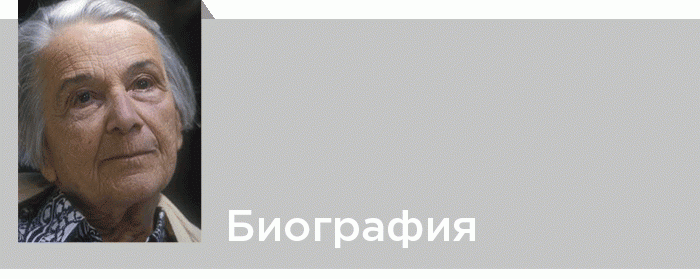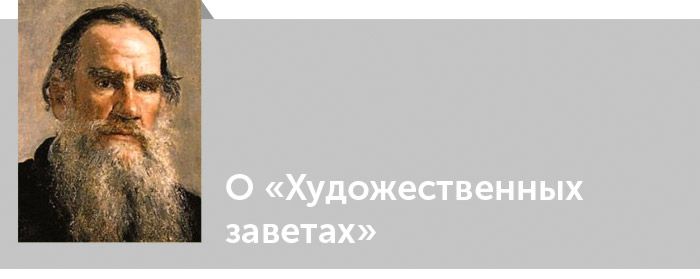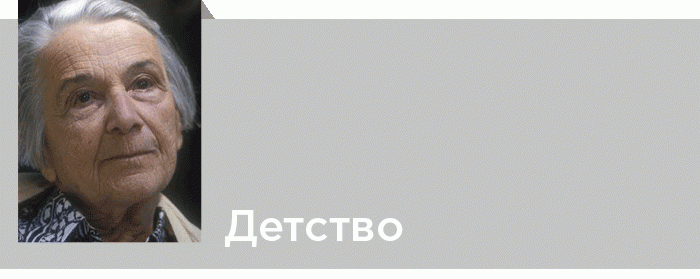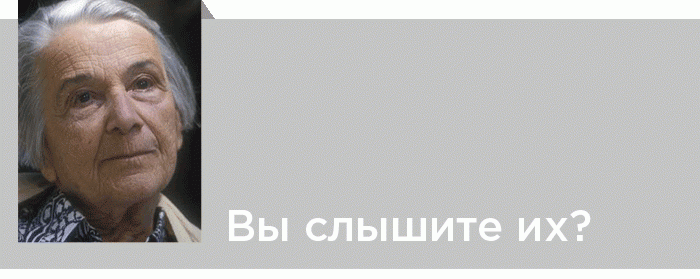Проблема личности в романах Натали Саррот
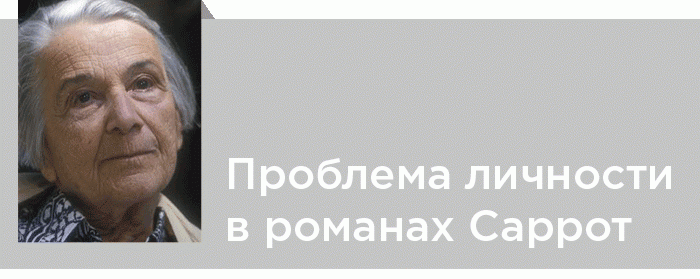
Г. К. Косиков
В отечественном литературоведении неоднократно давался критический анализ идейно-художественных позиций представителей так называемого «нового романа» во Франции, убедительно вскрывался односторонний, лишенный исторической правдивости характер создаваемого ими мифа о современной действительности, мифа, улавливающего и отражающего лишь негативный ее аспект, выдающего законы наличного бытия буржуазного общества XX в. за вечные и неизменные законы человеческой жизни вообще, мифа, утверждающего бессмысленность и бесплодность всякой борьбы против обесчеловеченной капиталистической системы.
При всей своей справедливости подобного рода суждения подчас отличаются некоторой суммарностью. Общая характеристика «нового романа» нередко заступает место конкретного анализа произведений того или иного из его представителей, отсутствуют исследования, ставящие задачу раскрыть форму таких произведений в ее целостности, показать функциональную зависимость принципов композиции образов у «неороманистов» от принципов их миропонимания.
В настоящей статье и предпринята попытка анализа некоторых сторон формы (стиля) одного из представителей «нового романа» — Натали Саррот, что в какой-то мере могло бы способствовать и выработке более конкретных, углубленных представлений о характере содержания ее произведений.
В творчестве Н. Саррот обращает на себя внимание такая особенность, как отсутствие привычного для нас объективирующего взгляда повествователя.
В реалистической литературе XIX в. автор или герой, выполнявший функцию рассказчика, всегда находился в привилегированном положении относительно описываемого им мира: мир этот лежал в прошлом и был отделен резкой границей от момента повествования; к началу повествования все события были уже завершены, осмыслены с единой точки зрения, нашли свое место в целостной концепции действительности. Автор (или рассказчик) как бы говорил своему читателю: «Возможно, что в момент свершения событий и были допустимы разные точки зрения на них (вследствие неосведомленности), но теперь, когда все нити собраны, ясно, что все произошло именно так, а не иначе, и что отныне может существовать лишь одна, верная, точка зрения на случившееся».
В романах Саррот слышны голоса всех персонажей, но невозможно расслышать голос, который давал бы резюмирующий образ их действий и поступков. Объясняется это тем, что герой-рассказчик повествует о событиях как бы в момент их свершения, а не после того, как они уже закончились. Целиком и полностью погруженный в настоящее, герой в принципе неспособен на завершающий охват действительности, на создание целостного образа мира.
Однако тот узкий ракурс, в котором герою дана действительность, ни в коей мере не удовлетворяет его. Он все время стремится выработать собственную перспективу по отношению к происходящему, увидеть мир в «ином аспекте», установить между собой и настоящим, в котором он находится, ценностно-временную дистанцию, создать свое собственное, привилегированное пространство, отличное от пространства, в котором существуют все остальные персонажи.
Эти персонажи, со своей стороны, всячески противятся установлению такой дистанции. Герой пытается воссоздать их подлинный облик; они же стремятся навязать ему некий условный образ самих себя. В «Золотых плодах» позиция таких персонажей выражена следующим образом: «<...> хорошо, я ничего не думаю... ничем они не показывают, что мы бесконечно далеки друг от друга, что они откуда-то издалека видят меня, всего, целиком заключенного в их поле зрения. Нет, не то. Они тут рядом. Так близко, что видят меня не всего целиком, им виден только я, таким, каким я себя им сейчас показываю крупным планом, — ясным, доверчивым, чистосердечным взглядом я смотрю на них — глаза в глаза».
Всех ее персонажей можно разделить на две группы: те, кто стремится увидеть остальных «издалека», и те, кто является объектом такого видения, а сам воспринимает всю действительность лишь «крупным планом».
В «Портрете неизвестного» и в «Мартеро» герой-рассказчик относится к первой группе, остальные персонажи (в «Портрете неизвестного» — старик-отец и его дочь, в «Мартеро» — дядя, тетка рассказчика и их дочь) — ко второй.
Правда, в «Золотых плодах» герой не представлен каким-нибудь одним лицом. Однако несомненно, что целому ряду персонажей этого произведения присуща та же тенденция к созданию своего собственного пространства, как и героям уже названных романов. Очевидно, что в «Золотых плодах» мы имеем дело с «коллективным» романическим героем. Чтобы подчеркнуть принципиальную близость героев всех трех романов, мы будем называть их «персонажами первой группы», а остальных — персонажами «второй группы».
Важнейшая особенность персонажей «первой группы» состоит в том, что они находятся не вне, а внутри пространства среды, представленной персонажами «второй группы». Выступая в роли пленников этого пространства, они стремятся преодолеть его границы. Драматизм их положения всегда связан с неудачей такой попытки: персонажам «первой группы» никогда не удается окончательно установить и закрепить необходимую дистанцию между собой и той действительностью» которую они надеются преодолеть.
Субъективный мир личности, представленный персонажами «первой группы», не может найти воплощения в рамках наличного бытия. Вместе с тем сама эта субъективность не воспринимается Саррот как нечто самодостаточное и полностью независимое от внешнего мира. Будучи заперт в чуждом ему пространстве персонажей «второй группы», герой стремится понять его внутреннюю организацию, внутренний смысл. Только осознав его и заняв определенную позицию, он может надеяться воплотить свою субъективность в каком-либо типе практического поведения, т. е. создать индивидуальное пространство.
Реально же и прочно в романах Саррот существует лишь пространство персонажей «второй группы» как внутренним, так и внешним обликом воплощающих наличное бытие.
Значительную роль в мире персонажей «второй группы» играют предметы, вещи. Но роль эта совершенно особая. У Бальзака, например, предметы всегда наделены прочным и устойчивым, а не окказиональным и переменчивым значением. Такая однозначность обусловлена в конечном счете тем, что все эти предметы выступают как элементы единого социального организма, в котором они и получают свой смысл. Общество для Бальзака — не абсурд, но доступная пониманию структура. Зная эту структуру, легко установить значение ее элементов. Та связь между материальным окружением и социальным характером Сешара-отца, которую устанавливает Бальзак, существенна и значима для любого из его персонажей.
В мире персонажей «второй группы» такие связи утрачиваются. Предметы теряют устойчивое объективное значение, и персонажи не имеют собственного мнения о них. В «Планетарии», например, тетя Берта не может решить, хороша или плоха никелированная дверная ручка, которую устанавливают в ее квартире рабочие. Сначала ей кажется, что ручка безобразна (ибо таких ручек не бывало у аристократов, на вкус которых ориентируется героиня). Однако когда она узнает от рабочих, что точно такие же ручки они устанавливали в бразильском посольстве, ее мнение мгновенно меняется: «Прямо не знаю... эта ручка... в конце концов... в конце концов она не так уж и страшна...».
У Саррот предметы имеют столько лиц, сколько существует мнений об этих предметах. Они пребывают не в контексте объективной действительности, но в контексте чужих точек зрения на них. Именно там они получают то или иное значение. В мире персонажей «второй группы» утрачивается казавшаяся ранее незыблемой связь между индивидом и его материальным окружением, предметным миром, который отражает уже не социальный характер данной личности, но мнения «других».
«Слово» персонажа, именуя живую действительность, вступает в непосредственный контакт со «словом» остальных персонажей. Особенности такого контакта хорошо видны на примере «Золотых плодов», где «у лиц рефлектирующих существуют отдельные, заранее выработанные характеристики, не созданные для этого романа (романа Брейе. — Г. К.), а существующие для разговора об искусстве романа вообще».
Именно потому, что существуют и оказываются достаточными такие готовые характеристики, становится возможной ориентация на них, а не на самый роман Брейе. Его вообще можно было бы заменить другим произведением, и готовые блоки суждений остались бы неизменными. Персонажи оглядываются не на мир, а на слово «другого». И оглядываются не полемически, не для того, чтобы активно переработать его в соответствии со своей внутренней установкой. Напротив, они живут в нетерпеливом предвкушении этого слова.
Все речевое поведение персонажей «второй группы» — это постоянное ожидание подтверждения, согласия. Они не хотят и не умеют высказывать самостоятельных суждений о мире, они всегда стремятся подхватить, продолжить готовую апробированную мысль. Их речь буквально перенасыщена «контрольными» фразами: «Я считаю — вы со мной согласны? <...>. Поразительно, вы не находите?»; «Да, да, так и есть, правда? Вы со мной согласны?»; «Ей богу, он настоящий эквилибрист, этот Брейе... Что? Вы не согласны? Согласны?»; «Ах, в самом деле, вы считаете, что я права? Правда? Вы так думаете?».
Слова персонажей Саррот (а следовательно, и сознание каждого из них) не вступают в спор друг с другом, но, напротив, тяготеют к объединению в одно общее для всех Слово, в единое Гиперсознание, принадлежащее всем вместе и никому в отдельности. Поэтому почти невозможно (да и совершенно не нужно) в таком романе, как «Золотые плоды», узнать, кто именно в данную минуту подает ту или иную реплику. У Саррот не персонажи говорят словами, но слова, целые блоки готовых, стандартных суждений «говорят» устами персонажей. Их мир — целая система взаимоотражающих зеркал: каждый видит действительность глазами «другого» и никто — своими собственными. Сознание персонажей «второй группы» тяготеет к тому, чтобы стать чистым отражением чужого сознания.
Эта ориентация на «другого» определяет не только отношение персонажа к действительности, но и к самому себе. Приведем, например, описание встречи старика-отца («Портрет неизвестного») с друзьями молодости: «<...> едва он переступает порог, с ним происходит немного болезненное, но приносящее чувство облегчения превращение <...>. Под их невозмутимым, таким уверенным, всегда немного равнодушным взглядом ему кажется, что он целиком заполняется каким-то густым веществом, делающим его твердым, тяжелым, устойчивым, он превращается в уверенного в себе, респектабельного «Господина» <...>. Ток, исходящий из их глаз, словно невидимые ниточки, управляющие марионетками, руководит всеми его движениями, жестами <...>».
Персонаж, независимо от своей воли, начинает ощущать себя таким, каким он представляется друзьям, сидящим в зале ресторана. Себя самого он видит глазами «другого». Его «я для другого» не закрывает, подобно маске, истинное лицо («я для себя»), но вытесняет и замещает его, само становится этим лицом.
Персонажи «второй группы» не обладают внутренней структурой, собственной позицией в мире, поэтому безо всякого труда они отличаются.
«Мягкое выявилось как студенистая масса, в которую превращается индивид перед лицом ценностей, как вязкость существования, ориентированного на другого, как текучесть <...> субъективного, ускользающего от засилия других».
В анализе А. Контеса «твердые» и «мягкое» предстают то как ценность, то как «антиценность», то как воплощение подлинности, то как воплощение деградации. Здесь отражается отношение к этим категориям со стороны героя. Его позиция меняется не только внутри каждого отдельного романа, но и от романа к роману, указывая на известную эволюцию миропонимания самого автора.
Герой «Портрета неизвестного» (1948) как личность совершенно не укладывается ни в одну из предлагаемых ему действительностью социальных ролей, которые он воспринимает именно как искусственные формы для отливки. Вместе с тем он ясно видит, что «асоциальное» существование в мире социальных отношений невозможно, что субъективный мир индивида должен найти некое практическое воплощение. Поэтому для героя первого романа Саррот вопрос стоит так: является ли состояние наличного бытия выражением субстанциональной сущности мира? Если да, то существование индивида в качестве личности невозможно; если нет, то, напротив, субстанциональность должна воплощать в себе именно личность; наличное же бытие будет представлять собой искажение этой субстанциональности.
Вот почему герой «Портрета неизвестного» стремится не бежать от действительности, но, преодолев ее зримый облик, проникнуть в подлинную сущность мира, определиться по отношению к этой сущности.
Все это и объясняет возникновение в романе дихотомии лица и «маски». «Маска» («твердое», «панцирь») воспринимается героем как воплощение неподлинности. Напротив, «текучее» в окружающих его людях, движения «тропизмов» он принимает за тщательно скрываемые движения субъективного мира личности, за намек на существование у них истинного лица.
Персонажи «второй группы», со своей стороны, пытаются убедить героя-рассказчика в том, что нормой человеческого бытия является именно конвенциональное общение «масок». Само стремление героя к подлинности рассматривается ими как нечто ненормальное, извращенное. Возникает мотив «болезни» рассказчика, ведущей к «утрате контакта с действительностью». Психиатр, к которому родственники заставляют его обратиться, выступает в романе в роли официального стража «общих мест», возвращающего «больных» к «норме», убеждающего их в том, что окружающий мир есть единственно возможный, единственно истинный мир. Фигура психоаналитика у Саррот представляет собой резкое неприятие фрейдизма как мировоззрения, строящегося на приспособлении индивида к наличной действительности.
Сеанс психоанализа приносит свои плоды: «Я уже начинаю понемногу — похоже, что эго признак выздоровления — вступать в «контакт с действительностью». Я чувствую это, так как «они» начинают меняться, становятся более близкими, отвердевают, приобретают законченность, окрашиваются в четкие цвета, обретают ясные контуры, но все же остаются немного похожими на ярмарочных кукол из раскрашенного картона».
Чтобы окончательно «выздороветь», герой уезжает за границу. В одном голландском городке он заходит в музей, чтобы еще раз взглянуть на полюбившийся ему «Портрет неизвестного», принадлежащий кисти анонимного художника. Эта сцена, являющаяся кульминацией внутреннего развития героя, раскрывает особенности его позиции в мире: «На этот раз он показался мне еще более странным, чем раньше. Линии, обрисовывавшие его лицо, края кружевного жабо, камзола, рук, казалось, представляли собой неясные разрозненные очертания... Словно некое усилие, сомнение, мука запечатлелись здесь, застигнутые внезапной катастрофой, остались тут, прерванные в своем движении <...>. Одни только глаза, казалось, остались неподвластны катаклизму <...> и собрали в себя всю муку, всю жизнь, которой не хватало его бесформенным и разрозненным чертам. Казалось, они не вполне принадлежат этому лицу <...>. Страстный, настойчивый призыв, с которым они обращались, делал трагическим его молчание, ощущаемое с необычайной силой».
Размытыми и стертыми оказываются именно те детали лица и костюма Неизвестного, которые могли бы указывать на его социальную принадлежность, ибо последняя уже не может выработать моментов, -организующих внутреннюю структуру личности. Субъективный мир человека не подавляется здесь преднаходимой моделью, но, концентрируясь во взгляде, как бы вырывается за ее рамки. Неизвестный выключен из структуры отношений с «другими», в нем важно лишь то, что является его собственным достоянием. Его «анонимность», противостоя такой социальности, которая отрицает личность, приобретает значение ценности. Неизвестный подтверждает, что внутренний мир индивидов, мир подлинного должен существовать именно как норма и как принцип человеческого бытия.
Однако действительность убеждает героя в обратном, в том, что «маска» не прикрывает, но именно замещает подлинное лицо окружающих его людей. Предприняв еще одну неудачную попытку расколоть скорлупу их «масок» и вылущить оттуда живое ядро личности, герой, наконец, понимает истинное значение тех внутренних движений, которые казались ему столь многообещающими. Мир «масок» на каждом шагу демонстрирует свое всесилие, утверждая свои законы как незыблемые законы мироздания, доказывая, что не только бессмысленны, но и попросту нездоровы всякие «поиски», «муки» и «сомнения» и что «несогласные» с этим нуждаются в принудительном лечении.
Герою остается либо безоговорочно принять этот мир, либо, отвергнув весь его целиком, оказаться в полной изоляции. И в том и в другом случае результатом является гибель и окончательный распад личности, ибо в представлении Саррот невоплощенная субъективность реально -существовать не может.
Противоречие героя с окружающей его действительностью оказывается в принципе неразрешимым в рамках той художественной системы, которую создает писательница.
В отличие от «Портрета неизвестного», герой-рассказчик «Мартеро» (1953) не только понимает, что живет в мире «масок», но и ясно видит подлинную природу «тропизмов». Именно текучесть, внутренняя подвижность персонажей «второй группы» выступают для него на первый план, воплощая неподлинное бытие, «вязкость существования, ориентированного на другого». Герой ищет подлинной твердости, устойчивости, которые являлись бы выражением устойчивости личностной позиции индивида и которые он не отождествляет с обманчивой жесткостью «маски».
В «Мартеро» появляется конкретное, реальное лицо, и именно в нем, как кажется герою, воплощены все те ценности, которых он не находит в окружающих его людях. Это лицо — некто Мартеро, имя которого и вынесено в заглавие романа. «Я искал Мартеро всегда. Всегда звал его. Именно его образ — теперь я знаю это — всегда преследовал меня. С тоской всматривался я в него. Он был для меня далеким отечеством, из которого по загадочным причинам я был изгнан; он был тихой пристанью, родной гаванью, дорогу к которой я потерял; он был сушей, к которой я никогда не смогу пристать, швыряемый волнами бушующего моря, носимый всеми ветрами».
Здесь, как и в «Портрете неизвестного», герой воспринимает личностное начало в человеке как нечто искони ему присущее, как «отечество» всякого индивида, противопоставляемое «чужбине»; как «сушу», дающую человеку опору и противопоставляемую враждебной ему водной стихии.
С другой стороны, Мартеро отличается от семейства рассказчика, ведущего спокойный и обеспеченный образ жизни буржуа, как неудачник, не сумевший утвердиться в социальной жизни. Подобно Неизвестному (но, разумеется, уже в другом плане), Мартеро оказывается как бы выключенным из структуры отношений с «другими», он живет в мире, на который не распространяются законы, господствующие в обществе, где пребывает сам герой. Поэтому, считая себя заброшенным на «чужбину», рассказчик воображает Мартеро живущим за «морем», в общем для них «отечестве» («Мне нравилось представлять себе, что он живет в другой стране. Для себя и для него, для той тоски, которую он пробуждал во мне, я находил более плодородные земли, более благотворный климат»). Таким образом, обе категории — твердость и отдаленность — пересекаются, чтобы образовать ценность: аутентичность личности.
Однако именно потому, что герой смотрит на Мартеро «издалека», он не знает подлинной природы «твердости» своего кумира, которая на поверку может оказаться искусственной неподвижностью «маски». Не случайно Мартеро постоянно двоится в сознании рассказчика: то он принимается им безоговорочно, то с его обликом начинают ассоциироваться представления о лубочных картинках, куклах, манекенах — образы, к которым герой Саррот прибегает всегда, когда говорит о персонажах «второй группы».
Чтобы истинная природа Мартеро выявилась вполне определенно и окончательно, он должен включиться в отношения, связывающие остальных персонажей романа. Саррот и создает такую ситуацию в сюжете: чтобы избежать налогового обложения, дядя рассказчика просит Мартеро приобрести на свое имя загородный дом. Мартеро берет деньги и выполняет просьбу. Но поскольку расписки в получении денег он не давал, у персонажей возникает подозрение, что он хочет присвоить, себе купленную виллу.
Таким образом, включаясь в отношения остальных персонажей, Мартеро как бы приближается к ним, и рассказчик получает возможность заглянуть внутрь, проникнуть (хотя бы гипотетически) в структуру мотивов, движущих его кумиром.
Такое проникновение приводит к немедленному распаду твердого и устойчивого облика Мартеро. Если раньше встречи с ним приносили герою огромную радость — атмосферой сердечности, искренности, прямоты, то теперь сама эта сердечность представляется ему искусственной, целиком и полностью зависящей от ситуации общения. Герою стало казаться, что и в Мартеро он отчетливо различает знакомые и ненавистные ему движения-тропизмы.
История с покупкой дома заканчивается, однако, благополучно. Но выполнив свою функцию, Мартеро вновь выключается из структуры отношений остальных персонажей романа, вновь отдаляется. И рассказчик начинает думать, что сама попытка представить себе Мартеро как «маску», а его внутренний мир как сферу пребывания «тропизмов», была ошибкой, едва ли не преступлением против Мартеро. И герой раскаивается: «Я не смог положиться на Мартеро, как он того заслуживал. Мне не хватило доверия. Я осмелился вообразить, что он — такой же, как мы <...>. Но, по всей видимости, он держался неплохо. Более прочный, чем ядро атома. Похожий на то, чем я представлял его себе раньше, на то, чем я хотел бы, чтобы он был».
Хотя доверие казалось бы восстановлено, в отрывке отчетливо слышны нотки грусти и сомнения. Характерны осторожные оговорки («по всей видимости», «похожий на то...» и т. д.), свидетельствующие о том, что герой не может полностью подавить сомнения, полностью восстановить поколебленное доверие. Читатель так и оставляет рассказчика в состоянии растерянности. Кто же такой Мартеро? Есть ли у него собственное лицо? Воплощает ли личность субстациональное начало мира? Существует ли реально то «отечество», о котором мечтает герой? Не имея возможности вполне довериться Мартеро, рассказчик не может найти ответа на этот вопрос и, подобно герою «Портрета неизвестного», оказывается в одиночестве.
У героя «Мартеро» нет критерия, который позволил бы с уверенностью отграничить устойчивость личности от жесткости «маски».
Поиску этого критерия, который сам по себе не является ни «гибкостью», ни «твердостью», а лишь выражается через них, посвящен роман «Золотые плоды» (
Противопоставление персонажей «первой» и «второй» групп намечается здесь с самого начала. Персонажи «второй группы» характеризуются следующим образом: «Падать ниц, всем сразу, в экстазе... возгласы хором... чудо единения...». И тут же следует объективирующая, оценочная реплика персонажа «первой группы» («До чего, странные люди!»), который не хочет принять такую форму поведения: «Обижен... подумаешь! Обиделся, потому что я не впадаю в экстаз, как они все, не падаю ниц...».
Здесь с первых же строк отчетливо звучит противопоставление: «я» — «они все», в роли доминанты проходящее через весь роман. Однако само содержание этого противопоставления выявляется далеко не сразу. Разные представители персонажей «первой группы» осознают его по-разному. Сначала кажется, что персонажи «Золотых плодов» разделяются на два лагеря в зависимости от того, хвалят они роман Брейе или ругают. Но вскоре становится понятно, что дело не в самой по себе оценке, а в том способе, при помощи которого она возникла. Роман Саррот в сущности и посвящен стремлению персонажей «первой группы» понять способ, при помощи которого возникают суждения персонажей «второй группы», и, отталкиваясь от него, выработать свой собственный способ.
Способ суждения о литературном произведении оказывается частным случаем способа суждения о мире, способом ощутить свое «я» в его отношении к действительности.
Поиск коллективного героя «Золотых плодов» в целом представляет собой непрерывную восходящую линию и как бы поэтапно распределен между различными персонажами «первой группы». В каждой точке этой линии появляется один или несколько персонажей, выражающих определенный уровень личностного самосознания; затем они уступают место другим персонажам. В целом получается единая траектория, связывающая всех персонажей «первой группы».
Исходный пункт этой траектории — в нежелании принять на веру готовое мнение только потому, что оно господствует в данный момент. Поэтому в первой части романа герои, как правило, предпочитают переждать «период оккупации», с которым Саррот сравнивает моду на «Золотые плоды» Брейе.
Но в том-то и дело, что этот период переждать невозможно. Если сама по себе мода на Брейе — явление временное и случайное, то не случаен, а закономерен тот подход к действительности, благодаря которому возникают такого рода моды.
Персонажи «второй группы», как мы видели, ищут ориентиры в мире «общих мест», они легко и свободно разбираются в громадном каталоге готовых идей и взглядов, подобранных на любой случай жизни. Именно поэтому у них никогда не возникает желания «пощупать» мир собственными руками. Их кредо: «Все уже сказано. Нет ничего нового под луной». От живой действительности эти персонажи отделены «защитной завесой слов, жестов, фраз».
Персонажи «первой группы» отнюдь не сразу понимают это. Лишь испробовав всевозможные пути, испытав оскорбления, унижения, насмешки, ужас изоляции, они открывают свою собственную правду о мире. Это правда живого, непосредственного общения с окружающим, его самостоятельного открытия, творческого освоения: «<...> надо только дать себе волю, только отдаться своим чувствам, держаться за них, не давать ничему вторгаться, всегда вступать в непосредственное личное соприкосновение с данным объектом <...>».
Если в двух предыдущих романах герою нужен был «резонатор» (Неизвестный, Мартеро), который словно должен был подтвердить, что болен не он, не герой, а социум, то в «Золотых плодах» «резонатором» становится сама действительность: «Нет, то, что исходит от «Золотых плодов» ... эти волны ... это звучание... этот легкий звон — то, что идет ко мне от них и от меня к ним, как по однородному веществу, — этого ничто остановить не может. Пусть люди говорят, что им угодно. Ни одним словом извне нельзя нарушить это слияние, такое естественное, такое полное. Никому не дано помешать этому взаимопроникновению, этому осмосу между нами».
В отличие от персонажей «второй группы», ориентирующихся на мир «общих мест», для персонажей «первой группы» только живой мир, реальная действительность могут стать той точкой, где должны пересекаться человеческие голоса. Нормальным и существенным является лишь такое состояние мира, при котором каждая личность имеет возможность сказать о нем свое собственное слово.
Герою «Золотых плодов» удается, наконец, уяснить сущность личностной позиции в мире, заявить о своем способе бытия как об основании свободы личности в отличие от несвободы персонажей «второй группы». Однако на последних страницах романа, где казалось бы голос «я» слышится все громче, в нем отчетливо различаются грустные интонации, нет ощущения победы. Герой «Золотых плодов» понимает наконец, что реально и прочно пространство личности может существовать лишь тогда, когда оно соотносится с пространствами других личностей, вырывая каждую из них из одиночества и тем самым подтверждая существенный, субстанциональный характер ее присутствия в мире.
Тем не менее такого соединения индивидуальных пространств как раз и не происходит в «Золотых плодах». Личности остаются одинокими и беспомощными — это разбросанные по всему свету огоньки аутентичности, со всех сторон окруженные беспросветной мглой; они не видят света, излучаемого другими личностями: «На свете, безусловно, есть много таких, как я. Таких же застенчивых. Немного ушедших в себя. Не привыкших выражать свое мнение. Может быть, они робко окликают нас, а им никто не отвечает».
В «Золотых плодах», таким образом, герой не преодолевает того противоречия, перед которым оказывались герои предыдущих романов писательницы. Вместе с тем он вплотную подходит к вопросу о том, что мешает объединиться разобщенным личностям и возможно ли в принципе такое объединение. Дать положительный ответ на этот вопрос значило бы немедленно выйти за рамки миропонимания, лежащего в основе всего творчества Саррот и тем самым перешагнуть за границы созданной ею идейно-художественной системы. Проблематика «Золотых плодов» с особой ясностью очерчивает круг возможностей этой системы в деле познания современного мира.
В рецензии на «Планетарий» французский критик Марк ле Бо, отметив, что эта книга полностью отвергает все «социальные ценности буржуазии», пишет: «Читатель-оптимист <...> сумеет понять это произведение как социальную критику. Но такое, каким оно непосредственно предстает перед нами <...>, оно образует целое без единой трещины, без выхода во всеобщую историю, представляя лишь ее негативный аспект. Истина этой книги не есть историческая истина. В конечном счете она являет собой образ Планетария, включенный в умело построенную повествовательную форму, форму абстрактную, тяготеющую к тому, чтобы принять абстрактное значение мифа».
Эти слова с полным правом могут быть отнесены ко всему творчеству Натали Саррот.
Бесспорно, что писательница резко отрицательно относится к миру конформизма, который она рисует с язвительностью, даже с издевкой. Но критика этого мира ведется с позиций бессилия. С одной стороны, тотальное неприятие общества, фабрикующего стандартных индивидов, служит способом разрушения иллюзорной веры в буржуазный прогресс. Саррот не видит возможности примирения личности и общества в пределах наличного бытия. И это лишь усугубляет трагический пафос ее романов. С другой стороны, поражение героя выступает как утверждение незыблемости самих основ этого бытия. И это понятно: Саррот знает только двух «персонажей», которые и фигурируют во всех ее романах: всесильное буржуазное общество и одинокий, беспомощный герой-индивидуалист. Понятно, что индивидуалистический бунт, имеющий сугубо нравственный, а не практический характер, ни к каким реальным результатам привести не может. Но в том-то и дело, что иных способов отрицания буржуазного строя Саррот не знает и не видит.
Ее герои лишь «робко окликают» друг друга, но не способны к фактическому объединению. Ее идеал не локализуется в историческом будущем и потому остается абстрактным. Саррот утверждает этот идеал как недостижимую утопию, а личность — как существо, которому от века предназначено страдать и гибнуть в беспомощных и жалких попытках разорвать путы отчуждения и деградации.
Не случайно и то, что Саррот «выдохлась» с какой-то подозрительной быстротой. Ее произведения 60-х годов (пьесы «Ложь», «Молчание», роман «Между жизнью и смертью») представляют самоповторение, эпигонство писательницы по отношению к себе самой. Дело здесь, очевидно, в том, что ее проблематика оказалась очень быстро исчерпанной. Она и не могла развиваться и углубляться сколько-нибудь долго, ибо современный писатель в конечном счете всегда оказывается перед лицом вопроса о возможности преодоления существующего строя жизни. Оказалась перед ним и Натали Саррот в романе «Золотые плоды».
Отвечая на этот вопрос отрицательно, не веря в эффективность, практической социальной борьбы, Саррот поневоле обрекла себя на творческое бессилие, на бесконечное вращение в кругу одних и тех же образов и мотивов. Новые пути для художественного освоения действительности, для обогащения и углубления проблематики творчества для Саррот оказались закрытыми. Ее творчество, которое в момент своего возникновения в известной мере представляло художественное открытие трагического положения личности в современном буржуазном обществе, очень скоро само превратилось в готовое клише, модель, механически и без разбора накладываемую на все явления действительности независимо от той реальной роли, которую они играют в современном мире. Создав такую модель, Саррот сама уподобилась персонажам «второй группы», не желающим видеть живую, многообразную, развивающуюся жизнь, подгоняющим ее под однажды сложившиеся представления, отсекающим все, что в эти представления не укладывается.
В таких условиях сам критицизм Саррот по отношению к буржуазному строю утрачивает почти всякое значение. Ведь в конце концов пороки и язвы этого строя видит не одна только Саррот и другие представители «нового романа». Видят их и представители иных течений, в частности критического и социалистического реализма в современной Франции. Ясно, что глубина их критики капитализма не может идти ни в какое сравнение с критикой Натали Саррот. Самое большее, на что способна писательница, — это констатация тех или иных состояний, тех или иных противоречий общества. Речи о социальной природе этих противоречий у нее даже и не заходит. А ведь именно раскрытие социальных причин и истоков определенного состояния общественной жизни обусловливает эффективность ее критического осмысления. Пределы и границы такой эффективности у Саррот крайне узки.
Сейчас, в начале 70-х годов, стало совершенно ясно, что Натали Саррот (как, впрочем, и остальные представители «нового романа») сказала свое слово. Ее творчество принадлежит прошлому французской литературы, ее истории. И исследовать его надо в контексте этой истории.
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 10. Филология. – 1972. – № 2. – С. 32-41.
Произведения
Критика