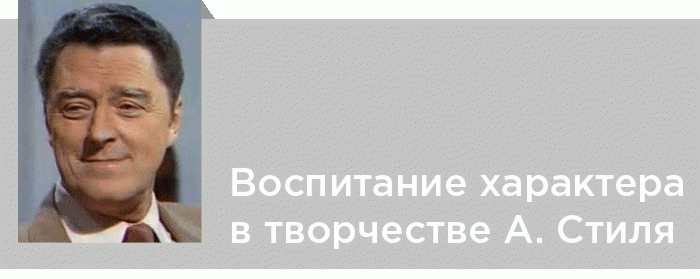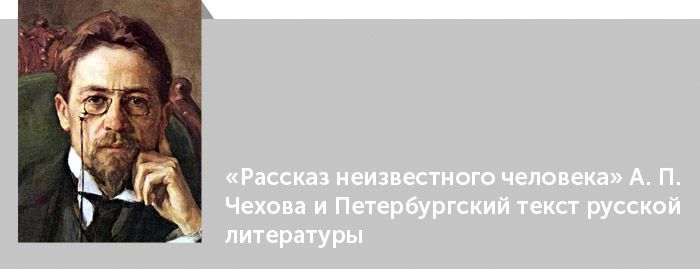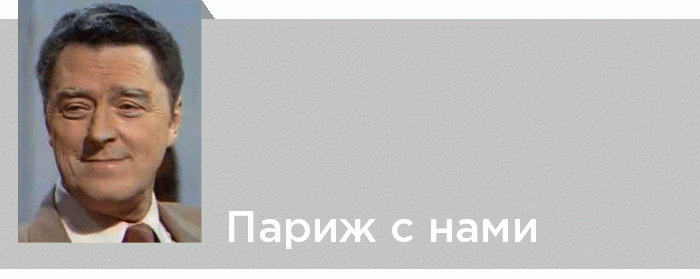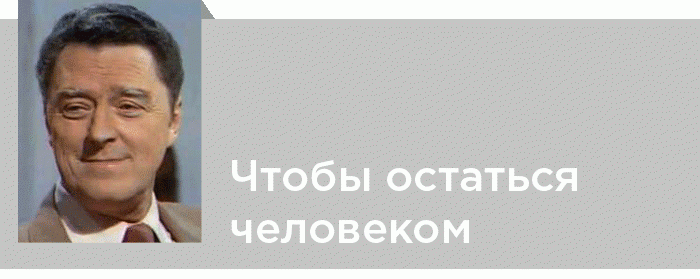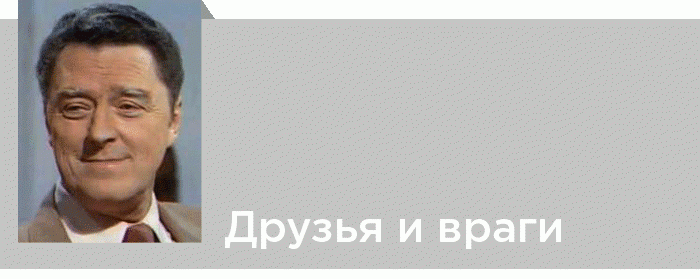Андре Стиль. У водонапорной башни

(Отрывок)
Книга первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Дождь
— Смотри, смотри, боком пошел, сейчас потонет!.. Ой, кораблик наш…
— Дырявый он, надо бы из чего-нибудь другого сделать…
Огибая плинтус пола, все прибывает темной струей вода, и перед ребятишками, присевшими в углу на корточки, медленно крутится маленький водоворот. Проржавленная баночка из-под гуталина с минуту храбро борется против напора волн, но мало-помалу сдается и начинает черпать воду.
Обоим ребятишкам года по четыре. Мальчик поднял на свою подружку большие глаза; у бедных детей бывают такие глаза, обведенные красной каемочкой, серьезные — даже во время игры в них не вспыхнет искорка смеха. У девочки странные светлые волосики, не белокурые даже, а какие-то белесые, тонкие и редкие, сквозь них просвечивает серая, грязноватая кожа — так в прозрачном ручейке виднеется песчаное дно.
Девочка склоняет головку набок и вкрадчиво спрашивает:
— А ты из бумаги кораблики делать умеешь?
— Да у нас ведь бумаги нету. Держи меня за руку, я сейчас его поймаю.
— У тебя ручка бо-бо, нельзя ее в воду совать.
Мальчик решительно наклоняется над лужей. Вся его правая рука, до самого запястья, замотана грязным бинтом. Он неуклюже, как новорожденный котенок, действует больной ручонкой, толкает жестянку, и она идет ко дну.
— Утонула! Вот дрянная! А ну-ка, держи меня, я ее сейчас выловлю.
— Не буду держать. Не хочу!
— Почему не хочешь?
— Потому что я боюсь… Еще заразишься от тебя. У тебя вся тряпочка грязная. Там этих зверушек… микробов… там микробов у тебя много.
— Вот глупая! Это ведь не заразное.
Но девочка откидывается назад всем своим тельцем.
— А тебе больно? Очень?
Мальчик пренебрежительно пожимает плечами.
— Жжет только очень. Вон какая рана большая, вон какая…
Двумя пальчиками, осторожно, девочка берет его за больную руку — ей и хочется посмотреть и боязно.
— А эта большая булавка, она у тебя прямо в ручку воткнута?
Мальчик гордо выпячивает грудь и вдохновенно сочиняет:
— Да. А знаешь как больно-то! Вот ты не хочешь меня держать, а тогда мне придется руку в воду совать и еще больнее будет, и все из-за тебя — я все равно кораблик достану. Значит, не хочешь держать?
Девочка раздумывает, не спуская глаз с завязанной руки, и забавно морщит носик-пуговку.
— Нет, не хочу.
— Ну ладно.
Мальчик делает вид, будто сует больную руку в воду.
— Злой какой, нехороший!
Но он вовсе не злой. Увидев, что его подружка вот-вот расплачется, он встает.
— Тогда я ногой его пригоню. Смотри.
Он носит на босу ногу огромные кожаные полуботинки, которые от времени задубели. При ходьбе они больно натирают кожу, и худенькую лодыжку опоясывает кроваво-красная полоска. Окунув ногу в воду, мальчик ощупывает половицу, стараясь найти затонувший в луже «кораблик».
— Ой, какая холодная! Так еще хуже, у меня теперь башмаки мокрые будут. Давай возьмем что-нибудь другое.
— Ты, когда вырастешь, кем будешь — докером или моряком?
Он пожимает плечами.
— Доктором буду. Знаешь, кто такой доктор? Он людей лечит, чтобы они не умирали…
— А в кого бомба попала, тех доктор все равно не вылечит…
— Смотри, смотри, гидропланчик. Сам сюда к нам приплыл.
По желобку течет уже настоящий ручей и приносит две перекрещенные спички.
— А вот это будет, знаешь что? База для подводных лодок.
Мальчик ставит в воду низенькую скамеечку. Вода послушно проносит под ней спички.
— Видишь, видишь!
Девочка смеется и хлопает в ладоши.
— Сколько воды стало!
— Это же прилив, не понимаешь?
Он радуется своей выдумке.
Большая капля падает прямо на «гидроплан», благополучно миновавший «базу», и спички расплываются в разные стороны.
— Гляди, теперь и у нас дождь идет.
— Жалко, что ветра здесь нет. А то бы мы могли кораблик с парусом сделать, верно?
Напружив щеки, он изо всех сил дует на спички.
— Давай их кочергой зацепим.
Оба поворачиваются к печке, ища глазами кочергу.
И тут только дети понимают, что произошло.
— Воды-то, воды сколько! Весь дом сейчас затопит.
Вода, журча, по-прежнему течет из коридора и расплывается лужей в углу кухни, где прогнила и осела половица. Но теперь уже капает и сверху, вода пробивается между почерневших досок потолка. Крупные капли падают часто-часто, словно с листьев дерева, когда тряхнешь его после ливня. Кажется, что дождь, так упрямо стучащий в окно, незаметно просачивается сквозь стекло прямо на подоконник, где подмокли клубок ниток и краюшка черствого хлеба, которую перед уходом положила сюда мама.
— Смотри, везде вода!
Тяжелые серые капли одна за другой взбухают на потолке, как раз над большой клеткой, подвешенной высоко возле окна, на мгновение повисают в воздухе и со звоном падают на вогнутое дно клетки.
— А где твоя птичка? — вдруг спрашивает девочка. — Она тоже утонула? Почему ее не видно? Почему она не говорит?
— Ее теперь у нас нету.
Мальчик склоняет голову и густо краснеет.
— Где же она?
Он не подымает глаз и пытается улыбнуться, но губы его жалобно кривятся, на глаза навертываются слезинки и тут же исчезают, как будто лопаются хрупкие стеклянные шарики.
— Ты ей больно сделал, да?
— Отстань от меня.
Мальчик поворачивается к своей подружке спиной.
Тоненькая струйка, извиваясь, торопливо ползет по проводу, а затем сбегает по электрической лампочке без абажура.
И вдруг лужа разливается по всему полу, словно рядом, в коридоре, опрокинули бак с водой, и в ту же минуту резкий порыв ветра, как штормовая волна, обрушивается на барак.
Дети пугаются.
— Мари!
— Мама!
Слышно, как за перегородкой с грохотом передвигают стулья, кровать, но вдруг шум стихает. В комнату вбежала женщина, волоча размокшие тяжелые шлепанцы. Она скручивает жгутом рваный черный фартук, и вода из него брызжет во все стороны. На ходу женщина быстро вытирает покрасневшие руки, закрытые до локтя рукавами старенького свитера. Глаза у нее большие, такие, какие нравятся детям, а над бровями, несмотря на холод, блестят капельки пота.
— Боже ты мой, да здесь еще хуже, чем у нас!
— Это только сейчас так много воды натекло.
Пряди седеющих волос падают женщине на глаза, мешают ей. Она откидывает их назад, как откидывают небрежным движением горсть земли.
— А ну-ка, дети, сидите тут тихонько!
Она усаживает ребят рядышком на стол, в том углу, где еще сухо, затем проходит в коридор и выбегает на улицу, посмотреть, что там делается. Сразу же в комнату доносится ее голос:
— Леон, да вы с ума сошли, что ли? Значит, это вы гоните на нас воду!
Худощавый старик без шапки, подставив под дождь согнутую спину, борется с наводнением, — нагромоздив доски от сломанной тачки и кучу какого-то тряпья, он старается преградить путь воде, сбегающей из верхней части города сюда, к баракам. Очевидно, он решил устроить перед своей дверью запруду.
— Как так? Почему это из-за меня? — Старик возмущен. Подбородок у него трясется от холода, по лицу и коротко подстриженным седым волосам струится вода. — Не лезь, пожалуйста! По-твоему, значит, пускай нас затопит? Ты бы лучше сама за дело взялась.
— Злой вы старик! У нас и доски-то ни одной нет.
— А ты возьми у меня, я уже кончил работу! — Схватив доску, старик потащил ее к Мари.
— Вот они, бабы! Орут, орут, а почему — неизвестно. Ну-ка, посторонись. — Леон воткнул доску в грязь перед дверями. — Снимай живо фартук, сверни его потуже да заткни дыру, тогда не будет так течь! Я сейчас, только перед нашей дверью земли насыплю, а потом опять к тебе подойду. А то заладила: злой старик, злой старик…
От холода у него дрожат колени. Он семенит к своей плотине, втянув голову в плечи.
Теперь по коридору бежит только тоненькая струйка воды. Грохот бури, как плотный занавес, спустился на рабочий поселок, поглощая собой людские голоса, несущиеся отовсюду крики. Океан совсем рядом, всего в пятидесяти метрах, сразу же за длинным валом мусора и всяких отбросов. Потоки, шумно низвергающиеся с небес, нельзя даже назвать ливнем, кажется, что ветер подымает с моря целые пласты воды и с силой обрушивает их на поселок, сотрясая своим дыханием жалкие, на скорую руку сколоченные из досок лачуги. Слышится звон разбитых стекол. Здесь всякий раз буря несет с собой бедствия. Кругом бушует потоп; только одной водонапорной башни, величественной, несокрушимой, как якорный битенг, словно не касается этот разгул стихии, и она, подобно крепости, возвышается над поселком. Впрочем, и ее трудно разглядеть сквозь пелену дождя, который, упруго сотрясаясь под порывами ветра, сплошной стеной идет на город. Одна только эта башня как будто не желает отступить перед Атлантическим океаном, перед всем Западом; дождь, сгоняемый порывами ветра с крыши, на мгновение как бы облегает ее стеклянным полукругом, потом вдруг переламывается надвое и разлетается причудливыми облаками водяной пыли.
Мари бегом бросилась обратно. Не заглядывая к себе, она проходит прямо на соседскую кухню, посмотреть на ребятишек, но те смирно сидят на столе, радуясь всей этой суматохе. Мари притаскивает тяжелый деревянный ушат.
— Ну-ка, дети, пойдите сюда.
Она сует в руки детишкам по кастрюле.
— Видите, как я делаю? Помогайте мне.
Они втроем вычерпывают лужу, которая натекла в углу кухни.
Слышно было, как перед входной дверью старик Леон стучал лопатой, — он вернулся, как и обещал, чтобы доделать запруду.
Когда ушат наполнился, Мари крикнула:
— Леон, идите сюда, мне одной не справиться.
— До чего же надоедная ты! Не дай бог, если бы все такие были, — проворчал Леон, но все-таки поспешил на зов соседки.
Они подняли за ручки тяжелый ушат и с трудом перетащили его через земляную насыпь. Ветер валил их с ног, башмаки скользили по размокшей глине; наконец они остановились.
— Вот погодка проклятущая! — воскликнул Леон. — Если мы с тобой здесь воду выплеснем, тогда ведь Жежена совсем затопит. Давай лучше отнесем подальше в сад.
Легко сказать, — а как нести ушат под этаким ливнем еще дальше, еще десять метров?!
Когда они вошли в коридор, с трудом переводя дыхание и не вытерев блестевших от воды рук и лица, дождь вдруг перестал. Последний порыв ветра осушил воздух, словно крепко прошелся по нему тряпкой, и во внезапно воцарившейся тишине стали слышней человеческие голоса, журчанье воды, беспорядочный топот деревянных башмаков. Крыша лачуги — и та будто сбросила с себя груз. Легче дышалось. Зато холод стал ощутимей. Над морем небо очистилось.
— Вот хорошо, явилась наконец! — сказала Мари. — Дети, сидите смирно, там у вас сухо!
К бараку подбежала молодая женщина, промокшая до нитки.
— Я так боялась, что тебя не будет дома, — еще издали крикнула она Мари.
— Все в порядке, Полетта, не расстраивайся. Мы уже тут сами управились.
— Мама!
Мальчик, широко раскрыв ручонки, бросился к матери.
— Подожди, не подходи ко мне, ты сухой, а я вся мокрая. Иди, иди обратно.
Когда обе женщины вошли в коридор, Полетта сказала упавшим голосом:
— Я сразу же, как дождь начался, помчалась домой. Боялась, как бы здесь чего-нибудь не случилось. И сейчас еле на ногах стою.
Увидев залитую водой кухню, Полетта зарыдала:
— Мари, Мари! Беда-то какая! Как же мы теперь жить будем? Ума не приложу!
— Ты бы раньше поглядела, тогда действительно страшно было, а сейчас-то мы уже убрались, — сказала Мари.
— Все разваливается! Ты посмотри на стены! А занавески-то, занавески на что похожи стали! И календарь весь размок, листки поотлетали. Сыро, как в пещере. Какие же мы несчастные, Мари! Хорошо еще, что вода под пол уходит.
— Уходит-то уходит. А куда? Вся ко мне стекает, пойди сама взгляни.
На кухне Мари в полу тоже была дыра, но в самой середине. Обычно ее прикрывали куском старого линолеума. Мари приподняла покрышку.
— Смотри-ка.
Под полом переливалась черная, как деготь, вода.
— Каждый раз, как дождь начинается, вся вода сюда сбегает. И потом, что ни делай, вонь стоит ужасная. Ты разве никогда не замечала? Никогда не говорила: у Мари в квартире дух нехороший? И верно, нехороший… Видишь, к нам отовсюду течет. В комнате я еле воду вычерпала, пришлось кровати передвигать… Пойди переоденься, Полетта, а то еще простудишься.
— Ну, я ухожу, — заявил старик Леон. — Я больше тебе не нужен, надеюсь?
— Послушай, Мари, — сказала Полетта, — какая же ты хорошая!
— Ну, что ты, что ты, Полетта… Ведь и ты бы для меня то же самое сделала…
— Знаешь что, Мари, у меня есть молоко, мне его в комитете выдали. Хочешь, я тебе дам половину, хоть чем-нибудь тебя отблагодарю.
— Спасибо, возьму с удовольствием, — ответила Мари, не заставив себя долго просить. Она взглянула на свою девочку, увидела ее выцветшие глазки и улыбнулась.
— А для меня у тебя ничего не найдется? — спросил Леон. — Может, табачок есть, хоть немножко? Я ведь не клянчу — я тоже заслужил, ты у Мари спроси.
— Нет, Леон, нету. Возможно, у Анри есть табак — не знаю, он коробку с собой носит. Вы сами его спросите. Как только получим пособие, я непременно поставлю вам стаканчик и молока тоже принесу…
Полетта ласково улыбнулась старику, а тот в смущении поскреб пальцем седые усы.
— Ну, тогда до свидания, — сказал он. — Спасибо и на этом. Пойду, а то моя старуха лежит себе и, поди, воображает, что я где-нибудь с молодыми разыгрался, дурья голова!
В здешних краях мужчины добавляют к каждой фразе слова «дурья голова», как другие то и дело повторяют: «конечно» или «так сказать», «понимаешь».
После ухода старика Полетта пошла к себе в комнату, которая — о, чудо! — уцелела от потопа, и начала переодеваться. Первым делом она вытерла плечи тряпкой, но тряпка, сразу же намокнув, только скользила, не впитывая воду.
— Знаешь, Мари, дождь-то прямо ледяной был! Завтра, наверно, снег пойдет!
Полетта слышала, как за тонкой перегородкой возилась соседка, очевидно снова взялась за уборку.
— А топить у тебя есть чем? — крикнула Мари.
Полетта не ответила на вопрос. Она набросила на голые плечи старенькую шаль и вбежала в соседнюю комнату.
— Послушай-ка, Мари, ты ничего не знаешь, нет? Тетушка Фабиенна — ну, та, которая одна жила, в равелине около старых укреплений… — так вот, мне говорили, что сегодня утром ее нашли мертвой. Умерла от холода. Ты ничего не слыхала? У нее буквально крошки хлеба не было. Только и осталось, что кровать, шкаф да печурка. Ну так вот, она отрывала от шкафа по дощечке и шерсть из тюфяка вытаскивала. Так и отапливалась. Как люди живут, Мари! Когда же это кончится? Когда станет полегче? Хоть бы сегодня в порту работа была!..
Полетта снова заплакала, и Мари неловко обняла ее. Пуль это смешно — но она не удержалась и поцеловала Полетту в мокрые волосы. Полетта ведь совсем молоденькая, еще не свыклась с нищетой.
— Хочешь, я тебе кофе разогрею? — спросила Мари. — У меня вчерашнее осталось.
— Если тебя не затруднит, то пожалуйста, — ответила Полетта. — Пойду надену что-нибудь потеплее. Сидите у огня, дети. Ты-то хоть не замерз, сынок?
— Мама, у тебя нет коробочки? Только чтобы не дырявая, нам надо в кораблики играть!
В кухне все пришло в порядок. Только иногда с потолка срывалась запоздалая капля. Но между досками пола неслышно текла вода. Полетта вздрогнула.
Если ночью ударит мороз, их домишко затрещит по всем швам.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Дежурства дедушки Леона
Неподвижно, как труп, лежа в постели, уставив в потолок потухшие глаза, старуха Мели плакала без слез; она не оглянулась даже, когда вдруг отворилась дверь и на пороге появился Леон; руки он скрестил на груди и засунул подмышки пальцы, чтобы отогреть их.
— Так и лежу одна целыми сутками!
Леон оборвал жену:
— Выходит, по-твоему, я должен торчать при тебе, когда воды по колено натекло. Надо мне было отвести воду или нет?
— Да ведь ты опять на целый день пропал!
— Должен был я людям помочь или нет? Когда Полетта приносит тебе чашку молока, ты, небось, не отказываешься, а? У нее в доме потоп.
Старуха замолчала. Леон подошел к ней.
— Ну, ну, не плачь, глупая. Если бы я с утра до вечера при тебе сидел, на что бы мы с тобой жили, а?
Он провел рукой по лбу Мели, потом по ее седым волосам, пересохшим и ломким, как листья табака.
— Ну, успокоилась?
— Пойми ты меня, целые дни я все одна и одна, лежу недвижимая. Вот в голову всякие мысли и лезут.
— Да я понимаю. Но ведь надо что-то делать. Не умирать же с голоду, сидя здесь. Знаешь, Мели, откровенно говоря, мне здесь еще холоднее, чем на улице, здесь уж очень сыро. Ты в постели лежишь, тебе даже тепло. А я без дела торчу, ну, холод до костей и пробирает, прямо кровь в жилах стынет. А на улице я хоть двигаюсь, чувствую, что живу все-таки… Надо будет протопить здесь да переменить тебе белье, а то ты грязная. Пойду попрошу у Жежена ведро угля, ладно?
Леон привычным жестом засунул обе руки под одеяло, рваное одеяло, тяжелое и влажное от сырости.
— А ну-ка, посмотри сама, как нынче тепло, а?
Под одеялом он нащупал плечо Мели и засунул свои иззябшие пальцы между ее неподвижной рукой и костлявым, высохшим боком. От постели подымался тяжелый запах старческого, давно не мытого тела; тяжелый, но теплый дух. Леон, низко склонившись над постелью, почти встав на колени, прижался щекой ко лбу жены.
— Да ты горячая какая! Уж не жар ли у тебя?
— А ты, Леон, весь мокрый! Смотри только не заболей.
— Я пойду к Жежену, попрошу немного угля, у него, наверно, есть. Я бы тоже охотно полежал, погрелся бы, да нельзя же все дни валяться в постели, я ведь не болен.
— Все-таки полежи немножко. Тебе легче будет, отойдешь. Ты не раздевайся, только пиджак сними.
Леон не устоял перед соблазнительной теплотой рваного одеяла и старого тюфяка. Он снял пиджак и повесил на спинку кровати. Сначала хотел было швырнуть его на стол, да вовремя удержался. Стол теперь такой трухлявый, что ткни в него во время дождя пальцем — и выступит вода. Весь словно обомшел, нажмешь на доску и боишься, как бы червяк не вылез. Мели отодвинулась к стене — пусть Леон отдохнет, как раз в середине тюфяка образовалась теплая мягкая ямка. Старуха целыми днями пластом лежит в постели, ну и продавила тюфяк: кости тоже что-нибудь да весят… Леон скатился в ямочку, вытянулся во весь рост рядом с женой и так же, как она, стал молча глядеть в потолок, потом тяжело вздохнул:
— Все-таки это не жизнь!
И вдруг, даже не поворачиваясь к Мели, не отрывая задумчивого взгляда от серого потолка, сказал:
— Фабиенна убралась… нынче ночью.
— Значит, теперь мой черед. Я ведь последняя из нашей компании осталась.
— Какая такая компания?
— Забыл разве? Ну, из нашей… Фабиенна, Жюли, я и потом еще Фредерика. Нас неразлучными звали.
— Чего тебе только в голову не приходит!.. Тогда тебе лет пятнадцать было. Стало быть, ты о молодых годах иногда думаешь, а?
— Полежи с мое в постели, все вспомнишь. В думах человек над собой не властен. Ведь другого-то никакого дела у меня нет — вот и перебираешь, перебираешь свои мысли, и никуда от этого тюфяка не уйдешь, как из тюрьмы. А все-таки ищешь лазейку. Скажем, заболит у меня палец, и мне сразу вот что представляется: помнишь, твой котенок меня оцарапал, когда мы с тобой начали гулять? Я тогда только еще во второй раз к твоим старикам пришла. Отец твой хотел котенка в море выбросить. А я пожалела, не дала. Ты тогда из порта пришел и все пальцы мне перецеловал, помнишь?
— Раз ты говоришь, значит так и было, — ворчит Леон.
— Или иной раз лежишь, не шевелясь, сутки напролет, ноги одеревенеют, будто чужие сделаются, а мне тогда знаешь, что чудится — та ночь на лугу, помнишь? — Нет? Да как же так? Праздник был. Мы целый день пробегали, а весь вечер танцевали, бургундского выпили, я еле на ногах стояла, и обратно ты меня почти всю дорогу нес. А луна-то, луна какая была, помнишь?..
— Хорошо еще, что тебе все только приятное вспоминается!»
— Ну не всегда. Часто тоже и плохое на ум приходит… Фабиенна, та хоть до последнего дня продержалась. И не болела никогда. Отчего она умерла?
— Замерзла. Когда ее утром нашли, она уже закоченела.
— Она сразу умерла, может быть, даже во сне. Фабиенна до конца в постель не ложилась, сама всюду ходила. А я здесь валяюсь, ничего не вижу, ничего не слышу, разве я живу?
— Ходила, говоришь? Бедная ты моя старуха! Видать, что за эти два года ты от жизни отстала, ничего не знаешь. Если бы ты могла себе представить, как теперь здесь старики живут! И с каждым днем все хуже и хуже делается. Все на корню гниет — и свет и люди. Посмотрела бы ты, что в других бараках творится, особенно в такой дождь, как нынче. Здесь у нас еще ничего, терпеть можно. Ты только подумай, до чего Фабиенна докатилась! Верно, она ходила, а угадай-ка, куда ходила, для чего ей ноги служили? Для того, чтобы каждое утро по помойкам шарить. Она, бывало, чуть свет встанет и обойдет все закоулки, да старается никому на глаза не попасться.
— Фабиенна всю жизнь гордая была.
— Такой и до старости осталась. И рылась-то она в помойках для того, чтобы не стоять с нищими у столовой, благотворительного супа не пробовать. Не пойму, чего она стыдилась. Ведь это не наша вина. Не нам должно быть стыдно, чорт их побери! А она бочком, бочком в дверь входила, дурья голова! У нее была большая банка из-под консервов, с проволочной дужкой; нальют ей супу, и Фабиенна плетется в свой равелин. Пока дойдет, все простынет… да она, должно быть, думала: лучше есть холодное, только бы не на глазах у людей. Платьишко все разлезлось, а на голове кружевная черная косынка, хорошая еще, крепкая, — так знаешь, в этой косынке вид у нее был такой, как раньше; помнишь ее прежнюю?
— Фабиенна была молодец. В школе у мадам Дансар все ее прямо обожали. Прочтет, бывало, урок один раз и слово в слово ответит. Прямо не верится! На пианино ведь играть не училась, а потыкает пальцами по клавишам и любую песенку подберет. Такой уж у нее был дар. А пела! Помнишь, как она пела? И настойчивая какая! Своего Филибера еще в школе выбрала, а ей тогда и десяти не было. Заполучила своего милого.
— Ну, не надолго заполучила.
— А все-таки…
— Да ведь он еще в пятнадцатом году умер. И от обоих сыновей ничего нет. Где они? Умерли? В тюрьме? Пропали без вести? Так и пришлось ей доживать свой век в одиночестве.
— Все-таки хоть десять лет, да пожила счастливо.
— Ну, жалуйся теперь, скажи, что я не дал тебе счастья, не сумел.
— Мы, Леон, другое дело. Нам повезло.
— Ага, значит, мы уже не самые что ни на есть несчастные на свете! Живем ведь, перебиваемся… То одному соседу услугу окажешь, то другому пособишь. А попрошайничать я не стал бы. Жежен нас тоже выручает. Когда я его вытащил из воды у шлюза, выходит, я тогда доброе дело сделал. Он это заслужил, добро помнит…
— Леон, гляди, снег пошел…
— Эх, чорт, этого еще только не доставало! Сейчас встану, пойду погляжу, что там делается.
— Послушай-ка, ты вот говоришь, что меня нужно помыть и сменить белье, так надо бы поторопиться; я сама чувствую, что от меня плохо пахнет. Почему ты не позовешь ко мне монахиню? Видишь, какая хворь ко мне мудреная привязалась. Может быть, она в этом разбирается, чем-нибудь поможет.
Леон от злости чуть было не скатился с постели.
— Осточертели мне твои ненаглядные монашки! — закричал он.
— Зато сестра Марта меня хорошенько помоет. А мыслям твоим от этого никакого вреда не будет.
— А кривляются-то они как! И все для того, чтобы честных людей в обман ввести. Они каждым удобным и неудобным случаем пользуются: здесь одному шепнут, там — другому.
— Ты сам знаешь, что возиться со мной радости большой нет, ведь всегда только одна сестра и ходит ко мне. Помнишь, та, небольшого роста, толстенькая? Я об ней ничего плохого не слышала. Она, может, больше коммунистка, чем ты!
— Не болтай ты чепухи! Священник, который к рабочим подлизывался, то же самое говорил. И потом, если бы даже они не притворялись, — кто они такие? Пешки, да и все тут. Ты, другая, третья привыкнете верить долгополым, а их начальники, епископы и архиепископы разные, пользуются этим, усыпляют людей: терпите, братья, говорят, нищетой вас бог испытывает.
— Ты все это в своей газете вычитал?
Леон от негодования застывает на месте, так и не натянув на плечи мокрый пиджак, а тут еще как на грех рука запуталась в рваной подкладке, и пустой рукав беспомощно болтается.
— Ну и вычитал. Я предпочитаю говорить так, как написано в газете, чем… А они, они-то как говорят, твои ханжи, а? По молитвеннику жарят? Ну?
В порту завыла сирена; свистящий и странно хриплый звук с трудом подымается к небу, но тотчас же сникает, всей своей тяжестью рухнув на землю.
— Опять твой будильник врет. На десять минут отстал. Уже полдень, пора за ребятишками идти.
Леон выходит на улицу. С серого неба падает ровными нитями густой снег и сразу же тает, едва коснувшись грязных луж и мокрых от недавнего дождя крыш. Белые хлопья летят так бесшумно, так мерно, движение их так однообразно, что кажется, будто сетка снега неподвижно висит в воздухе и серый поселок с венчающей его огромной водокачкой медленно подымается к невидимому небу, а оно тоже уходит куда-то ввысь. Старик пробирается меж рытвин и ям, стараясь ступать по булыжнику, обходит глубокие лужи, покрытые коркой льда. Он втягивает голову и шею в поднятый воротник. Наушники своей морской фуражки Леон опустил и, желая уберечь от холода нос и веки, смешно морщит брови и раздувает усы.
И вдруг среди всей этой слякоти появляется велосипедист.
Леон быстро сходит с дороги на замерзшую траву.
— Хороша погодка, Леон?
— Ты скажи лучше, что с работой? Вышло?
— Куда там! Человек пятнадцать — двадцать взяли, и все тут! Ведь только один пароход и был.
Из порта уже возвращались докеры. Большинство из них зря потеряло все утро, поджидая сначала пароход, а затем своей очереди отметиться в списках безработных.
Проходя мимо лачуги Жежена, Леон приоткрыл дверь и заглянул внутрь.
— Я, Жежен, пойду ребятишек встречать. Потом загляну к тебе. Хочу попросить у тебя ведерко угля, если только у тебя уголь есть.
— Есть. И рыба тоже найдется. Заходи, буду ждать.
— Ладно, зайду.
Жежен вышел на порог и долго провожал взглядом Леона. Жежену семьдесят пять лет, а Леону уже под восемьдесят. Молодые докеры время от времени уступают Жежену свою очередь на работу, и, бывает, день-другой его нанимают как подручного крановщика. Поэтому он кое-как перебивается. И держится молодцом, двужильный!
Улица, идущая через весь поселок, упирается в бетонированное шоссе, по которому непрерывно снуют грузовики и легковые машины. По обе стороны шоссе лежат развалины домов, виднеются беспорядочные груды камня, обломки бетонных перекрытий, исковерканные куски железа — руины двух рабочих городков, снесенных с лица земли в 1943 году «летающими крепостями». Прежде чем пересечь шоссе, Леон оглядывается направо и налево и потом быстро трусит на противоположную сторону. Оттуда тянется между высокими откосами узкая дорога, где еще грязней, чем на их главной улице. Старик проходит с десяток метров и останавливается у канавы. Этой дорогой возвращаются из школы ребятишки. Каждый день Леон встречает их тут, у первого поворота. Отсюда ему видно, как спешат домой мальчики и девочки, которых он всех знает по именам; уже пять лет подряд он является сюда, как на дежурство, дважды в день, за исключением четвергов, воскресений и каникул, с тех самых пор, когда одного из малышей Ролланда задавило на шоссе военной машиной. Никто Леона об этом не просил: это стало у старика привычкой. А ребятишек в рабочем поселке немало, в каждом бараке по двое, по трое. Леон задерживает их на краю шоссе, воинственно подняв палку, и когда все соберутся, выбирает подходящий момент, потому что, откровенно говоря, сам до смерти боится машин, становится посреди шоссе и, залов палку между колен, крестообразно раскидывает руки, громогласно командуя:
— Проходи, дурьи головы! Живо, живо!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В недрах Атлантического вала
Дедушка Леон, конечно, хороший, но зачем он всегда грозится палкой? Значит, если его не послушаться, он возьмет да ударит? Поль, самый старший из трех приемышей Гиттона, сегодня отстал от товарищей, по обыкновению задумался на ходу, не замечая ни холода, ни снега. Леон замахнулся на него палкой, чтобы мальчик шел скорее. Поль не сразу послушался, но потом перебежал через шоссе, правда, неохотно. Неужели дедушка Леон может его ударить?
Полю одиннадцать лет. Очень многое в жизни кажется ему странным. Он задает себе десятки вопросов и старается разрешить каждый. Поль очень любит Гиттонов, ведь они стали ему настоящими родителями уже давно, очень давно, раньше даже, чем Поль начал себя помнить. Он теперь уж не знает, когда и как ему стало известно, что Гиттоны не его папа и мама, что Клодетта и малышка Жан не его родные брат и сестра, а такие же приемыши, как и он сам. Однако иной раз из самой глубины детства к нему приходят туманные, но сладостные воспоминания: ему кажется, да, да, очевидно, только кажется, что было такое время, быть может, в самые первые месяцы его жизни, когда его ласкала и баюкала родная мама. А вдруг он ошибается? Или это была уже мама Гиттон? Поль не знает. Это незнание, эта неуверенность живет в нем как незаживающая рана, и потому он так непостоянен в своих детских симпатиях, в своих играх и чувствителен, как девочка: достаточно пустяка — косого взгляда или взмаха палки Леона, — чтобы взволновать и горько обидеть Поля…
На его глазах в дом Гиттона входила нищета, как непрошенный гость, и Поль всеми силами, всем своим мальчишеским существом отказывался с нею мириться. Он боялся нищеты, не хотел ее принимать, говорил ей — нет! Никогда он никого так не любил, как ее ненавидел. Ни на час его не покидает щемящее чувство голода, а ведь Поль уже большой мальчик и понимает, что голод не единственная угроза, нависшая над ними. Примерно год тому назад, в октябре, когда начались занятия в школе, Поль о многом догадался. Однажды директор школы велел вызвать для разговора папу Гиттона. Он торжественно заявил докеру, что его сын, ну, одним словом, его мальчик, может выбиться в люди, если, конечно, будет учиться и дальше. С самого начала ученья Поль шел вторым; первым учеником был Пьеро, закадычный друг Поля, докторский сын.
Нетрудно угадать, что произошло потом. Вернувшись домой, папа Гиттон сначала о чем-то тихо разговаривал с мамой, потом уселся у печки, взял на колени Поля и был с ним ласков, как еще никогда в жизни. Папа смотрел на Поля глазами, полными слез, и, должно быть, думал про себя: «Хорошо, очень хорошо, но как же бы я радовался, если бы ты был моим родным сыном и если бы жизнь у тебя пошла хоть немного получше, чем у нас». И он тогда же объяснил Полю: наступили очень тяжелые дни, сынок, но мы как-нибудь выкрутимся. Обязательно выкрутимся, и если Поль будет по-прежнему хорошо учиться, папа Гиттон сделает все, чтобы его мальчик мог продолжать учение и дальше. Папа заговорил об экзаменах, о стипендиях, он веселился в этот вечер, впервые с тех пор, как они поселились в доте, он потащил танцевать маму, а сам пел и присвистывал:
А ну-ка, Поль, дружок,
Налей еще разок.
Поль понял не все. Однако он крепко поцеловал папу Гиттона в колючий подбородок, покрытый жесткими, как наждачная бумага, волосками. А вот теперь, в нынешнем году, когда все должно было решиться, папа Гиттон не заводит больше разговоров о дальнейшем учении. На сей раз Поль понял все, он понимал даже, что ни о чем не нужно спрашивать. Учитель тоже молчал. А ведь Поль по-прежнему шел вторым, после своего друга Пьеро, который все так же оставался первым учеником. Очевидно, тяжелые дни проходили не так быстро, как предполагал папа.
Поль делал все, чтобы убежать от нищеты, всеми силами старался ускользнуть от нее. С каждым днем он все неохотнее возвращался в дот. Если бы только стояла хорошая погода, уж он нашел бы предлог, чтобы побродить по берегу моря, или удрал бы в поле. Но зимой, хочешь не хочешь, приходится сидеть дома, и только по четвергам и воскресеньям он уступал настояниям Пьеро и шел к нему в гости. Там в темной маленькой комнате всегда сидели и ждали приема хорошо одетые бледные люди и, делая вид, что читают, беспокойно листали толстые книги с красивыми картинками, которые Поль жадно разглядывал, когда в приемной не было пациентов. Была там и мама Пьеро, всегда в белом халате с высоким тугим воротничком, отчего ее лицо казалось еще круглее и симпатичней, а руки она мыла сто раз на день. Сначала Поль ничего не смел трогать. Он считал, что сюда его приглашают из жалости, — конечно, доктор с женой, а не Пьеро, потому что с Пьеро они, как-никак, дружки, ровня. Но мало-помалу он привык к докторскому дому и перестал стесняться. Приглашали его сюда и даже сажали иногда обедать не потому, что он бедный, а потому, что они с Пьеро любили друг друга. Поль чувствовал себя у доктора свободно, как дома. Теперь, когда ему давали конфеты и пирожные, он уже не откусывал их маленькими кусочками двумя передними зубами. Только одно щемило сердце, одно отдаляло от Пьеро, который беззаботно съедал все, что накладывала на тарелку мама, — Поль при каждом куске думал: «Это нехорошо, я должен хоть немножко отнести Клодетте и Жану». И он украдкой совал в карман яблоко или конфету, а потом мучился, что все за столом видели. Само собой разумеется, что в эту минуту Поль не чувствовал себя ровней Пьеро… Его охватывало какое-то страшное и печальное чувство. Однако приятные четверги и воскресенья, дружба с умненьким Пьеро, всякие планы, которые они строили вместе, — все это было так не похоже на вечный полумрак дота.
…Если бы дедушка Леон ударил Поля, даже чуть-чуть, ему бы это так не прошло! Поль запустил бы в него комком грязи, бросил бы камень. А потом папа Гиттон сходил бы к Леону и велел бы ему не трогать чужих детей! Но, должно быть, дедушка Леон вовсе не злой. И грозится палкой так, от доброго сердца.
Когда Поль открыл дверь дота, на него пахнуло привычным запахом вареной картошки. Обед был уже подан. Впрочем, приготовление его особых хлопот не требовало. Маленький Жан получит полстакана снятого, голубовато-серого молока, но папа Гиттон не получит вина. Посредине стола красовалась пивная бутылка, однако в нее налита вода, просто вода.
Вскоре явился и сам папа Гиттон. Слышно было, как он положил велосипед на крышу дота. Странное дело — потолок толстенный, бетона, должно быть, метра два, а иногда внутри слышен даже самый тихий звук…
Перешагнув через большую лужу у двери, папа весело сказал:
— Здо́рово они промахнулись с нашим дотом! Сейчас все бараки водой позаливало. У нас хоть не роскошно, зато, по крайней мере, сухо, верно?
— Верно-то верно. Только перед дверью вся глина оползла. По ведь ты ее уберешь, правда?
— Уберу, не беспокойся. В сто раз больше убрали, когда вход расчистили. А это что… пустяки!..
Надо сказать, что папе Гиттону потребовалось немало отваги, чтобы устроить жилье в заброшенном доте. Но его к этому принудила нищета. Иного выхода не оставалось. До переселения в дот семейство Гиттонов ютилось в уродливой халупе; деревянными в ней были только стропила да четыре боковые столба, обшитые… но чем обшитые? — толем. Об окнах и говорить не приходилось, только над дверью имелась застекленная узкая прорезь. Зато на отсутствие свежего воздуха грех было бы жаловаться — дуло изо всех щелей. И вот в один прекрасный день буря взялась за жилище Гиттонов. Для начала она сорвала один лист толя. Целых четверть часа его мотало под ливнем, как разбитый руль, потом он вдруг оторвался и улетел. Родителей не было дома. Когда первый лист унесло бурей, дети облегченно вздохнули, потому что ветер, игравший с листом, сотрясал и всю лачугу. Буря словно задалась целью уничтожить их домик до основания и унести прочь — так упрямо она шатала его, как больной зуб, то вправо, то влево. Затем улетел второй лист; но вот и третий лист, который был прибит снизу, тоже оторвался, с минуту бился и хлопал на ветру, а потом улетел вслед за первыми; вихрь подхватил его, нес несколько мгновений плашмя и пришлепнул затем с размаху к водокачке, как афишу. Потом все началось сызнова. Ветер снимал с домика лист за листом, как с какого-нибудь артишока. Мало-помалу во все углы комнаты проник дневной свет, показывая всю меру случившегося несчастья. Особенно досталось жалким постелям Гиттонов. Дети все еще не решались позвать на помощь. С той стороны, откуда дул ветер, уцелело немного толя; детишки забились в этот защищенный уголок. Но вскоре прятаться стало негде. Осталось лишь несколько досок снизу да скелет домика, нелепый и бесполезный остов, через который беспрепятственно проходили дождь и ветер. Вдоль брусьев, к которым были прибиты улетевшие теперь стены, еще висели, раскачиваясь на ветру, толстые, а где уже и совсем тонкие многослойные обрывки толя, похожие на корешок растрепанного блокнота. И посреди всего этого разгрома на тюфяки, соломенные стулья, на стол лились потоки воды. Зеркальный шкаф омывало дождем, словно осенью оконные стекла в школе. Над головой еще оставалась картонная крыша, выпиравшая наподобие гриба, потому что папа Гиттон время от времени клал на края крыши два-три камня для того, чтобы ее не унесло при первом же шторме, — долго ли до греха? Но к чему крыша, раз нету стен? Да и камни при каждом порыве ветра начинали подпрыгивать — вот-вот провалятся вниз и придавят детей.
Надо сказать, что дети отнеслись к происшествию довольно спокойно. Но папа с мамой, вернувшись домой, остолбенели и в первую минуту не могли понять, что же произошло. Тем более, что к этому времени буря уже утихла. В воздухе не было ни ветерка. Солнце мирно спускалось за море. В голубом небе висел жаворонок, подчеркивая своим трепетным тельцем немыслимую высоту небосвода. В мягких лучах заката разрушенная лачуга выглядела просто неправдоподобно.
Вот тогда-то папа Гиттон повел правильную атаку на дот. Дот целиком уходил в землю. Только на уровне ее выглядывала крыша в виде небольшой круглой площадки, где ребятишки докеров любили играть «в дом». Весьма кстати кто-то вспомнил, что раньше здесь была лестница, выводившая к двери и к зацементированной дорожке, которая на глубине примерно двух метров обегала дот. Для начала соседи помогли пробиться к входу, — ведь, что ни говори, дверь важнее всего, а со всякими удобствами можно и подождать, не правда ли? Глины вывезли две, а может быть, и три сотни тачек. Подступы к дверям были расчищены довольно быстро. Но выяснилось, что земля засыпала и коридорчик-проход, примерно метра на два; расчистили и его, а затем, вооружившись фонарем, проникли в дот. В нем оказалось так холодно и сыро, что на многих нашло сомнение: да можно ли тут вообще жить? К счастью, когда окончательно освободили вход и высокую бойницу, устроенную для стрельбы, а главное, отбросили от нее в виде наклонного откоса желтую глинистую землю, в дот, освобожденный от завала, проник свет, и когда мало-помалу обсохли сырые стены, оказалось, что здесь гораздо светлее, чем в их прежней картонной хижине. Но зато и воняло же тут! До того, как дот засыпало землей, он служил всему поселку, понятно, чем служил… не говоря уже о том, что сюда заглядывали случайные прохожие и туристы, охотно съезжавшиеся в городок на лето и разбивавшие свои палатки прямо на берегу. Их, конечно, привлекало в эти края море. Мама Гиттон не поскупилась на жавель, лила его целыми бутылями. И как пузырилась, пенилась вся эта затвердевшая, как камень, дрянь, а ее приходилось еще скрести, собирать в кучу и, зажав нос, тащить на лопате к выходу. Да еще немало помучились с надписями на стенах и соответствующими рисунками. Даже написанное мелом не так-то легко оказалось смыть. Некоторые непристойные изображения так и не удалось уничтожить, потому что они были глубоко выцарапаны гвоздем на бетонной стене. Пришлось загородить их мебелью — какие кроватью, какие шкафом. Но что ни говори, все лучше, чем ветер и дождь! В дот перетащили весь свой скарб. Кое-как разместились. На вмазанных в стены скобах папа Гиттон повесил полки, а где и просто дощечки. Соорудил он и дверь и даже самое настоящее окно с деревянной рамой и стеклом — раму вмазал цементом в бойницу, и окно вышло прочное, на славу. К тому же у супругов Гиттон неплохой вкус… Если наступит такой день, когда у них будет настоящий дом, они сумеют его обставить, не сомневайтесь! Даже с освещением устроились, приспособив аккумулятор с автомобиля. Конечно, его требовалось часто заряжать и давал он чахлый, тусклый свет, но все-таки свет; папа Гиттон не терял надежды, что рано или поздно он радиофицирует свой дот, тоже с помощью аккумулятора.
— Нас бросает из одной крайности в другую, — не раз говорил папа Гиттон. — Там у нас совсем не было стен. А здесь к нам никакой ветер не прорвется. Теперь если кому насчет Атлантического вала — просим обращаться к нам!
Вначале не обошлось без неприятностей. В один прекрасный день явились полицейские и с ними какие-то господа с портфелями… Вы, дескать, не имели права…
— Какого права? А что вы, позвольте вас спросить, называете правом? Да и дот этот никому не нужен. На что он годился? Ясно, как его привели в порядок, так он сразу всем понадобился. Ну ладно, вы сейчас у меня увидите! — Перепрыгивая через две ступеньки, Гиттон выбрался из дота, залез на самую высокую кучу глины и закричал во весь голос, делая обеими руками широкие округлые жесты. Как раз был полдень. Из порта шли докеры, те, которым не нашлось работы. Они сбежались, обступили Гиттона. — Значит, по-вашему, люди должны спать под открытым небом? Куда же им прикажете деваться?
— Но дот является собственностью морского министерства, — заявил один из полицейских.
— Я же не отказываюсь платить за квартиру, — кричал Гиттон.
Тут уж крыть было нечем. Докеры не могли прийти в себя от негодования. А чиновники растерянно переглядывались с таким видом, словно спрашивали друг друга, не пора ли отступить на заранее подготовленные позиции. Ясно было, что если они посмеют настаивать, им того и гляди дадут по шее.
— Завтра же, — сказал Анри, — все это будет опубликовано в газете. Можете не беспокоиться.
А папа Гиттон уже не мог сдержать свои расходившиеся руки. Он схватил за пуговицу господина с портфелем и яростно крутил ее.
— Послушай-ка, дружок любезный! Забирай себе мой погреб, сделай милость. Только при одном условии. Ты будешь в нем жить, а я в твоем доме поселюсь, дурья голова. Идет?
Короче говоря, чиновники отступили. И больше не возвращались. Впрочем, в скором времени Гиттоны получили бумажку, в которой сообщалось, что плата за помещение взиматься не будет, но квартиранту вменяется в обязанность вносить поквартально определенную сумму за пользование участком, прилегающим к доту.
Вопрос с жильем был улажен. От окна отбросили еще немного глины, и теперь прямо из комнаты был виден океан, а налево так называемый пляж, где полукругом тянулись дачи, утопавшие в зелени по самые крыши из красной черепицы. Словом, вид открывался довольно приятный.
Плохо одно — когда шел дождь, вся земля вокруг раскисала, глина снова оползала, загромождая, как сегодня, окно и лестницу.
— Понятно, я быстро все в порядок приведу, — подтвердил папа Гиттон.
— А что, сегодня опять не было работы?
Гиттон молча посмотрел на жену, ему хотелось узнать, с какой целью она задала вдруг этот вопрос. Жена опустила глаза.
— Я ведь не в упрек спросила, — добавила она.
— Нет, не было работы, — сказал Гиттон. — А сколько у нас осталось гарантийных?
— Думаю, дней на пять, от силы на неделю хватит.
Гиттон — докер. Когда он не имеет работы, из ЦБРС ему выплачивают гарантийный заработок в размере трехсот пятидесяти франков в день, но не больше чем за пятьдесят дней в полгода. Сейчас как раз все ресурсы подошли к концу.
Жена подняла крышку кастрюли.
— Смотри, вот все, что у меня осталось. А тут мы с курами прогадали, да еще как…
— Опять ты о курах!
Гиттон чуть было не прикрикнул на жену, но удержался. Вокруг стола, терпеливо ожидая обеда, сидели трое детей и смотрели на отца; особенно пристально смотрел Поль.
— Ну, ладно, — сказал Гиттон, — что сделано, то сделано. Сколько раз уже об этом говорили. Сама сообрази, откуда бы мы тогда денег взяли?
— Не знаю откуда, а все-таки жалко очень…
Как и все докеры, Гиттоны до наступившей сейчас нищеты держали птицу. Корма были вольные, всегда можно было набрать несколько килограммов зерна, которое рассыпалось во время разгрузки или погрузки. У Гиттона жило за дотом кур шестьдесят и даже несколько уток. Но полгода тому назад, когда гарантийный заработок подошел к концу, Клодетта серьезно заболела, и ее пришлось уложить в постель. Понадобились деньги на лекарства. К тому времени осталось всего двадцать кур. Всех остальных поели; сначала готовили их на разные лады, потом стали просто варить, без всякого соуса, без приправы, словом, зря переводили добро, и от этого долгого куроядения всех членов семейства Гиттон начинало мутить при виде любого пернатого. Тогда папа Гиттон продал всех кур оптом лавочнику; тот, конечно, не преминул воспользоваться бедственным положением семьи и дал всего шесть тысяч франков с небольшим; этих денег давно и в помине нет.
— Не может же это длиться вечно! — с сердцем сказал папа Гиттон.
Он взглянул на троих детей, смирно сидевших за столом и ожидавших своей порции вареной картошки, которую и помаслить-то даже нечем. Гиттону было еще тяжелее, чем если бы они были его родные дети… Особенно жалко Поля, сегодня ему явно не по себе, это прямо бросается в глаза.
Произведения
Критика