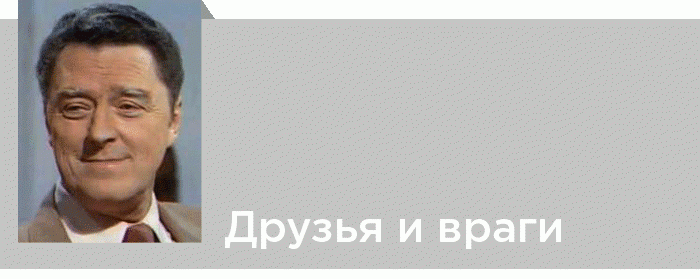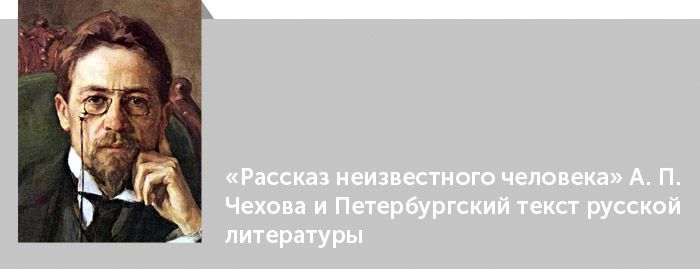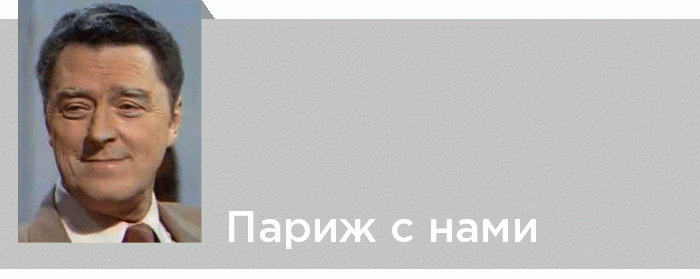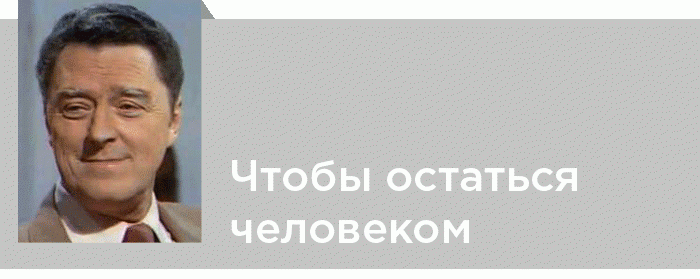Воспитание характера в творчестве Андре Стиля
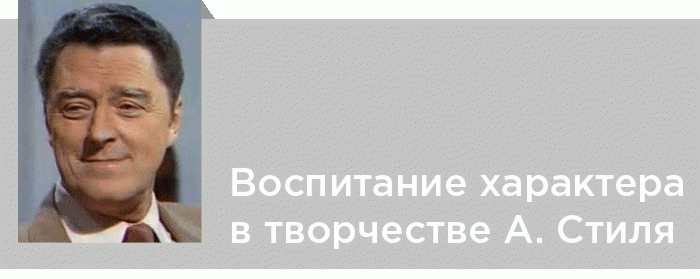
Т. В. Балашова
Перу Андре Стиля (André Stile, род. в
С дискуссиями о путях развития французского романа непосредственно связаны и творческие поиски Андре Стиля. Стремление писателя освоить в последние годы жанр психологической новеллы и романа само по себе характерно.
Имя Андре Стиля хорошо знакомо нашему читателю. Годы, проведенные писателем на шахтерском севере Франции, дали тон всему его творчеству. «Он — единственный французский писатель, — пишет Андре Вюрмсер, — героем книг которого всегда является этот многоликий, громоздкий, причиняющий массу неудобств персонаж — пролетариат...».
Алжирская драма потрясла французскую общественность, отметила особой печатью тревоги и протеста французскую литературу. Поиски Андре Стиля устремились к изображению трагической ситуации, выход из которой еще сложнее, чем отказ штамповать стабилизаторы для бомб (новелла «Стальной цветок») или даже решение потопить пушки («Первый удар»). В центре теперь герой, нравственно еще не сформировавшийся — такого легко собьет с ног любая жизненная драма, а тем более война, где его родина, его Франция выступает агрессором... Характер композиционного и стилевого новаторства А. Стиля определяется именно этой внутренней задачей — нарисовать первый шаг к «ясности».
Книги об алжирской войне — звенья задуманного писателем цикла «Поставлен вопрос о счастье».
Романом «Мы будем любить друг друга завтра» трудный «вопрос о счастье» решается через воссоздание психологического кризиса, момента сильнейшего духовного напряжения. Но кризис этот передан чередой внешне обыденных, «нормальных» для французской действительности событий.
По жанру роман в точном значении слова — психологический. Автор отказывается от событийной множественности, свойственной например «Первому удару». Герои, традиционные для манеры Стиля и объединяющие роман с новеллами «Египетского хлеба» или «Боли», — Шарлемань, Гаспар, Эме — здесь остаются в тени. На первом плане — мучительная эволюция искалеченного сознания.
Кровавая кампания, развязанная французскими колонизаторами в Алжире, как всякая несправедливая война, стала трагедией и для Франции. «Младшие братья тех, кто пятнадцать лет назад сражался в маки против эсэсовцев, теперь, на алжирской земле оказались в противоположном лагере».
Стрелять, заглушая муки совести, убивать, чувствуя себя палачом, глядеть на испепеленные селения расширенными от ужаса глазами — «неужели это сделал я?» — есть от чего сойти с ума французу-новобранцу. Вот она реальная коллизия, куда более тяжкая, чем метафизическое отчаяние, воцарившееся, по утверждению теоретиков модернизма, над двадцатым веком.
«Часто говорят, — горестно роняет автор, — что эта война вырыла ров между французским и алжирским народом. Но еще — между солдатами и их земляками. И еще — ров в сердце каждого солдата».
Об этом и написана книга.
Начало, как всегда у Стиля, увлекательное.
— «Ты будешь моей, стоит мне захотеть!» — это хвастливый мальчишеский выкрик проносится эхом над первой частью романа. То своеобразная предыстория, светлый лирический рассказ о том, как Анни и Раймон полюбили друг друга. Все здесь безоблачно, приподнято, празднично. Полны до краев счастьем сердца влюбленных — радостно певуче повествование о зарождающемся чувстве.
От главы к главе, от эпизода к эпизоду лирическая тема все беспокойнее, взволнованней. Уже к концу первой части — канун отъезда Раймона — появляются (пока словно невзначай) тревожные интонации.
Последнее свидание на заветном острове. Мгновение он смотрит на нее так, словно для них не существует «завтра». Он этого не думает, но может быть, у них действительно больше нет «завтра». И поэтому он должен относиться к ней так, как если бы у них и впрямь не было «завтра».
Повторенное трижды, с каким-то упорством, глухое предзнаменование намечает переход от первой, мажорной, части романа ко второй — иной по колориту. Между ними белый чистый лист со скупой записью: «Война опущена, июнь 1955 — май 1956». Вот он ров, что пересек жизнь Раймона.
Снова вокзал, провожающие в роли встречающих. Но воздух напоен тревогой. Впрочем, никто пока не говорит об Алжире. Но Раймон «заторопился к выходу, как бы стремясь вокзальной дверью еще надежнее отгородиться от войны, все-таки одной преградой больше». На неосторожную реплику Анни: «Ты смеешься совсем как прежде» — угрюмо брошено; «Неужели? Там, где я был, мне не часто приходилось смеяться».
Юноша опять на родном заводе, в руках — штурвал послушного, как гигантское животное, крана. Дома заботливая мать, на дальней, знакомой с детства улице — нежная Анни. Все по-старому и совсем иначе. Дымок от сигареты, приложенной к зажигалке, совсем такой же, как та, американская — вызывает тошноту; ласковый запах шоколада оживляет теперь только чувство отвращения — в Алжир часто привозили залежавшиеся еще с вьетнамской авантюры прогорклые плитки в серебристых обертках. Достаточно бросить любопытный взгляд на мальчуганов, отставших от ватаги сверстников, чтобы нервно усмехнуться: совсем как мы с Фредо, когда посылали нас обыскивать их лачуги. А до чего же страшно смотреть, как свежуют кролика...
Юноша упорно молчит, и родным позволительно только строить догадки. «Раймон! Сынок мой! Что с тобой? Что они с тобой сделали!» — восклицает истерзавшаяся мать. А умная Анни зорко следит, чтобы не встретился Райомон случайно с рабочими-алжирцами. Поведение юноши долго остается загадкой для близких.
Тревожная таинственность сохранена и для читателя. Начало второй части построено на описании лишь внешних проявлений драмы. Душевный надлом дает знать о себе на каждом шагу, но внутренний мир героя пока недоступен.
Зато последняя глава книги бросает читателя в омут кошмаров, терзающих Раймона. Здесь форма внутреннего монолога, которую широко использовали мастера прошлого века, получает ряд особенностей, характерных для психологического романа нашего столетия: стремление к максимально детализированной передаче хода мысли, внимание к подсознательным импульсам, тесное переплетение объективного и субъективного и т. д. По первому впечатлению это «поток сознания», тоже временами бессвязный, болезненно-напряженный. Но полемика с декадентской трактовкой психологии человека здесь достаточно отчетлива.
Сны и кошмары Раймона складываются из объективных картин, запечатлевших все, что легло тяжелым бременем на душу. Явь и сон воссоединяются, образуя сложный психологический узор. Раймон рассказывает себе и невидимому свидетелю — читателю, почему он прицелился в синюю блузу и как случилось, что некоторых его друзей, высадившихся на алжирской землё с твердой решимостью «ничего не делать», вдруг захватила жажда «мести». Раймон то на время обуздывает поток впечатлений, то снова истерзанный падает на дно кошмара. Но и победитель и побежденный он не наслаждается хаосом, наоборот, старается разорвать паутину мучительных воспоминаний, найти «лекарство от тоски», по его выражению. Раймон болен, но жаждет выздоровления, всем существом своим ощущает рядом присутствие нормального мира нормальных людей, которые нужны ему как воздух. Вот эта нравственная атмосфера, исчезающая обычно в модернистском романе, дает эволюции героя перспективу. Чтобы вернуться «к другим», Раймон должен понять, оценить себя, восстановить все по порядку, связать возможно более крепкую цепь ассоциаций.
Мысль течет то смятенно, лихорадочно, то — подчиняясь усилию воли — спокойнее, строже. Истины, вызревающие по мере ее движения, так сложны, что от прозрачности первой части романа не остается и следа. Фраза тянется долго, непрерывно, словно не имея решимости остановиться, словно держась за ее медленно разматывающуюся нить можно добраться до ускользающей правды. Ценой огромного напряжения разума нащупан выход из лабиринта: говорить, рассказывать о преступлениях, которые колонизаторы хотели бы скрыть. Решение, как всегда в романах Стиля, очень конкретное. К героям последних романов Лану (Авелю Леклерку, например, пробирающемуся так же, как Раймон, сквозь чистилище воспоминаний), истина приходит в значительно более общем, философском виде. Реальные возможности участия в антифашистском сражении откроются Леклерку позднее, за пределами книги. Автор «Стального цветка», «Первого удара», «Мы будем любить друг друга завтра» предпочитает ситуации, выводящие к конкретному поступку. Но вероятной при такой задаче прямолинейности А. Стиль старается избежать.
Финальная сцена: Раймон один на заветном острове, куда он все не решается привести Анни. Чуть-чуть улеглись смятенные чувства, чуть ровнее бьется сердце, чуть меньше муки в глазах — вот кажется и все, что удалось пока Раймону. Но это уже много. Еще несколько часов назад мысль о самоубийстве мелькнула в сознании спасительной развязкой, сейчас — побеждает иное: он нужен другим. «Жизнь продолжается... Впрочем, уже близится вечер. Если я запоздаю, дома будут беспокоиться».
Художник сознательно не предлагает законченного решения, оставив героя на первом шаге к ясности. «В центре моей книги, — пояснял он, — вызревающий вопрос... Автор приглашает читателя самому завершить книгу. Не только вообразить ее конец, но и действовать в жизни».
Финал подсказан ощущением читательской аудитории — сотен молодых французов, которых заставили играть роль колонизаторов. «Я не хотел, чтобы в книге предстали разрешенными вопросы, которые в жизни еще не решены, — повторяет автор, — истории, подобные раймоновской, для счастливого завершения требуют большего, чем нескольких страниц романа, — огромных усилий по разъяснению, убеждению, привлечению, постоянной и все более тесной связи с молодыми людьми, которые возвращаются к нам с войны морально уничтоженными, парализованными, потрясенными, растерянными, — требуется гигантская работа по установлению взаимных контактов».
Раймон прошел по грани, отделяющей подвиг от преступления. Он легко мог, — предупреждает автор, — стать и палачом, и героем. Книга зафиксировала первый шаг в сторону от роковой черты, первый миг пробуждения активного гуманизма в податливом, как воск, сердце.
Внутренняя художественная задача, предопределившая пути новаторства — «показать то, что не стало еще ясной мыслью, точным действием, но неумолимо ведет к ним», — остается главной задачей и для следующего романа «Обвал».
Раймон прошел по водоразделу подвиг — преступление; Бернар, герой «Обвала», сошел с роковой черты.
Досрочно уйдя на военную службу и попав в Алжир, Бернар без колебаний выполняет приказы. А это значит, что он совершает опустошительные набеги на алжирские селения, истязает пленных. Однажды, потрясенный гибелью друга и патриотической речью командира («Вот один из виновников, один из врагов Франции, — кричал тот, указуя перстом на связанного старика-алжирца, - один из тех бандитов, которые не останавливаются ни перед чем лишь бы помешать осуществлению нашей славной цивилизаторской миссии!.. Сегодня он понесет заслуженное наказание. Кто хотел бы привести его в исполнение?»), Бернар делает шаг вперед. Под покровом душной и темной южной ночи он вершит «правосудие», стыдом отдающееся в сердце.
Нет, не случайно товарищи зовут Бернара «вонючим добровольцем», а земляки бросают слова оскорбления его брату-шахтеру Альберу. Автор не собирается душевными терзаниями оправдывать преступления. Релятивистская концепция характера, господствующая в модернистском романе, чужда Андре Стилю.
Но Бернар молод. Он в том возрасте, когда человек только начинает вырабатывать свой собственный взгляд на жизнь. «Ведь привыкаешь очень быстро. Привыкнуть можно ко всему... Нормы поведения меняются на глазах... Есть сотни способов перестать быть человеком и столько же — оказаться жертвой».
Письма Бернара родным и его напряженные споры с самим собой открывают читателю мучительный процесс второго рождения. Поначалу он просто верит, что миссия французской армии в Алжире — «умиротворение», лишь изредка мелькает предположение: «Может быть, лучшее средство водворить мир — уйти? День ото дня сомнения все чаще обжигают мозг: «Кто там передо мной? Коммунист?.. Неужели я выстрелил бы в своего отца?.. Я не мог ответить на все вопросы. Но мой палец, лежавший на курке, отвечал. Плоть моя защищалась сама». Сознание дремлет, и руки по инерции реализуют доктрины колонизаторов. Вот шансы инстинкта и разума уравнены: «Альбер, тебе, брату своему, я могу сказать, что дошел до предела... Порой чувствую, что делаю одру подлость за другой; порой — все кажется вполне нормальным».
Угрызения совести, как «мелкий холодный пот, выступающий где-то глубоко внутри», постепенно торжествуют над животными импульсами самосохранения и слепого повиновения чужой воле. В юноше просыпается мужчина, который хочет иметь право честно смотреть в глаза друзьям и доверять самому себе. Таким Бернар приезжает на побывку домой. Казалось бы, конфликт исчерпан. Достаточно веского слова Альбера, укоризненного взгляда земляков — и Бернар останется в родном городе.
Но жизнь редко следует предначертанным путем, а роман Стиля полемичен по отношению к художественной схеме, упрощающей сложность реальных взаимоотношений между людьми. Бойкот молчания, которым встречают Бернара на родине, вызывает обратную реакцию: слишком дорогой ценой завоевал он «ясность», чтобы легко прийти с повинной.
Бернар начинает бравировать «исполнительностью» именно с того момента, как освободился от нее.
Еще месяц и Бернар, подобно сотням юных французов, падет на алжирской земле. Письмо его друга, адресованное Альберу, расскажет о последних, уже не оскверненных компромиссом, днях Бернара Давэна.
«Foudroyage» — не только разборка крепи (буквальный перевод заглавия), не только обвал, так часто сопровождающий ее. Это кризис сознания, миг, когда «все скользит подобно грунту, вдруг лишенному опоры», час, когда юноша становится мужчиной, обретая в трудном испытании ясность мысли и зрелость убеждений.
Алжирская трагедия, задевшая в первую очередь юных, соотнесена в «Обвале» с трагедией рабского труда ради барышей капитала. Альбер тоже должен сопротивляться, только не офицерам, а предпринимателям, покупающим его жизнь за гроши, Бунт Альбера — отказ выполнять за нищенскую плату работу, грозящую смертью.
Соединение таких конкретных, точно обозначенных коллизий очень характерно для творчества Андре Стиля.
Иной, но тоже очень конкретный поворот получает проблема воспитания характера в романе «Последний час». Последний час кровопролитной колониальной авантюры. Канун того дня, когда Алжир, провозгласив, наконец, независимость, начал искать свой собственный, национальный путь.
Последний час алжирской войны... во Франции. Потому что ведь воюют не только на африканском континенте, не только те, кто вместе с Раймоном и Бернаром соглашались стрелять в алжирских патриотов, не только те, кто сомневается в справедливости борьбы другой нации за свободу, но каждый, кто несет — пусть в подсознании, пусть невольно, — вековые предрассудки «европейца» по отношению к темнокожим или, наоборот, слепое недоверие оскорбленного ко всей угнетающей нации. Чтобы мир воцарился навеки, нужно беспощадно выжечь плевелы рабства из человеческих сердец. «Последний час» — роман о воспитании интернационализма.
Местечко с кокетливым именем Попон-Финет — родина потомственных пролетариев. В такой среде смешно искать националистов, поборников французского колониального владычества. С молоком матери, с прогорклым дымом родного сталелитейного завода впитали Шарлемань Вале, Аме Сезэр, Марсель Менар, Марселина Биро, старик Иереми и юная Христиана, уже знакомые читателю по другим романам и новеллам, урок пролетарской солидарности, интернационального братства. Но были, видно, в этом молоке и дыме крупицы яда, если отношения между французами и алжирцами — рабочими одного и того же завода — не вдруг становятся теплыми. Кажется, и ребятишки крепко сдружились, и женщины охотно помогают друг другу в бесчисленных житейских бедах, и мужчины уважают своих смуглых товарищей — отличных мастеров, которым приходится работать чернорабочими: кажется, и пожар тушили вместе, и полицейским вместе грубили, но нет же... таится еще что-то незримое, неуловимое, держит каждого на «своей» стороне. Черноглазый сынок Рамдама — первый ученик в школе. Радуются все, но откуда в радости еще и удивление: ведь надо же... сын Рамдама!.. Почему Саид, разговаривая с братом, не пытается даже перевести гостю Шарлеманю смысл диалога, словно берет реванш, наслаждается преимуществом? С чего вдруг пришло в голову подразнить молодую смуглянку, устроить в ее присутствии конкурс на забористое словцо? А когда на Соланж Морель вспыхнуло платье и оказавшийся случайно у порога юный Мулуд должен был бы схватить ее, прижать к себе, чтобы погасить огонь, — какой инстинктивный страх отбросил девушку прочь? «Все поняли... Все поняли, что и Мулуд и Соланж, оба меньше пострадали бы, если бы в воздухе не было этой отравы: того, что говорят об алжирцах и женщинах. Потому-то замешкался на мгновение Мулуд. Потому-то кинулась в сторону Соланж. Драгоценная минута потеряна».
Старый мудрый Шарлемань Валле по травинке выпалывает из себя цепкое, как сорняк, чувство лжепревосходства. Такое же внутреннее очищение переживает и Саид, у которого девять лет назад мародеры-колонизаторы замучили до безумия красавицу-жену. Поначалу Саид холоден, подчеркнуто высокомерен, и Шарлемань едва не взрывается. «Я коммунист, один из старейших здесь. Молчал бы лучше! Твой Алжир! Да я для него сделал, может быть, столько, сколько тебе не сделать за всю жизнь! Ты еще в пеленках был!»
«Да, — вздыхает промолчав Шарлемань. — Живем мы в мире, где каждый прячется», но произнеся последнее слово, он вдруг лукаво улыбнулся: на местном диалекте глаголы cacher (прятаться) и chercher (искать) звучат совсем одинаково: может, и впрямь человек чаще ищет, чем прячется? «Непонимание, недоверие, — в нем и наша вина. Хотя не я, не коммунисты виноваты... Но Франция одна. Она — это и мы. Нам предстоит исправить многое — ради чести Франции. Кому же исправлять чужие ошибки? Нам. Конечно, это несправедливо, но трудно чувствовать себя по-настоящему человеком, если боишься сказать «мы». Я не делал тебе зла, брат мой, но я полон желания искупить — сначала хотя бы щедростью сердца — и в союзе с твоим сердцем — обиды, причиненные тебе в моем доме».
Зимние будни борьбы за дружбу человека с человеком рано или поздно останутся позади — поющая весна отблагодарит за них. Так всегда бывает: «Месяц тянется, и вдруг минута меняет все. Время торопится, задыхается, вьется как в воронке. Тогда получают смысл, обретают ценность пролетевшие незамеченными часы, начинают звучать секунды, которые сами по себе ничего не значили». «Последний час» — роман о таких «серых» секундах, о таких каждодневных непримечательных встречах, о похожих друг на друга каплях, одна из которых переполнит все-таки чашу...
Неприметное здесь, пожалуй, даже излишне буднично, малое занимает еще меньше места, чем в жизни. К сожалению, и события, вовлекающие в свою орбиту многих, волнующие всех (пожар в алжирском квартале, ночные пытки в одном из подвалов, погоня жандармов за Саидом по цехам завода) рисуются как случай, как крохотное звено, хотя иногда это уже узел в цепи, та секунда, когда время начинает торопиться. Порой хочется перевернуть бинокль, увидеть не издали, а крупным планом минуты, от которых зависит торжественный или траурный бой часов.
Но это были бы уже другие книги, другие художественные пути. Ведь направление творческих исканий А. Стиля во многом связано именно с раскрытием характера через будничное. Иногда такой путь выводит его к подлинным удачам — как в романе «Мы будем любить друг друга завтра», иногда, наоборот, острота коллизии почти снята однообразием каждодневности («Последний час»).
В следующем романе А. Стиля — «Пойдем танцевать, Виолина» (1963) — характер воспитывается исключительно на будничном. Только будничное имеет здесь гораздо больше оттенков радости. Человеческие судьбы складываются по-разному. Одним что ни год — несчастья, конфликты, высокие пороги. Другие словно родились в рубашке — трудности отступают, едва появившись. Впрочем, многое зависит от темперамента. Виолина, самая юная героиня Андре Стиля, растет без отца, в доме на счету каждая копейка, работа не из легких, да и парнишка ее суженый — бедняк из бедняков. Но у девчонки завидный характер — зачем грустить о том, чего нет, если есть так много! Мама, которой можно доверить все тайны, Мишель, лохматый сорванец с соседнего двора, забавный пушистый котенок, старый Жюль, всегда приветливо встречающий босоногую вострушку...
Герои предыдущих книг Андре Стиля шли по жизни с трудом, отвоевывая каждый шаг. Виолина бежит вперед с задорным смехом. Ей нравятся люди, «которые умеют рисковать, пробовать, чья душа всегда нараспашку, а голова высоко поднята». Тревоги матери, которая и «радуется как рабыня», или мучения новобранца. Бернара Давэна (в новом романе он появляется как старший, взрослый) для Виолины — прошедший день. Она — уже из другого, завтрашнего поколения. Когда Елена Ренар, возглавившая борьбу работниц ткацкой фабрики, предлагает Виолине вступить в партию, девушка удивилась лишь одному — разве кроме взглядов надо иметь еще и билет? Для Виолины новое, активно-гуманистическое отношение к людям, труду, жизни большого мира естественно, как дыхание. События ее жизни обычны, лишены потрясений и драм, если не считать завидных волнений счастливой юности.
Здесь автор хочет раскрыть за будничным уже не трагическое, а романтическое. Но художественный принцип остается тем же: канва событий и в «Последнем часе» и в «Виолине» подчеркнуто ровна по оттенкам, без цветовых контрастов. С этой нарочитой будничностью писатель связывает свое понимание жизненных конфликтов и художественного характера, свое понимание новаторства. Не только моменты общественных катаклизмов, но каждый день, каждый час требует от человека сердечной теплоты и ответственности. Ежеминутно сдавая экзамен на достоинство, ставя перед собой «вопрос о счастье», человек и на общую трагедию, какой была, например, алжирская война, сумеет ответить актом гуманистической солидарности.
Л-ра: Балашова Т. В. Французский роман 60-х годов. Традиции и новаторство. – Москва, 1965. – С. 38-50.
Произведения
Критика