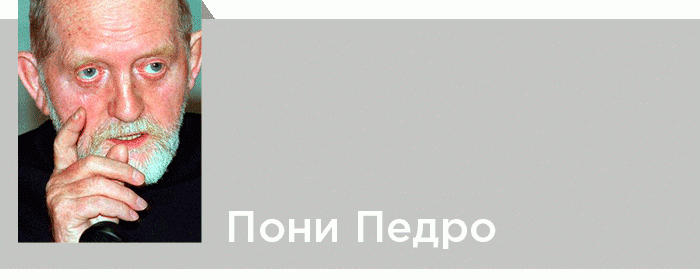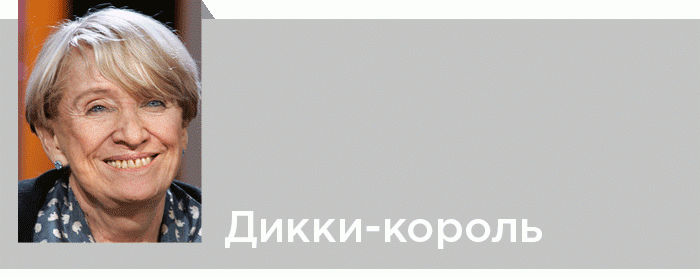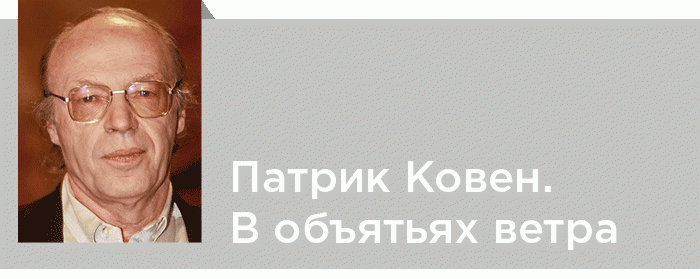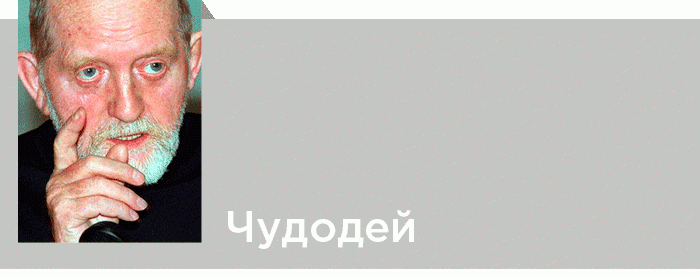Патрик Ковэн. «Вертер», этим вечером…
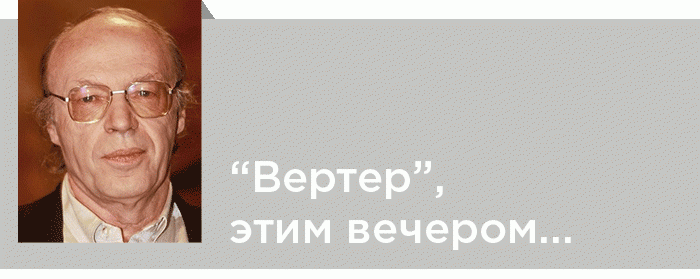
(Отрывок)
I
Зачем будить меня?
Ей пришлось долго бежать по песчаной равнине, что простиралась между холмами Волькерхофа.
Зимняя ночь была светла, и длинная тень плясала под ее ногами. Казалось, вся эта гонка была лишь напрасным преследованием растрепанной призрачной формы — ее ночного двойника, расчлененного неверным резцом ледяной луны. Через пару часов наверняка пойдет снег.
Шарлота зябко поежилась под своим слишком тяжелым пальто. В низине она различила крышу часовни. Линялая ткань неба была истерта до основания. Ей подумалось, что небесный свод — это не что иное, как тронутое молью полотно, в прорехах которого сияет одно-единственное светило, и каждый видимый кусочек его зовется звездой.
Она остановилась и почувствовала, как от напряжения подкашиваются ноги. Теперь она была уже близко, тропинка спускалась вниз правильным изгибом, серебристым полукругом, окаймленным густыми колючими зарослями калины и толстыми стволами лип.
Этот путь она проделывала каждое воскресенье на протяжении всей своей жизни. Она помнила его в нежном вербеновом цвету весны, в палящем зное стремительно улетающего лета, в золоте нескончаемой осени, она все еще слышала, как скрипят колеса коляски по блестящему зимой снегу. Лошадь стригла ушами в морозном воздухе, и из ее ноздрей вырывались клубы пара, густые, словно в дни больших стирок.
Ей казалось, что в царящей вокруг полной тишине слышится прежний звон бубенчиков, свист вожжей, хлеставших лоснящийся круп, детский смех за спиной… Но стоит лишь переступить порог храма — и под сводами воцарится покой… Да, это был совсем иной мир, мир душевного спокойствия, где лишь смена времен года расставляла вехи в ее неторопливой жизни… И вот этой зимней ночью она стоит на старой дороге, сердце бьется где-то в горле, глаза застилает пелена… Былая безмятежность улетучилась… Несмотря на абсолютную неподвижность пейзажа, кажется, что вокруг бушует вихрь.
Она одернула полы пальто и, рыдая, устремилась вниз. Там, в нише древней стены, возле старого каретного сарая, она присоединится к Вертеру.
Он увидал ее в полосе света, пробивавшегося сквозь листву. Ее глаза блестели в лунном свете. Она бросилась к нему с таким знакомым вскриком — нотой, заставившей до предела напрячься ее голосовые связки. Несмотря на свой порыв, она все же едва заметно отстранилась, бросаясь к нему в объятья. Этот жест его всегда раздражал. Объяснялся он просто: она боялась запачкаться в крови, растекшейся по его рубашке. И это было до смешного абсурдно: человек, которого она любит, умирал, а она между тем тряслась, как бы не запачкать свое бархатное зимнее пальто… Она делала так всегда: в Сан-Карло, в «Метрополитен-опере», в «Ковент-Гардене», в Пале Гарнье и вот сегодня вечером в — Манхейме. Это было тем более смешно, что алая жидкость, которой была залита его грудь, запросто отмывалась обыкновенной водой, к тому же, насколько ему было известно, Эмилиана Партони сама не занималась стиркой театральных костюмов. Скорее всего, она вообще никогда ничего не стирала: для этого у нее было предостаточно прислуги… Однако, если бы этим вечером Шарлота испачкалась кровью своего возлюбленного, то это придало бы сцене больше силы и правдоподобия… Не стоило пренебрегать реализмом, ведь уже с первых тактов этой оперы, несмотря на внешнюю слащавость, чувствовалось приближение трагедии… Даже в гимне природе в исполнении хора детишек, открывающем первый акт, уже присутствовала смерть; она таилась в алых лучах первого рассвета, в нежности женщины, испытываемой коварной судьбой… Впрочем, именно так Партони и исполняла свою роль. Благодаря ее манере игры и медному тремоло в голосе, по-матерински нежная девушка уживалась в ней с одной из этих женщин, которым нет прощения у богов.
Он мягко отстранил ее от себя.
— Шарлота, смерть моя близка, так внемли: на погосте…
Он закрыл глаза; отныне его голос звучал самостоятельно, певец был над ним уже не властен. Вертер занимал полагающееся ему место… Два года тому назад один из лондонских критиков написал, что Орландо Натале был самым лучшим Вертером, единственным, кто в наше время мог на оперной сцене воссоздать мертвенно-бледный образ юноши. У других был голос, подходящий диапазон, однако Вертер — это совсем другое. Видимо, чтобы исполнять эту роль, нужно чувствовать глубокое разочарование в жизни, но, в первую очередь, певец должен быть музыкантом.
— И коль страдальца прах не обретет покой в могиле освященной…
Перед тем как взяться за роль, он прослушал все предыдущие записи. Самые великие теноры — от Джильи до Паваротти, Джорджа Тилла до Бьерлинга — исполняли роль Вертера. Но в этой череде звезд был единственный певец, которого он всегда считал на голову выше остальных — Поль Клеман. Впрочем, выше — не совсем подходящее слово, с технической точки зрения его высокие ноты часто затухали в финальных фразах, однако ему был присущ необъяснимый трепет, который передавался слушателям и пробуждал глубокую печаль у потерянных душ. Орландо навел справки о жизни малоизвестного тенора. Дискография того была скромной: он записал лишь «Лючию ди Ламермур» и «Паяца», и в обоих случаях его исполнение было отвратительно… Но единственный раз случилось чудо… Клеман умер в безвестности, в небольшом имении на берегу реки Шер… Больше ничего о жизни певца разузнать не удалось, лишь в одном старом словаре оперных певцов Орландо нашел отрывки интервью, взятых перед войной; казалось, в любовной жизни Клеман потерпел крах. Вертер походил на него, был его товарищем по несчастью, и это было единственное объяснение такого удивительного исполнения роли.
— Не надо слез, ужель и впрямь ты думаешь, что жизнь моя угаснет?..
Его голос задрожал, исполненный сдерживаемых рыданий. Вот-вот они прорвутся наружу, мелодия смешается с плачем, терзающим зал — эту единую трепещущую душу, спаянную из множества человеческих душ, которые, как он чувствовал, сплотились под его властью. Теперь эта огромная чаша полна слез, которые вырвутся наружу, как только падет занавес…
В лучах прожекторов губы Партони казались черными, словно школьные чернила — рот ребенка, объевшегося ежевики… Да, смерть моя близка, Шарлота, дети, херувимы… невинность, искупленье… О, Боже, как тебя любил, как страстью преисполнен был… и упоеньем…
Тенор выпрямился над бушующим оркестром. Он почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза, и не стал их сдерживать. Никакая другая роль не приносила ему столько волнения. Иногда разве что «Трубадур», но то было совсем другое, разница зависела от множества вещей. Этим вечером он был один: он всегда одинок, когда поет «Вертера».
Он и не заметил, как занавес опустился. Когда зажегся свет, певица уже направлялась к рампе. Он встал и присоединился к Эмилиане в центре сцены. Такое чувство, будто слышишь шум моря, растущей надвигающейся волны… В оркестровой яме деревянные скрипки и медные духовые инструменты отражали люстры, роспись и позолоту теперь уже ярко освещенного зала… Он сжимал в своей руке влажные от пота пальцы Партони… Сопрано отвешивал реверансы. Странная пьеса, странная опера. Самая простая история из всех, что когда-либо покоряли мир… Может быть, секрет как раз в ее простоте? Гёте написал роман, увидавший свет в Лейпциге, в 1774 году. Больше века спустя в Вене, в феврале 1892 года, Массне давал премьеру своей оперы… Всё та же история. За исключением нескольких нюансов…
В расплескавшемся за оркестровой ямой море обращенных к нему лиц Орландо искал лицо Куртеринга. Старик должен быть здесь, ведь он не пропускал ни одной постановки. С этим профессором, специалистом по Гёте, Орландо как-то встретился в Нью-Йорке, в кафе у театра. Они долго беседовали… Познакомились они двумя годами раньше, в Милане, в баре аэропорта. Тогда он три вечера подряд пел «Вертера» в «Ла Скале». И во время каждого представления старик сидел в первом ряду. Все свое жалование он тратил на эти путешествия — маленькая слабость профессора-меломана. Он был безумцем, старомодным и счастливым безумцем. Это читалось в его поблекших глазах семидесятилетнего старца.
Не найдя его в толпе, Орландо вновь отступает назад, и занавес опускается в одиннадцатый раз. Бывало и получше: в Москве его вызывали на бис двадцать четыре раза. Это был рекорд. Эмилиана отпускает его руку и отходит в сторону.
— Твоя очередь, Орландо.
Он улыбается. По традиции последние овации принимал он один.
— Увидимся в баре?
Уже зайдя за кулисы, она обернулась.
— Нет, за мной заедет сын.
Двумя пальчиками она послала ему легкий воздушный поцелуй и скрылась в толпе рабочих сцены.
Он обожал Эмилиану Партони. С ее пятьюдесятью восемью килограммами при росте метр семьдесят она развеивала старомодное представление об оперных певицах: репетиции в спортивном костюме, двадцативосьмилетний сын, которого она таскала с собой повсюду, ее провокационная манера курить французские сигареты перед репортерскими камерами. Она утверждала, что выкуривает по три пачки в день, но это была неправда: курила она лишь во время интервью, а потом по сорок пять минут чистила зубы и полоскала рот.
Орландо Натале раздвинул занавес и вышел к рампе. Он простер руки к публике и еще шире улыбнулся. Вновь поднявшая волна окатила его, и ему показалось, что он слышит, как зеленые волны разбиваются о гальку морского берега…
Один на рифе, точь-в-точь как романтические персонажи с обращенным к океану взором на картинах, полных светлых бликов и теней.
Лучший оперный тенор наших дней… Вертер… Кому из них они аплодировали?
Его руки опустились, и в это мгновение он различил на первом балконе чудаковатый силуэт Куртеринга…
Было уже за полночь, когда он вышел из театра и добрался до своего «вольво», припаркованного на одной из отлогих улочек у Кранцплаца. Налетевший ветер, казалось, опустошил город. Полы плаща липли к ногам, одетым в джинсы, и Орландо, ссутулившись, продвигался вперед. Проехать двести километров. Точнее, сто девяносто три. Он любил вести машину в кромешной тьме, и даже в лютый мороз опускал стекла. В такие моменты единственной реальностью для него оставался лишь треугольник асфальта, вырванный из темноты светом фар, да огоньки на приборной панели. Чудесные мгновения, полная смена обстановки. Комфортная неподвижность в салоне из кожи и стали в сочетании со скоростью, разрывающей бездонный мрак ночи. Смесь опасности и спокойствия. И еще одиночество — темное и бездонное, как море. Вихри оркестра и хора, шумные сражения и безумные любовные дуэты, каватины, жалобные напевы и все эти «до» верхней октавы сменялись чуть слышным урчанием мотора, и салон автомобиля казался космическим кораблем, запущенным в невесомость. Лишь огоньки приборов: сто шестьдесят, сто восемьдесят километров в час… Это было наслаждение совсем иного рода — после ослепительного сияния люстр и костюмов плотное, густое спокойствие салона автомобиля напоминало старый бархат, ласковый и приветливый… За это стоило побороться, ведь агенты и импресарио настаивали, чтобы его везде сопровождал личный шофер… Нужно было слышать, как они живописали ему все выгоды поездок в лимузине, где он мог бы спать на заднем сиденье, отдыхая после дневных трудов. Но Орландо не сдался. Он исколесил сначала Италию, а потом и всю Европу: из Парижа в Неаполь, из Рима в Берлин — ездил повсюду, где пел.
Он включил пятую передачу и надавил на газ. Прямая дорога пересекала долину, справа во мраке утопал лес — он чувствовал его тяжелое и мощное дыханье… Ветер здесь густо пах растительным соком и смолой… Вдалеке за лесом простирались холмы и озера Великого герцогства Люксембургского.
Местность — в самый раз для Вертера. Решительно, эта роль его не отпускала. Однако бог его знает, может быть, этот персонаж был вовсе на него не похож. Романтическая раздражительность и лихорадочность была полной противоположностью его безупречного профессионализма. Вертер любил лишь Шарлоту — у него же в жизни было столько нелюбимых женщин… Это можно сравнить с охотой, и охотиться ему, с его-то голосом, славой и свободой, было легко… Разве что та история с Хеленой де Бинджерс, хористкой Хьюстонской оперы, случившаяся около пяти лет назад… Но в конечном счете она для него ничего не значила. Однажды утром солнечный луч, упав на подушку, осыпал волосы молодой женщины золотой пылью. Несколько секунд ее глаза напоминали океанские глубины… И еще улыбка. В какое-то мгновение ему показалось, что это и есть любовь, что она уже стучится в дверь и вот-вот ступит на порог, но женщина спрятала лицо в тень, и очарование тут же испарилось, а охватившая его страсть улетучилась. Достаточно одного жеста, локотка, прикрывшего лицо от слишком жаркого солнца, и море куда-то испарилось — со всеми его бурями, штилями и закатами, когда уходящее лето расцвечивает пляжи медными и оливковыми оттенками.
Прощай, Хелена, целых пятнадцать секунд я почти любил тебя… Он сел в самолет на Торонто, где должен был петь «Тоску», и больше никогда ее не видел.
Вертер же был совсем иным. Он приехал в деревню, заглянул в глаза Шарлоты, и его жизнь раз и навсегда переменилась. Она нянчится со своими братиками и сестричками, однажды вечером танцует с ним, и вдруг как-то лунной ночью, в момент признания, он узнает, что она принадлежит Альберту, «тому, кто мужем станет мне, как завещала мать». Он бежал, пытаясь все забыть, потом вновь увидал ее — уже замужнюю, в объятьях Альберта. Он понимал, что она тоже любит его, однако им не суждено быть вместе… Зачем же жить без Шарлоты? Под предлогом дальнего путешествия он одалживает пистолет, пускает пулю себе в грудь и умирает на руках своей несчастной возлюбленной, единственной страсти всей его жизни… Долгое время книга Гёте была запрещена, ведь ее выход спровоцировал волну самоубийств «а-ля Вертер»…
Умереть от любви… Уж этого с ним точно никогда не случится.
Он убрал ногу с педали. Дорога становилась уже, зигзагами вилась по склонам Левенверга. Потом был прямой пологий спуск к Шорфестену. Из-за горизонта выплыла луна, и теперь на склонах гор можно было различить массивные зубчатые контуры древних пфальцских замков, некогда охранявших подходы к давно исчезнувшим деревенькам.
Потом будет городок, фонари, улицы, обсаженные деревьями, мосты на широких опорах и отель «Оперхаус» на площади Кайзера Вильгельма, прямо напротив дома бургомистра. Его ждали. Джанни, его секретарь, забронировал ему комнату, и в отеле, должно быть, уже поставили в лед шампанское, которое он будет пить с директором в парадном зале, обитом полированным деревом. А чуть позже он уснет, окутанный запахами герани и влажного газона, доносящимися из садика под мраморным балконом. Этот последний каждый раз напоминал ему балкон из «Ромео и Джульетты» в лос-анджелеской постановке Шерони.
Его взгляд упал на электронные часы: 1:07. Меньше чем через час он будет на месте. Джанни отложил все интервью на одно и то же утро. Тогда же будут и съемки для японского канала в преддверии его поездки в Токио, но это не продлится больше двух часов.
Он выпьет немного оберкайльского вина: ему так нравится этот сухой, каменный привкус… Бесцветное, прозрачное, как лесной ручей, вино… А еще — пара прогулок по хеллингхаузенским лесам.
Решительно, от всего здесь исходил аромат XVIII века. Он будет сам для себя, без аккомпанемента, напевать «Прогулки одинокого мечтателя». А потом, поздно ночью в пятницу, уедет в Мюнхен, где его ждут репетиции. Эмилиана Партони будет уже там, и из холла отеля «Савой» он услышит ее распевки.
В темноте Орландо указательным пальцем покрутил ручку радиоприемника. Может быть, повезет нарваться на какую-нибудь идиотскую песенку — это было бы идеально. Какой-то голос говорил на немецком… Проблемы черной металлургии. Кто мог это слушать в час-то ночи? Стрелка пробежала почти весь диапазон. Больше ничего, тишина. Наконец ему удалось поймать старый джазовый мотивчик, и он оставил рыдать гнусавый и безнадежный саксофон. Ветер обдувал его лицо, и Орландо немного прикрыл окно. Он пошевелил ногой, разминая затекшую поясницу, и поудобнее устроился на сиденье. Чувствовал он себя великолепно. Притормозив на повороте, певец въехал в театральную деревню. Клумбы под каждым окном были густо усажены цветами, которые ночью выглядели вырезанными из серого камня. Казалось, никогда эти места не вернутся к жизни, никогда не спадут злые чары — за закрытыми ставнями все было мертво, и никакому рассвету не разбудить эти пустынные места.
Он принялся насвистывать сквозь зубы. На вершине одного из холмов машина вдруг окунулась в серебристую дымку. Скользя над горизонтом, диск луны обдавал металлическим светом очертания гор. Орландо Наталь подумал, что завтра будет хорошая погода.
Саксофон затих. Нет, определенно, его никогда не утомят эти ночные поездки.
Когда мотор умолк, площадь освещал только лунный свет.
Орландо вышел, вдохнул свежий воздух, струившийся вдоль холмов, и ему показалось, что это и есть центр вселенной. И он здесь — единственное человеческое существо.
Крыши сверкали, а под их навесами царил мрак.
В окнах отеля было темно.
Такое случилось впервые.
Обычно на фоне темного фасада выделялся большой светящийся прямоугольник высокой стеклянной двери; он знал, что свет зажгли именно для него, это было своеобразным приветствием.
Решив пока не трогать два чемодана, которые портье поставил в багажник, он переступил две ступеньки, ведущие к «Оперхаусу». Определенно, что-то не так.
Немыслимо, чтобы этот маленький, гибкий и юркий человечек, который управлял отелем и имя которого он забыл, решил не выходить на крыльцо, чтобы лично его поприветствовать. Во время последнего пребывания Орландо в этих местах этот постоянно подпрыгивающий человечек, которого невозможно было представить без галстука… — как же все-таки его зовут? — в порыве энтузиазма напел как-то несколько тактов из «Рыцаря розы», но тут же хлопнул себя ладонью по губам, как будто изрек ужасную непристойность. Покраснев как рак — раки, к слову, были фирменным блюдом отеля, — он пробормотал: «Петь при вас, господин Орландо!» В ответ Орландо заверил, что управляющий обладает премилым баритоном. Тем самым певец привязал к себе управляющего нерушимыми узами вечной благодарности.
Певец на ощупь поискал звонок, но не нашел его.
«Оперхаус» не был современной постройкой. Этому старому частному отелю была присуща мягкая утонченность старинных домов: толстые стены, обивка, видавшая виды мебель, потемневшие картины превращали его в тихую гавань, где сама тишина, казалось, уходила корнями в прошлое… Занавески и ковры приняли тот полинявший окрас, который время дарует дорогим тканям, прошедшим медленную стирку временем, и эти угасшие краски приводили в восторг редких искушенных постояльцев. Тем не менее директор-баритон вынужден был пойти на кое-какие уступки современным веяниям и установил звонок для запоздалых путников.
Орландо решился постучать в стекло.
Никаких признаков жизни.
После четвертой попытки единственный огонек зажегся в комнате на последнем этаже. Вспорхнувшая в тот же миг стайка голубей принялась кружить над площадью, едва не задевая крыши. Орландо отступил на шаг: лестница вдруг осветилась. В отражениях зеркал он увидел, как засияла деревянная обшивка и цветы в вазах у входа окрасились нежно-розовыми оттенками…
Орландо узнал консьержа, чье сходство с Джузеппе Верди его всегда поражало. Нос в форме орлиного клюва сплющился, когда его обладатель прильнул к стеклу. Ему не составило труда узнать посетителя: за последние сорок восемь часов лицо Орландо чаще других мелькало в местных газетах.
Менее чем через минуту певец уже удобно устроился в глубоком и мягком салонном кресле, а директор «Оперхауса», в комнатном халате с бранденбурами, в красно-коричневых тапочках и с наспех вставленной искусственной челюстью, ходил вразвалку взад-вперед и, нервничая, заламывал руки.
— Это ужасное недоразумение, господин Натале; вот уже четыре дня из-за конгресса ботаников в Лихтенштейне все мои комнаты заняты; здесь огромное количество ученых, мне даже пришлось поставить лишние кровати. Когда позвонил ваш секретарь, я ему все объяснил, сказал, что, к сожалению, мест нет. Не понимаю…
Орландо не заходил в свой номер после спектакля. Очевидно, Джанни оставил ему сообщение, а он его не получил. Все прояснилось, но где же все-таки ему ночевать?
— Если бы вы могли где-нибудь поставить для меня кресло, это решило бы проблему…
Директор трагически воздел худые руки к кессонному потолку и стал похож на Монтсерат Кабалье в «Силе судьбы», разве что без пары лишних килограммов.
— Об этом не может быть и речи, господин Натале! Разве ваш секретарь не сообщил вам о нашей договоренности? Уверяю вас, вам понравится.
— О какой договоренности?
Фарфоровые зубы едва не выпали изо рта управляющего. Чтобы удержать их, он резко поднес к лицу платок, словно пытаясь на лету схватить муху.
— Для вас приготовлена комната, господин Натале. Зная вас, я даже и думать не смел отпускать вас на ночь в одну из этих фабрик для сна, пахнущих сырой штукатуркой, которые…
Орландо захотелось силой усадить своего собеседника в кресло, чтобы унять необузданную дрожь его тела.
— И где же эта комната?
Директор резко подскочил, едва не проделав балетное жете с батманом, и его уши синхронно задрожали.
— Меньше чем в двадцати километрах отсюда. Чудесное место, прекрасные люди; иногда при наплыве постояльцев они меня выручают. Я сам проверял, ваша комната окнами выходит на лес. Идеальный комфорт, полная тишина… Однако позвольте предложить вам настойки вербены или липового отвара. А может быть, чего-нибудь горячего, холодного, крепкого — например, шнапса?..
Орландо встал. Он был благодарен этому маленькому господину с моторчиком внутри. Он положил руку на щуплое плечо, надеясь удержать непрерывную дрожь хозяина.
— Шнапс, но при условии, что вы составите мне компанию. Два часа ночи — идеальное время для дружеских посиделок…
Несмотря на протесты Джанни и остальных, он не соблюдал режим. Несколько лет назад у него начались проблемы с весом, но стоило ему несколько раз позаниматься с гантелями в задней комнате у одного знакомого, переоборудованной под гимнастический зал, и вес тут же упал до семидесяти шести килограммов. Для роста в метр восемьдесят один это был великолепный результат. Редкость для тенора. Впрочем, после этого он даже не взвешивался. Тестом на полноту служил жилет Вертера. Когда певец застегивал его с трудом, он немного ограничивал себя в еде и некоторое время налегал на запеченное мясо и минеральную воду. Этого было достаточно. Время от времени он мог позволить себе немного коньяку, виноградной водки или шнапса — в зависимости от того, в какой стране находился.
Прежде чем разлить шнапс, маленький человечек ухитрился опрокинуть с десяток бутылок за своей стойкой из красного дерева, а также разбить хрустальный стакан и перевернуть графин.
— Не желаете ли омлета? А может, колбасок или лёгких закусок? Я мигом разбужу кого-нибудь из поварят, ему будет за счастье…
Орландо поднял свой стакан. Прозрачный напиток вспыхнул на свету, и жидкость искривила выцветшие розовые стены, целиком, вместе с хозяином, уместившиеся в размеры стакана.
— Ваше здоровье!
— Ваше здоровье, господин Натале, и еще раз примите мои извинения за это недоразумение, о котором я сожалею и которое, не сомневайтесь…
Орландо не обращал внимания на болтовню старика. Тепло шнапса разливалось по телу.
Несколько минут спустя он снова сел в машину и включил зажигание. Старик уже объяснил ему дорогу: на выезде из города нужно свернуть на гребень горы, ехать все время вверх, и на вершине он найдет деревянный указатель с надписью «Сафенберг». Дом стоит на въезде в деревушку, самый крайний, на отшибе. Как только Орландо тронулся, директор побежал к телефону, чтобы предупредить хозяев о его приезде.
Ветер почти стих, и Орландо Натале, включив первую передачу, опустил стекло. В свете луны старая площадь медленно развернулась, и он выехал за пределы городка. Теперь дорога вела вверх, и окаймлявшие ее деревья, казалось, встали плотнее. До него долетал запах влажной листвы и мха. Справа он разглядел бесформенное нагромождение скал — возможно, руины средневекового замка. Иногда природа старательно имитирует развалины человеческих построек, а иногда, наоборот, камни замков и домов со временем обретают вид скал… Свою роль в смешивании карт играют и растения: деревья способны расти и на скалах, и на разрушенных стенах… Лес, кустарники, мхи — лишь они вечны… В минуту смерти этот мир будет выглядеть точно так же, как и при рождении: мягкий зеленый шарик, летящий в космосе. Орландо встряхнулся. Что за нездоровый романтизм? Видимо, сегодня вечером в нем крепко засела частичка Вертера. Может быть, все же он, исполнитель, и его персонаж не так уж далеки друг от друга, как ему кажется.
На вершине хребта его поджидал указатель, словно нарочно вышедший навстречу. Выведенные на нем буквы гласили: Сафенберг.
Вот он и на месте.
Деревня была похожа на все остальные, которые он проезжал по пути. Эдакая открытка для бюро путешествий. Что за слово все время повторяла та француженка с которой он познакомился в прошлом году в Лондоне? Миленький? Да, именно. Для нее все вокруг было миленьким. Он спел «Риголетто» как Карузо, они занимались любовью два дня без передышки, и она сказала ему что он миленький. Пение было миленьким, Вагнер был миленьким. Весь мир был миленьким. Без сомнения, она бы и Сафенберг нашла миленьким, вот только на этот раз была бы права. То была миленькая деревенька. Бесспорно. Притормозив на секунду, он медленно двинулся вперед по неровным камням мостовой, сквозь которую пробивалась трава.
В двухстах метрах перед ним сквозь листву мелькнул свет. Это здесь.
Заглушив мотор, он вхолостую съехал вниз по тропинке. Ветви хлестали корпус автомобиля. Он остановился. Певца окутала такая плотная тишина, что он даже не отважился хлопнуть дверцей «вольво». Почему-то ничто не заставило бы его нарушить этот покой.
Он подошел к дому.
Небольшая усадьба.
Стены были увиты диким виноградом. Недалеко от балюстрады расположился фонтан. Вода текла бесшумно. Высокая и тонкая трава, наверное, распрямлялась за ним, пряча его следы.
Вертер. Он вновь ощутил себя героем оперы.
Эти декорации вполне подходили для первого акта. Он приезжает в усадьбу Бальи, где его уже ждут. Солнце играет в листве… Летнее утро. Орландо встрепенулся: сам он приехал ночью, в джинсах, на машине и уже засыпал на ходу. Ничего общего.
Хватит с меня Вертера.
Свет исходил от фонаря, висящего над дверью. Он подошел и резко обернулся. Меньше чем в метре от него что-то зашелестело. В одном из окон шевельнулась занавеска, но теперь все стихло… Однако сама занавеска не могла произвести такой звук… Он напоминал шепот, смешок или тявканье, однако Орландо показалось, что это было не животное.
Он постучал в дверь, и та тут же отворилась.
В коридоре было темно, и лишь луна обрисовывала на серой стене силуэт молодой женщины.
Орландо отступил на шаг и слегка наклонился, чтобы поприветствовать ее и одновременно чтобы получше рассмотреть.
— Я от директора «Оперхауса». Меня зовут Орландо Натале.
Он догадался, что тень улыбки мелькнула по ее лицу, однако самого лица по-прежнему не мог разглядеть. Широкая тень вдруг возникла на лестнице за ее спиной, закрыв слуховое окошко, выходящее на площадку, и старушечий голос проквакал:
— Куда ты положила бабусю?
В повисшей тишине издалека донесся крик ночной птицы.
Молодая женщина ответила, не оборачиваясь. Эти три слова, произнесенные меццо-сопрано, он, должно быть, запомнит на всю жизнь.
— В холодильник, — сказала она.
Потом повернулась, и он разглядел ее профиль. Так Орландо Натале впервые увидал Каролу Кюн.
ДНЕВНИК АННЫ ШВЕНЕН
Отрывок I, 12 ноября
Странно. Почти сорок лет я копила опыт, названия, определения… Я написала целых четыре тома, и про них говорят, что когда-нибудь они станут Гейдельбергской Библией (о, Небеса, не дайте мне сделаться автором Священного писания!), однако, как бы там ни было, иногда, когда я анализирую или просто наблюдаю свои собственные реакции, мне вдруг кажется, что всё, или почти всё, бесполезно. Потому что время от времени я ловлю себя на такой нелепой наивности, поймав на которой какого-нибудь первоклассника, я бы в отчаянии воздела руки горе. Одним словом, приезд новой пациентки укрепил меня в мысли, что здравый смысл во мне не умер окончательно… Однако я знаю, что он является источником самых глубоких человеческих заблуждений, и особенно это касается той области, в которой многие считают меня сведущей.
Дело несложное, его можно изложить в двух словах. Из-за новой пациентки из двенадцатой комнаты (все четные номера находятся непосредственно в моем ведении) у меня сразу возникла проблема личного характера: не рискуя ошибиться, эту пациентку смело можно назвать красивой. Я знаю, или, скорее, должна бы знать, что это не имеет никакого отношения к ее болезни, однако с этой стороны меня подстерегают дополнительные трудности: всегда удивительно сталкиваться с людьми, психика которых тебе кажется интересной, в роли пациентов. Впрочем, «красивая» — не совсем подходящее слово, у нее (хотела написать «просто», но в этой области ничего не бывает просто) такой взгляд, который мужчины, видимо, любят ощущать на себе, занимаясь любовью или совершая очередную глупость. Можно предположить, что тот же эффект распространяется на большинство окружающих.
Ее глаза даруют прощение.
Вот то, что я могу про нее сказать. Несмотря на нейролептики и на то, что Антон называет легальным избиением химической дубинкой, у нее в глазах словно сверкают зеленые огоньки, и эта нежная зелень когда-нибудь пробьется из-под снега…
Между нами сразу же возникла некая связь; мне захотелось спасти эту девчонку, потому что есть в ней что-то весеннее, и это «что-то» пока не улетучилось, я чувствую его под мерзлотой лекарств… Болезнь — это лютая зима… и именно мне предстоит восстановить смену сезонов в этой сломанной женщине, о которой я пока ничего не знаю, за исключением того, что писали в газетах. То есть ровным счетом ничего: всего лишь пикантная история. Она для меня — загадка. Сегодня вечером я не буду открывать медицинскую карту — боюсь спугнуть это очарование… От нее исходит благодать, которая придаст мне силы. Я предпочитаю ничего о ней не знать. Только взгляд и иногда улыбка — словно проталина в снегах… Я занесла, ее имя в реестр… Это все: Карола К. Комната 12. А еще есть письмо от этого Натале… полная чушь.
Произведения
Критика