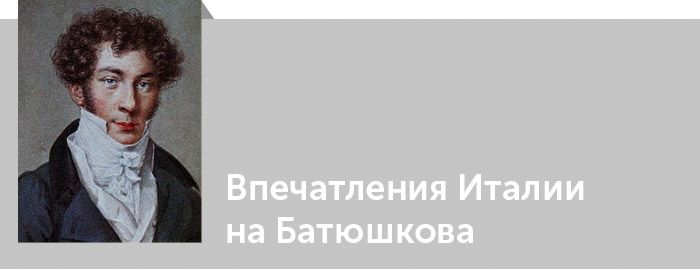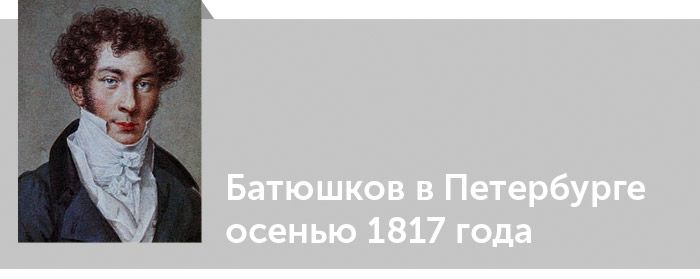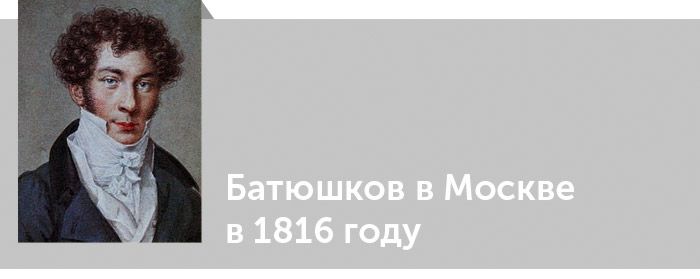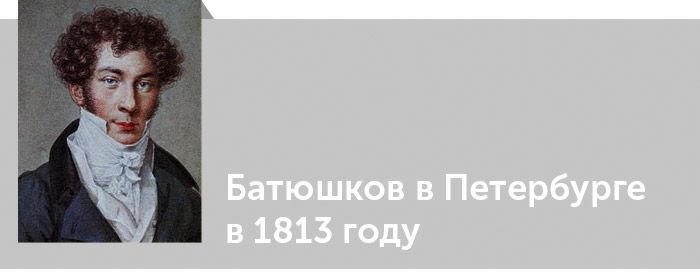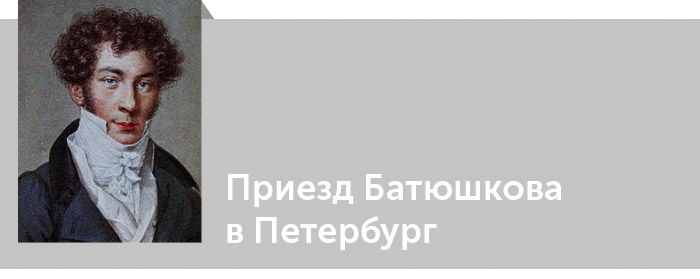О системе элегий К.Н. Батюшкова

Н.Н. Зубков
Поэзию К.Н. Батюшкова нельзя назвать неисследованной. Однако ни в трудах Г.А. Гуковского и В.В. Виноградова, ни в книге Н.В. Фридмана «Поэзия Батюшкова» жанры его поэзии, и в первую очередь важнейший из них — элегия, не были описаны как целостная система. Ближе других к этому вопросу подошла И.М. Семенко. Однако сделанные ею замечания (важнейшее из них — разделение батюшковских элегий на «интимную элегию разочарования» и «историческую элегию разочарования») довольно суммарны.
Тенденция Батюшкова к объединению своих элегий в единое целое, его стремление дать почувствовать в них некоторое организующее начало очевидны. В наиболее общем виде это начало можно определить как «смешанное чувство», с этим, понятием элегию связывало большинство теоретиков начала XIX в. Своеобразие элегий Батюшкова состоит в вариантах конкретного выражения «смешанного чувства».
Опуская метрику элегий Батюшкова (хотя и она достаточно показательна для установления общей системы), обратимся к уровню, на наш взгляд, ключевому для понимания его поэтики, — к лексике. Она имеет отчетливо выраженный формульный характер: определенным объектам, число которых ограничено, соответствует некоторое, также ограниченное, число словесных обозначений — формул. На это уже неоднократно обращалось внимание. Так, Л.Я. Гинзбург писала: «...любовная лирика Батюшкова — совершенная система прекрасных формул. У Батюшкова была своя действительность: обобщенные этими формулами ценности душевной жизни человека». Такая формульная поэтика характерна для целого ряда поэтических систем так называемой «эстетики тождества». Аналогии с некоторыми из них, как представляется, помогают многое уяснить в поэтике Батюшкова. Вместе с тем, как мы постараемся показать, эстетика тождества у Батюшкова подходит к своему кризису.
При рассмотрении лексики батюшковских элегий оказывается, что именно группы формул, обозначающих объект, а не сами объекты оказываются для него наиболее существенными; формулы, обозначающие один и тот же объект, могут быть настолько резко противопоставлены друг другу, что сам объект как бы распадается на два, причем это относится прежде всего именно к важнейшим объектам элегий Батюшкова.
Покажем это на примерах. Героиня любовных элегий чаще всего обозначается словом «друг». Формулы с этим словом наиболее нейтральны и не имеют сколько-нибудь явных семантических обертонов. Однако их употребление в качестве основных любовных формул связывает любовь с дружбой, а это для Батюшкова высочайшая и, может быть, единственная абсолютная ценность. Даже в известной записи про «человека, каких много» дружество снимает раздвоенность героя; «...в дружестве, когда дело идет о дружестве, черному нет места: белый на страже!».
Существенную роль играют у Батюшкова и формулы со словом «ангел» (например, в «Тавриде»: «Друг милый, ангел мой!»). В начале XIX в. употребление выражения «мой ангел» было весьма ощутимым и почти кощунственным новшеством. Можно предположить, что формулы для обозначения любви, несущие «религиозную» семантику, имели в поэзии того времени и, в частности, у Батюшкова, более глубокий смысл, чем это кажется нам, привыкшим к такому словоупотреблению.
Формулы со словом «ангел» и отчасти со словом «друг» связаны с представлением о любви как о высокой, духовной ценности. Напротив того, когда в элегиях Батюшкова появляется эротика, он пользуется другими обозначениями: «нимфа» («Веселый час»), «дева» («Источник»), «подруга» («Мечта»), Различие между двумя пластами формул проводится вполне последовательно.
Это различие сохраняется и в портретных формулах батюшковских элегий. Здесь показательно уже резкое преобладание «эротических» формул над «высокими». Героиня «высокой» любви (назовем ее условно «ангел») воспринимается только субъективно, как бы создается мыслью поэта, а потому почти бесплотна. Портрет «ангела» мы найдем лишь однажды — в «Моем гении», причем там упоминается лишь лицо и только в самом общем виде — одежда («наряд простой»). Героиня же «эротических» стихотворений (назовем ее условно «нимфа») описывается неоднократно, причем формулы эротического портрета весьма устойчивы. Например, в «Элегии из Тибулла» читаем:
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеяны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Аналогичные формулы — в «Привидении», «Тибулловой элегии XI», «Мечте». Само собой разумеется, что все эти формулы — не специально элегические и именно по контрасту с собственно элегическими формулами вводятся в этот жанр. Сюда же относятся формулы эротических жестов, также неоднократно встречающиеся у Батюшкова. Отметим, что в текстах стихов о «высокой» любви не встречается Ни одного жеста и лишь однажды (в элегии «На развалинах замка в Швеции») есть значимое отсутствие жеста:
Красавица стоит безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...
Жестовым формулам «высокой» любви соответствуют, очевидно, формулы духовного общения (например, в «Выздоровлении»: «Тобой дышать до гроба стану»). Любопытно, что в «Веселом часе» формула «То воскреснем, то умрем» связана жестом и потому эротична, в «Разлуке» же эта формула связана со словом (духовной субстанцией) и потому становится «высокой».
Наконец, эротические формулы у Батюшкова относятся к настоящему, преходящий характер которого подчеркнут. «Высокая» же любовь заполняет как настоящее, так и прошлое и, очевидно, будущее. Оппозиция «эротика— высокая любовь» связывается с оппозицией «время — вечность», и потому эротика, по необходимости связанная с временем, становится ценностно неравнозначной «высокой» любви, а в контексте христианской морали Батюшкова в 1817 г. — едва ли не чем-то недолжным по отношению к ней.
Совсем иного порядка, но в чем-то аналогичная оппозиция существует для формул смерти. В большей их части смерть изображается мрачной, что характерно не для всех поэтов начала XIX в. В особенности это относится к двум группам формул смерти у Батюшкова: формулам, прямо называющим смерть, и формулам, использующим метафору увядающего цветка. Последние вряд ли были для Батюшкова простой метафорой — слишком активно он их разрабатывал.на протяжении всей жизни. Обычно они связаны с безвременной смертью, причем часто (например, в элегии «К другу») — с гибелью некоторой высочайшей ценности. Стоит отметить, что семантическая насыщенность этой группы формул возрастает со временем. Возрастает также количество и насыщенность формул прямого называния смерти. В ранних элегиях их практически нет; в элегиях 1815—1817 гг. они играют очень большую роль, и чем дальше, тем ближе они к реальной картине умирания.
Формулам мрачной смерти противостоят другие — формулы просветленной смерти. Их очень мало, но они важны. Мы находим их в самых философичных, самых значительных для автора элегиях: в «Надежде», «К Другу», «Умирающем Тассе». Светлая смерть снимает трагизм мрачной (в контексте сборника, где хронология принципиально уничтожена, а все оппозиции предполагаются изначально существующими). Сразу же за описанием агонии в «Умирающем Тассе» идет монолог героя, весь построенный на формулах просветленной смерти:
Смотрите, — он сказал рыдающим друзьям,—
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное Светило засияет.
Уж ангел предо мной, вожатай оных мест;
Он осенил меня лазурными крилами...
Отметим, что лучший мир, в который переходит умирающий, здесь (в других местах у Батюшкова — так же, но менее отчетливо) воспринимается вполне пространственно. Мрачная же смерть в большинстве случаев связывается с языческим Аидом. Мы получаем поэтому противопоставление «языческое — христианское», существенное и для формул любви.
Итак, два основных объекта элегий Батюшкова — любовь и смерть — распадаются на две пары: «высокая» любовь — эротика и светлая смерть — мрачная смерть. Чрезвычайно важным представляется то обстоятельство, что формулы, относящиеся к разным объектам, объединяются между собой. Объединение это происходит в разных случаях по-разному. Так, формулы «высокой» любви семантически смыкаются с формулами дружбы. Точно такое же семантическое слияние происходит у них и с формулами светлой смерти, и с религиозными формулами. Вместе с тем каждая из этих групп формул может существовать и отдельно. В совокупности же они дают некоторое семантическое единство более высокого порядка.
Несколько иначе соединяется с другими объектами мрачная смерть. Здесь налицо не сочетание и слияние семантически близких формул, а замещение одних формул другими. Так, в элегии «К Гнедичу» место смерти занимает старость (а место любви — дружба); в стихотворении «К Дашкову» в качестве носителя зла выступает война со своими бедствиями и т. д. Впрочем, возможны и сочетания объектов, связанных со смертью. Например, в «Веселом часе» появляется война как мотивировка смерти, а также мотивы скоротечности времени, предваряющие мотивы смерти. Однако слияния формул, такого, как в группе объектов «любовь — дружба — религия», здесь не происходит.
Наконец, существует еще одна группа объектов, которую можно назвать «идиллически-эпикурейской». В ней в отличие от предыдущих трудно выделить один доминирующий объект. Чаще всего встречаются эротические формулы. Однако они обычно выступают как подчиненные по отношению к формулам идиллического хронотопа (наиболее развернуто представленного в переводах из Тибулла) или эпикурейским формулам вообще, связанным не только с любовью. Здесь, очевидно, первостепенно важно тяготение определенных формул друг к другу.
Во веех трех случаях мы от категории объекта приходим к некоторому единству более высокого порядка, к надмежобъектным группам формул, причем легко показать, что появление одних формул влечет за собой появление других. Удобно воспользоваться для обозначения таких групп формул термином «регистр», известным в сходном значении медиевистике и, на наш взгляд, весьма плодотворным при исследовании формульной поэтики вообще.
Итак, у Батюшкова выделяются три регистра: «высокий», «мрачный» и «идиллически-эпикурейский». Их контрастное употребление можно считать основой поэтики батюшковских элегий. Чаще всего их сюжетно-фабульный уровень (к рассмотрению которого мы переходим) основан на противопоставлении «мрачного» регистра одному из двух других; реже встречаются все три, но в этом случае либо «высокий», либо «идиллически-эпикурейский» регистр относительно менее активен.
Как представляется, регистрообразующие формулы создают и фабулу стихотворения. Сюжет же элегии переключает регистры. Поэтому он несложен, сводится к одной-двум функциям, а иногда редуцируется до нуля (но нуля значимого). Чаще всего сюжет включает в себя две функции, которые в самом общем виде можно представить как утрату и обретение. В конкретном тексте они выступают в виде вариантов. Так, в «Привидении» вариантом функции утраты выступает смерть, появление которой включает «мрачный» регистр. Противоположная функция, представленная как воскресение, включает «идиллически-эпикурейский» (в данном случае) регистр, сначала как отрицание «мрачного»:
Я забыт... но из могилы
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец, тебя пугать
а затем сам по себе:
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать,
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать...
В конце стихотворения снова включается «мрачный» регистр, так.как воскресение оказывается нереальным. В целом сюжет получается таким: смерть — воскресение — отрицание воскресения, т. е. смерть. Аналогично связаны сюжет и регистровка и во всех остальных элегиях Батюшкова.
Принцип контрастного употребления регистров и наличие двух противонаправленных сюжетных функций создают условия для проявления в элегии «смешанного чувства». Но контраст сам по себе — еще не смешение; необходима нейтрализация регистровых оппозиций (иными словами, должно быть снято противопоставление регистров в эмоциональном и ценностном плане). Такая нейтрализация происходит при помощи модальных и временных соотношений в стихотворении.
Для описания этих соотношений воспользуемся условным термином «романтическая модель времени» (сокращенно РМВ). РМВ существует в двух противоположных вариантах. Один из них был описан польским ученым Е. Фарыно применительно к Пушкину, выводы этого описания легко распространимы на всю литературу романтизма. Здесь носителем основных ценностей является вечное (ахронное) измерение, отождествляемое с прошлым и будущим. Настоящее же находится под властью времени, понимаемого как разрушительная сила. В лирике, как нам кажется, РМВ, и в частности эта ее разновидность (назовем ее прямой РМВ), специфична именно для элегии. Единство прошедшего и будущего, мечты и воспоминания и создает элегическое «смешанное чувство»: сожаление об утраченном связано с надеждой на обретение утраченного. Прямая РМВ, по сути дела, — наиболее оптимистичный вариант этой модели времени: выход в ахронное состояние полагается возможным. Как правило, прямая РМВ связана с «высоким» регистром. Это естественно — ценности «идиллически-эпикурейского» регистра по природе своей связаны со временем, а потому преходящи. Вследствие этого надежда на возвращение утраченных ценностей связывается с ценностями изначально ахронными, а к их числу как раз можно отнести веру, дружбу и «высокую», любовь — объекты «высокого» регистра.
Вообще же прямая РМВ является, очевидно, нормой для элегий Батюшкова; с незначительными изменениями мы находим ее в 11 из 28 стихотворений раздела элегий в «Опытах...», а также в «Умирающем Тассе».
В прямой РМВ, как уже говорилось, выход в ахронное измерение полагается возможным, поэтому модальность «высокого» регистра в будущем — реальная или желательная (грамматически в последнем случае чаще всего выражается императивом). Но в ряде элегий такой выход полагается невозможным. Ценным в этом случае оказывается только прошлое, будущее же либо вводится с отрицанием, либо вообще отсутствует. Такой тип элегии (назовем его элегией безнадежности) у Батюшкова относительно редок; он получит большое распространение позже, в 20-е годы, особенно у Баратынского. Впрочем, модель времени в таких элегиях можно считать разновидностью прямой РМВ.
Наряду с прямой РМВ существует и обратная. В этом варианте настоящее мгновение воплощает в себе счастье, которое разрушается временем в будущем, а часто и возникает по контрасту с несчастливым прошлым. Естественно поэтому, что она связана с «идиллически-эпикурейским» регистром. Элегий, соотнесенных с обратной РМВ, у Батюшкова также немного, но их противопоставленность норме кажется нам определяющей для классификации разновидностей элегического жанра.
Элегии, связанные с прямой РМВ, назовем «классическими», а с обратной РМВ — «антиклассическими». В совокупности два этих типа вместе с элегией безнадежности образуют ядро элегической системы Батюшкова, а затем и всей элегии 20-х годов.
В обратной РМВ ценности, созданные временем, временем же и разрушаются. Если прямая РМВ предусматривает конечное переключение из «мрачного» регистра в «высокий», то обратная — из «идиллически-эпикурейского» в «мрачный». Отсюда и «смешанное чувство» в этой модели: радость настоящего смешивается с горечью от его неизбежного разрушения. Взаимодействие же двух моделей создает «смешанное чувство» в пределах всего корпуса элегий, взятого как единый текст.
В связи с вышесказанным нуждается, на наш взгляд, в уточнении утверждение, что Батюшков описывает «спокойные и ясно определенные состояния человеческой души». Состояние души героя батюшковских элегий «смешанно» и, следовательно, неопределенно. Батюшкова интересуют изменениядушевных состояний, а если изображается состояние фиксированное, то оно двойственно. Отличие же Батюшкова, например, от Жуковского состоит в том, что у Батюшкова эти изменения протекают не непрерывно, но дискретно.
«Высокий» и «идиллически-эпикурейский» регистры по многим признакам оказываются противопоставленными. Однако они вместе составляют оппозицию «мрачному», и вследствие этого их взаимное противопоставление может сниматься. Правда, для этого требуются специальные условия: необходимо ввести некоторую категорию, связывающую эти регистры, своего рода «элегический медиатор». У Батюшкова роль такого медиатора чаще всего выполняет мечта. В элегии с этим названием снимаются прежде всего модальные оппозиции: ирреальное становится реальным. Формула «счастлив он мечтой» («он» в данном случае значит «поэт», т. е. «я») означает именно то, что ценности, отнесенные в ахронное прошлое или будущее, становятся действительными в настоящем. Но поскольку мечта не ограничена временем, ценности «идиллически-эпикурейского» регистра становятся из преходящих вечными и, таким образом, приравниваются к ценностям «высокого» регистра.
Мы не выделяем, как это принято, в особую жанровую разновидность так называемые «исторические элегии»: они входят в классические. Но это не значит, что они не важны для Батюшкова. Историческое прошлое, поскольку оно содержит духовные ценности, хронологично и ахронно одноременно. Поэтому именно исторический материал благодатен для того, чтобы показать снятие временных противоположностей посредством мечты (как в «На развалинах замка в Швеции») или поэзии (как в «Умирающем Тассе»).
Такова в общих чертах система элегий Батюшкова. Она ясно обнаруживает стремление к четкому жанровому канону. Однако при его создании Батюшков опирается не на авторитеты, а на собственные эстетические представления, что противоречит принципам эстетики тождества, другой, еще более важный симптом разложения которой у Батюшкова — предельная жанровая экспансия элегии в системе его поэзии. Кроме элегии у него остаются только послание, антологическая лирика и эпиграмма. В раздел «Смесь» входит еще несколько стихотворений без четкой жанровой закрепленности, отличающихся от элегии большей развернутостью сюжета, а также отсутствием регистровых оппозиций. Реликты оды в поэзии Батюшкова лишь едва заметны в некоторых его элегиях («Надежда», «На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина»). Элегией стал и романс «Пленный». Понятие «система элегии» у Батюшкова практически равнозначно понятию «система лирики», что открывает путь к разрушению категории жанра в лирике вообще.
Л-ра: Филологические науки. – 1981. - № 5. – С.24-28.