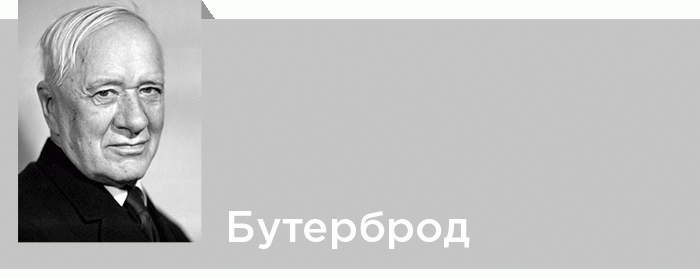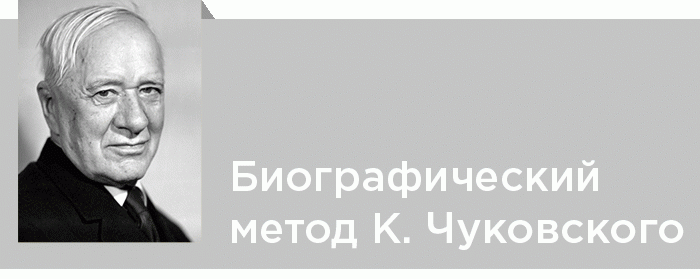К.И. Чуковский - языковед
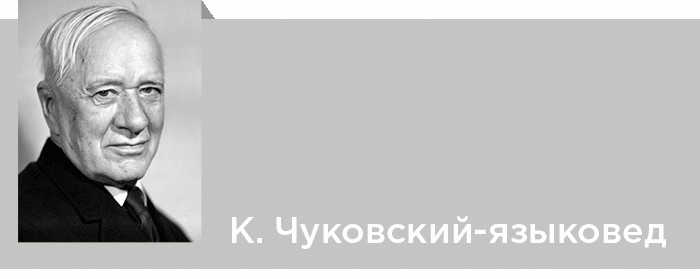
Крысин Л.К.
«Я не лингвист, не ученый», — говорил о себе К.И. Чуковский. Это было, конечно, не так. Он не был лингвистом лишь в том смысле, что не ходил на службу, скажем, в Институт русского языка, а ученым — разве только потому, что не заседал в ученых советах. Во всех остальных отношениях это был прекрасный, тонкий исследователь, замечательный знаток русского языка, его истории, его современной жизни.
Он был одним из немногих писателей, действительно понимавшим законы языкового развития, умевшим объективно смотреть на факты языка, не выдвигая свое личное мнение, свой вкус в качестве единственного аргумента при их оценке. Он мог преодолеть неприязнь к Слову, которое чем-либо ему не нравилось, прислушаться к мнению других, внять голосу молодежи; он не спешил с окончательным приговором новому, понимая, как сложен и непрямолинеен путь нового в языке.
«Он поступал, — писал Корней Иванович об А.Ф. Кони, — как и большинство стариков; отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображали (и воображают и сейчас), будто их дети и внуки (особенно внуки) уродуют правильную русскую речь». Эти слова совсем не применимы к нему самому, потому что, прожив без малого 88 лет, он так и не успел сделаться стариком.
В языке, как и в жизни, он был молодым и все время шел вперед, внимательно всматриваясь в бушующую стихию русской речи, радуясь удачным новшествам и искренне огорчаясь, негодуя по поводу всего, что портило речь. В языке, как и в жизни, он любил все живое, яркое и смеялся над ханжеским пуританизмом, и ненавидел холодную казенщину, бюрократический штамп. Как истинный художник слова — но одновременно и как глубокий исследователь — он отстаивал в языке главное, по его мнению, качество: выразительность.
Он был убежден и убеждал в этом других, что своеобразным и выразительным должен быть слог не только художественного произведения, но и научной, статьи, школьного сочинения, обычной беседы.:
...Как-то Корней Иванович заметил шутливо: вот написал на старости лет книгу о языке («Живой как жизнь»), и лингвисты зачислили меня в свои ряды. Но, если говорить всерьез, эта книга была итогом его многолетних размышлений о языке (которые, может быть, и казались самому писателю попутными, поскольку были связаны главным образом с мыслями о художественном творчестве).
М.С. Петровский, перу которого принадлежит единственная обстоятельная книга о Корнее Ивановиче, пишет: «...их (ранних статей Чуковского. — Л. К.) основным аналитическим приемом было извлечение «портрета» писателя из писательского стиля». Больше того, анализ творческой манеры, мировоззрения писателя молодой Чуковский часто начинал с анализа отдельных слов, выражений, показывая, какую роль играют чисто языковые средства в идейно-художественном отношении.
Так, статью о Куприне он начинает с того, что находит любимые купринские слова: всегда, как обычно, всегдашний, как-то всегда бывало и раньше и др. Для чего он это делает? Для того чтобы дальше показать, что Куприн изображает мир устоявшихся, привычных для него фактов. И в этом мире он чувствует себя настолько уверенно, что может категорически утверждать: «всеатлеты носят фуфайки», «все воры скупы» и т. п.
«Ни у одного поэта нет такого изобилия глаголов, содержащих понятие цвета: чернеть, алеть, синеть...», — пишет он о Бунине. И читая дальше его статью, мы поймем, каким тонким и существенным было это наблюдение.
«Поэт мыслил одними сказуемыми, — говорит он о раннем Блоке («Александр Блок как человек и поэт») и приводит многочисленные примеры. — Такие бесподлежащные, бессубъектные строки Отлично затуманивали речь... Самое слово туманный было его излюбленным словом».
Во всех своих критических статьях Чуковский не только не оставляет без внимания стиль, слово, — он чаще всего и д е т от слова, с него начинает, и собственно литературоведческий анализ немыслим для него без анализа лингвистического.
Статья «Старая книга и новые слова» (
Изощренная наблюдательность и поразительное языковое чутье проявились в заметках Чуковского о детском языке. Эти заметки — первые из них были опубликованы более полувека назад — выросли потом во всем известную книгу «От двух до пяти», в которой не только собраны, но и лингвистически исследованы тысячи интереснейших фактов детского речетворчества. И здесь, в языке детей, Корнея Ивановича в первую очередь привлекала экспрессивность, языковая фантазия; он радуется свежести и смысловой емкости детских новообразований, вслушивается в звучание ребячьего языка, в его ритм и музыку.
Интерес к ритмической организации речи жил в Чуковском постоянно, писал ли он собственные сказки для детей, пересказывал ли чужие, исследовал ли творчество таких гигантов, как Чехов и Блок, или размышлял о сложностях художественного перевода.
В «Высоком искусстве», книге, которая насквозь лингвистична, есть специальные главы, посвященные интонации и мелодике поэтических и прозаических переводов. Верная передача интонационных особенностей оригинала, считал Чуковский, — задача более важная (и вместе с тем более трудная), чем точный перевод чисто словесных средств.
Идея ритмо-мелодической выразительности высказывания отчетливо выражена и в основной работе Корнея Ивановича о языке — книге «Живой как жизнь», которую он написал в 80 лет.
«...Живой язык, — говорит он в этой книге, — никогда и нигде не строится по указке одного только здравого смысла. В его создании участвуют и другие могучие силы.». В многочисленных алогизмах, существующих в нашем языке, вроде думал думушку, делать дело, ужасно смешно, страшно рад и т. п. Чуковский видел стремление говорящих к тому, «чтобы речь была складной и ладной, чтобы в ней был ритм, была музыка и, главное, была выразительность».
В своей книге Чуковский отстаивает все живое в нашей речи перед лицом надвигающейся на язык опасности бюрократизации и стандарта. Книга была написана в разгар дискуссии о русском языке. В ходе этой дискуссии выяснилось, что одни ревнители чистоты языка считают, что все зло в иностранных словах, уродующих нашу речь, другие воюют с разного рода сокращениями, третьи — с диалектными и жаргонными словами.
«Никто не спорит: наша нынешняя русская речь действительно нуждается в лечении, — писал Чуковский, отвечая своим многочисленным читателям, озабоченным судьбой русского языка. — К ней уже с давнего времени привязалась одна довольно неприятная хворь, исподволь подтачивающая ее могучие силы. Но на эту хворь редко обращают внимание. Зато неутомимо и самонадеянно лечат больную от других, нередко воображаемых немощей».
Какая же это хворь? И какие болезни языка — мнимые?
Терпеливо, не подавляя читателя мощью своего писательского авторитета, Чуковский показывает, что заимствование иностранных слов не свидетельство слабости языка, а естественный, необходимый процесс языкового развития. И русский язык, вобрав (и продолжая вбирать )в себя тысячи «иноплеменных слов», стал только еще богаче. Конечно, как и во всем, при использовании иноязычных элементов надо соблюдать чувство меры, не злоупотреблять ими.
И другие болезни нашей речи, на которые жаловались ему авторы писем, Чуковский не считал самыми опасными для русского языка. В чрезмерном засорении речи сложносокращенными, арготическими, грубыми словами он видел лишь временный недуг, с которым легко справится могучий организм нашего языка. Да и не все, что казалось читателям «порчей» и «насилием над языком», было в действительности таковым. И писатель справедливо отстаивал усеченные формы типа зам, зав («слова эти вполне соответствуют ускоренным темпам нашей нынешней речи и входят в нее органически»), мнимые грубости вроде показуха, взахлеб, трудяга, ханжеские наскоки на слова штаны, мерин, балда, дрянь и т. п. Он старался понять и сделать понятным для читателя, почему молодежь так тянется к жаргону (не спасаясь ли от нудного языка иных учебников?), какое место жаргонные словечки занимают в нашем словаре...
Беда нашей речи, ее главная болезнь — в засилье канцелярских и бюрократических оборотов, в безликости и стандарте. Этот недуг писатель назвал канцеляритом. И до конца своих дней страстно воевал с этим злом, не уставая внушать людям, что именно оно, это зло, может привести наш язык к худосочию и хилости.
Захватанный многими руками штамп, боязнь свежего, полновесного слова вызывали в нем бурное негодование. Он не мог оставаться равнодушным, когда видел убогие канцелярские выражения (да еще с претензией на ученость) в литературной статье, в научном сочинении, в обыденной речи. Особенно огорчал Чуковского речевой шаблон у детей, например, в детских письмах к нему: «Желаем Вам новых достижений в труде», «желаем Вам творческих удач и успехов»... «новые достижения», «творческие успехи» — горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно-неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы «канцеляризировать» речь детей».
Где же истоки этой болезни, проникающей во все поры нашего языка? Откуда берется эта неодолимая тяга к округлым, безлико-правильным фразам? Почему так живуча манера выражаться не просто, а с канцелярскими вывертами?
Причина, говорит Чуковский, — в равнодушии: именно равнодушие рождает серый, нивелированный язык. Поэтому не случайным было большое число шаблонов в старой бюрократической речи, «созданной специально затем, чтобы прикрывать наплевательское отношение к судьбам людей и вещей». Писатель называл этот язык бессовестным, воровским жаргоном, потому что о самых мучительных для людей фактах он толкует гладко, с ледяным безразличием: «В том-то и заключается прямая задача бюрократического казенного слога; утопить живое дело в пустословии. Все эти закругленные фразы отлично баюкают совесть».
Его борьба с бюрократизацией, оканцеляриванием языка, его неутомимые призывы оберегать нашу речь от «стертых пятаков» казенного шаблона были войной не только во имя чистоты русского слова. Это была борьба «против душевной пустоты, против попытки заткнуть словом прорехи мысли и совести», борьба за высокую нравственность и культуру человеческих отношений.
Во всем, что он сказал о других и о себе, во всем, что написал и сделал, сверкает яркий и щедрый талант, бьется живая жизнь и нет места неискренности, равнодушию.
Л-ра: Русский язык в национальной школе. – 1970. – № 1. – С. 85-87.
Произведения
Критика