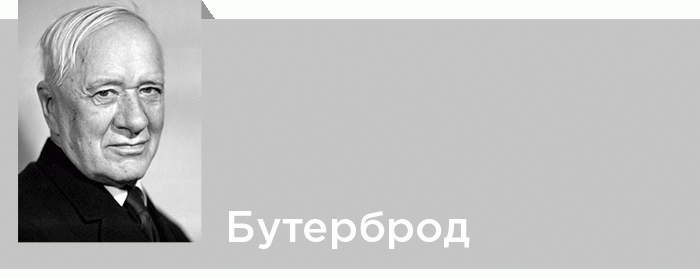Биографический метод К.И. Чуковского
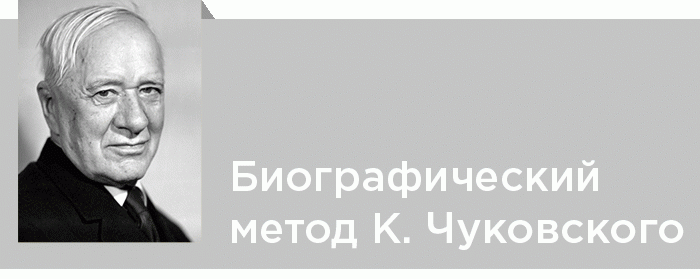
Антонюк М.А.
«Литературоведение для меня раньше всего человековедение», - так определял свой метод К. Чуковский. В истории литературоведения и литературной критике такой подход называется «биографический» метод, который был распространен среди современников Чуковского, а также он сам был его последователем. Этот метод был обоснован французским критиком Шарлем Сент-Бев в конце XIX - начале XX веков. Из него следует, что литературное творение неотделимо от всего остального в человеке, от его творца, «каково дерево, таковы и плоды». В своих очерках он пытается раскрыть присущую каждому из художников индивидуальную красоту и выразительность и через биографию писателя подвести к пониманию своеобразия личности писателя. Для критика важно найти внутреннюю связь между автором и его творчеством.
В отличие от «биографического» метода в буржуазной литературе, он совсем не считал личность писателя единственной субстанцией для объяснения явлений художественного творчества. Скорее наоборот: личность писателя рассматривается критиком как фокус, в котором отражаются страна и эпоха, психологические, литературные и социальные явления. Любое сочинение «обнаруживает подлинную меру своей оригинальности, новизны и подражательности лишь тогда, когда оно рассмотрено и изучено указанным образом, то есть полностью, когда оно помещено в соответствующую рамку, окружено обстоятельствами, сопутствовавшими его появлению».
Биографический метод был распространен среди русских критиков, таких как Гиппиус, Айхенвальд и др. Современник Чуковского, Мережковский, тоже был последователем «биографического» метода. По его мнению, творчество имеет бессознательный, органический и непроизвольный характер.
Своеобразие Мережковского в этом методе проявляется в том, что он пытался анализировать автора художественного произведения со стороны религиозно-мистического толкования, со стороны христианства. Главное влияние на личность художника имела религия, мистика, без этого нельзя понять его истинное лицо. Можно сказать, что для Мережковского внутреннее я художника не отделялось от религии. Он писал о героях «великого язычника» Толстого, что это «он сам... зверобожеское «я» потощает все, что «не я» и что хочет быть иным».
Вересаев писал о людях, с которыми был знаком, у которых «высокая идея была гармонично слита с их переживаниями». Он подкреплял свои воспоминания необходимыми свидетельствами, которые помогали проникнуть в самую суть характера. Герои Вересаева рассматриваются неотделимо от их жизни, эпохи, в них обязательно присутствует идея «живой жизни». Он всегда стремится сохранить все мелочи и факты, которые помогут читателю лучше понять писателя.
Чуковский был одним из самых ярких представителей этого метода. Также как и последователи биографического метода, он пытался понять литературу через знание личности человека. Когда он рассматривал кого-то из своих современников, он пытался найти главную тему в их творчестве, четко выделить главных героев всех произведений автора, а также любимые приемы, слова для создания образов. Чуковский предпочитал делать литературные портреты людей, которых он хорошо знал лично и был их современником, которых он мог наблюдать в непривычной для простого человека обстановке.
При разнообразии тем, поднятых в статьях Чуковского, успевшего написать едва ли не обо всех сколько-нибудь известных своих современниках, в его критической деятельности были своего рода «главные герои», писатели, о которых он писал постоянно. На все (или почти все) впервые выходящие произведения этих писателей он откликался. Именно так строились отношения Чуковского с творчеством Максима Горького и Леонида Андреева. На протяжении нескольких лет, через целый ряд промежуточных статей и рецензий, вызревала итоговая статья о Горьком «Пфуль», и статья о Леониде Андрееве «Устрицы и океан», опубликованная затем в книге «О Леониде Андрееве». Но таких «сквозных сюжетов» в критике Чуковского было немного, в большинстве случаев статья для издания в сборнике готовилась на основе газетных публикаций, которые подвергались доработке, сокращениям и стилистическим усовершенствованиям.
Чуковский не относился к числу критиков, скорых на приговоры, не менял свои мнения, хотя именно в этом его часто упрекали. Его мнение о писателях определялось эволюцией самих писателей, складывалось из наблюдений за их развитием. Это легко проследить на статьях Чуковского, посвященных творчеству Леонида Андреева и Максима Горького. Эти статьи показывают, что по отношению к этим писателям у Чуковского всегда сохранялись некоторые исходные позиции, и менялось не отношение к творчеству, а оценка уровня и значения вновь выходящих произведений и роли в литературе.
Говорят, что для Чуковского писатель, прежде всего живой человек, оттого он так и дорожит своими впечатлениями очевидца, а когда их нет, роется в письмах и дневниках, реконструируя человеческий облик того, кого ему не пришлось знать лично Чехова или Некрасова. Но вернее сказать иначе «живой человек» для Чуковского, прежде всего писатель. Или живописец или артист. В зависимости от того, о ком он пишет. Поэтому получалось так, что первая книга «Леонид Андреев большой и маленький» была написана в защиту писателя, в начале творческого пути часто становившегося жертвой бесцеремонности критики, а книга 1911 года «О Леониде Андрееве» многими и, в частности, самим Андреевым воспринималась как клевета на его творчество. Отвлеченность андреевского творчества от реальности, однообразие его художественных приемов поначалу искупались в пазах Чуковского свежестью авторских идей, но с годами и сами идеи становились столь же монотонными и надуманными, они диктовались стремлением удивить, что критик и не преминул отметить в своих статьях. На самом деле Чуковский в определенный момент ощутил изменение андреевского творчества, из ищущего писателя, обладавшего «лица не общим выраженьем», превратившегося сначала в «подмаксимника», а затем ставшего одним из руководителей полукоммерческого альманаха «Шиповник».
Чуковский вспоминает, что ему было больно нападать на Андреева в статье об андреевском «Океане». «Но делать было нечего» это мог сказать человек, привыкший отстаивать свою позицию, свою тему борьбы за личность и за культуру. Тема тогда уже определялась. Все бытовые подробности, все привычки Леонида Андреева, припомнившиеся Чуковском; так или иначе, участвуют в воссоздании личности художника, той, что полнее всего выразилась его в книгах. Не само по себе изображение Андреева в туфлях и халате увлекает Чуковского, а то, что даже в туфлях и халате Андреев был все тем же Андреевым. Скажем, очерк о Леониде Андрееве начат домашними воспоминаниями о причудах знаменитого писателя. О том, что бывали в его жизни недели, когда он воображал себя моряком и ни о чем другом слышать не хотел. Даже приобретал походку морского волка, или вдруг начинал играть в живописца.
«У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На нем бархатная черная куртка... Всю ночь он ходит по огромному своему кабинету и говорит о Веласкесе, Дюрере, Врубеле. Вы сидите на диване и слушаете. Внезапно он прищуривается, отступает назад, окидывает вас взором живописца, потом зовет жену и говорит: Аня, посмотри, какая светотень!».
И все это искренне, до страсти, до самозабвения. «Это незнание меры было его главной чертой. Камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет точно площадь. Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами: каждое бревно стопудовое, фундамент циклопические гранитные глыбы».
В андреевском быту Чуковский ищет подтверждения своих наблюдений над творчеством этого писателя. Можно было бы сказать, что мемуарист здесь подчинен критику, если бы это не выглядело механистичным раздвоением творческого облика. Никто здесь никому не подчинен, просто Чуковский всеми средствами хочет показать в нем особенность индивидуальность того о ком идет речь. «Для меня каждый писатель, как и каждый человек, единственное в мире явление, неповторимая, своеобразная личность, которую ни в какие рубрики не втиснешь, никакими рубриками не объяснишь».
Воспоминания об Андрееве-человеке косвенно, но отчетливо сказали нам об Андрееве-писателе. Сказали о вдохновенном лицедействе, в котором порою терялся сам художник, его личность, его тема, о гигантомании и ей не был чужд писатель Андреев, про кого тот же Чуковский говорил в ранней статье: «Все свойства своих современников Андреев увеличил до грандиозных размеров... если другие поют теперь отвлеченного общечеловека, то Андреев поет отвлеченнейшего».
Словом, речь шла не о житейских пустяках. Оттого так явственна горечь слов Чуковского, которыми он завершает разговор о пристрастии Андреева к огромному: «Но его огромный камин поглощал неимоверное количество дров, и все же в кабинете стоял такой лютый холод, что туда было страшно войти. Кирпичи тяжелого камина так надавили на тысячепудовые балки, что потолок обвалился и в столовой нельзя было обедать. Гигантская водопроводная машина, доставлявшая из Черной речки воду, испортилась, кажется, в первый же месяц и торчала, как заржавленный скелет, словно хвастаясь своею бесполезностью, пока ее не продали на слом». И дальше: «Финская деревня не для герцогов».
Это говорится о трагедии писателя, который отгородился от жизни своими великолепными и мрачными фантазиями и который в то же время как человек большого и честного таланта болезненно сознавал эту отгороженность.
Почему «финская деревня»? Почему Чуковский прямо не говорит, что российская предреволюционная действительность была не для Андреева? Зачем этот эзопов язык? Он был художник вот и все. В этом смысле искусство всегда говорит на эзоповом языке. В этом смысле говорит на нем и Чуковский. Чуковского ничто так не привлекает, как человеческая разносторонность. М. Петровский в своей книге о Чуковском замечает: «О живописце Корней Чуковский пишет главным образом как о выдающемся писателе-беллетристе, о поэте как о замечательном рисовальщике, о писателе как об актере. О литературоведе Чуковский вспоминает тоже как об актере колоссального таланта». И всё в таком роде.
Чуковский все время словно нарочно полемизирует со своими ранними статьями. Тогда его томило желание разгадать прием, раскусить секрет, разоблачить фокус. Теперь его радует, что талант не угрюмая помешанность на чем-то одном, обособленном, узком, а естественное проявление крупной, бесконечно богатой личности, много, образно связанной с миром.
То, что талант от мира сего, что он естествен, человечен, близок нам, приносит Чуковскому едва ли не большую радость, чем то, что талант необычен и велик. Здесь же доказывается, что великая личность, прежде всего нормальная личность, что ее необыкновенные свойства естественное развитие обыкновенных, что если мы и не можем стать с великой личностью вровень, то можем найти с ней общий язык, одухотвориться ее духовностью, обогатиться ее богатством. Такая близость не принижает великой личности. Она возвышает нас. Вот главная причина, по которой Чуковский старается сделать для нас человечески понятным и близким Андреева. Для того он и говорит о писателе, прежде всего как о живом человеке, для того спорит с искажением его облика, для того ищет «дисгармонически прекрасное лицо человека».
Еще одну черту помимо многогранности Чуковский выделяет у своих героев с особой любовью. Если применить к нему самому его старый логический метод, то можно и его заподозрить в «особом пункте помешательства». На том, что все талантливые люди дети. То есть что они сберегли в себе детство. И в великом лицедее Леониде Андрееве детство проявляется во «вкусе к озорству и мальчишеству. Говоря о ролях, которые Андреев играл в жизни, Чуковский признается: «Некоторых Андреевых я не любил, но тот, который был московским студентом, мне нравился. Вдруг он становился мальчишески проказлив и смешлив...». Л. Андреев был близок к такой точке зрения: «...Моя личная жизнь такой же факт, как и литература моя - как отделить одно от другого».
Первое, что бросается в глаза это то, что Андреев - художник-философ, художник, стремящийся воплотить в образах не бытовые стороны какого-нибудь движения какого-нибудь отдельного человека - а отвлеченные идеи, категории абстрагирующего мышления. Миросозерцание для Андреева — ни свойства человеческой души, ни разнообразные выражения этих свойств - неинтересны, не важны и не заслуживают никакого внимания. Для него не существует ничего индивидуального.
Любимые герои - люди, лишенные каких бы то ни было конкретных особенностей. Как говорил сам Андреев, что типичность людей он заменил на типичность положений. Быть может, в ущерб художественности, которая непременно требует строгой и живой индивидуализации, он иногда умышленно уклоняется от обрисовки характеров. Ему не важно, кто «он» - герой его рассказов... Ему важно только одно, что он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни. Боясь столкнуться с глубоким несоответствием между духовной природой человека и действительностью, понимает, что в жизни его героев виноваты «несущественные и случайные проявления бытия нашего, претендующие на постоянство и значительность».
Поэтому он старается не обращать внимания на эти проявления и сосредотачивает внимание на жизни, очищенной от всего временного. Из-за этого он скуп на лица, на типы, на психологию, у него иногда фигурируют люди без имен, без внешнего облика, с одним общим внутренним содержанием существ: в борьбе за нужное им существование. Слова, характерные для Андреева, присутствующие во всех его произведения: кажется, будто, словно, подобно, вроде, точно, похоже, как если бы. Все эти слова ни о чем конкретно не говорят, ничего не характеризуют. «Л. Андреев только и делает, что от каждого человека отнимает этот драгоценный запах... и тем превращает Ивана Ивановича - близкого, дорогого, ощутимого, в Кая, человека вообще, которого мы никогда не знали, и до которого нам решительно нет никакого дела». У Андреева выделяет Чуковский два вида рассказов:
- первый, где обстановка и характеры людей нарисованы очень тщательно, чтобы поставить их лицом к лицу с внутренним миром для того, чтобы посрамить их;
- второй, где эти нелицеприятные людские стороны сначала представляются посрамленными.
По формуле, созданной Андреевым, алгебраический человек равен единице, и это истинный человек. Благодаря этому сведению к единице, должен быть виден «истинный человек, ...не затемненный никакими наносными элементами», вот, что имеет в виду Чуковский, когда утверждал, что Андреев - философ по преимуществу. Для него философия - общий дух рассказа, его ключевой момент.
В рассказе «Красный смех» у Андреева нет ни одного образа, ни описания. Он отвлек описываемые события от всего конкретного, случайного. Главный герой рассказа - ужас, а красный смех - воплощение ужаса.
Для Чуковского важно то, что Андреев взял на себя не воплотимую задачу - «словами, ритмами их, их распределением, криками, жестами, какой-то оргией восклицаний, - внушить читателю ощущение ужаса».
Андреев старается расширить компетенцию литературы: его полубезумные слова вне своего значения действуют как музыка, его нельзя цитировать, так как каждое место в отдельности не имеет никакого значения. И Чуковский, рассматривая это произведение, еще раз убеждается (находит для себя подтверждение), что автора, как и в остальных его произведениях, интересует только философская сторона жизни. Андреев писал в одном письме, что «все живое имеет одну и ту же душу, страдает одними страданиями и в великом безличии сливается воедино пред грозными силами жизни». Поэтому оправдано, что все герои его воспринимают жизнь вне рассудка. Таким образом, любимое слово, кажется, выражает наиболее правильное настроение героев Андреева, им все кажется, все проходит как-то сослепу, не по-настоящему.
Андреев нашел свои собственные слова, свою манеру для описания того, что творится в душе его героев - это ужас и страх, которые являются универсальными чувствами для всего живого. И эти переживания являются ключевыми во всем творчестве Андреева. Воры и проститутки - его обычные образы.
Во всех этих неожиданностях сказались существеннейшие черты стиля Андреева - «тяготение к огромному, пышному». Гиперболический стиль его книг был равен гиперболическому стилю его жизни. Излюбленной темой Андреева была смерть, ужас смерти. Этот ужас чувствуется во всех его книгах, и, по мнению К. Чуковского, именно от этого ужаса он спасался, хватаясь за цветную фотографию, за граммофоны, за живопись. Иногда, глядя на Андреева, никто бы не поверил, что этот человек мог носить в себе «трагическое чувство вечности». Но как раз в этом и заключалась основная черта его писательской личности, что он касался извечных вопросов, трансцендентных, метафизических тем. Другие темы не волновали его.
Но позже К. Чуковский не восхищался Л. Андреевым, так как тот стал увлекаться абстрактными схемами, напыщенной, уныло-монотонной риторикой, и его литературная манера превратилась в дурную манерность. Чуковский наблюдает разлад в Андрееве: «автор не всегда был достаточно художником, чтобы верить в создаваемый мир, и недостаточно был философом, чтобы логически воссоздать его».
Своеобразие метода К. Чуковского сводится к тому, что художник, рисуя картину, рисует не лес, не море, не небо, - а себя, свое я, в том или ином его переживании. Поэтому - гармония всех частей, соподчинение их друг другу в высших образцах искусства так велико, что каждая из них может быть признана равной всякой другой, благодаря их слиянию в одной общей цели.
Поэтому-то мерилом каждого художественного произведения для Чуковского - может служить случайность художника сделать все объекты его творчества большими или меньшими средствами для выражения своей личности.
Принцип художественного творчества Чуковского он определяет так: «эпическую поэзию мы ценим лишь постольку, поскольку в ней проявляется я художника. Отсюда: для того, чтобы проявить свое я, художник должен подчинять этому я каждое явление мира вещей. Подчинение заключается в том, что художник группирует все «вещи» под углом переживаемого чувства. И чем большее количество вещей подчинит художнику этому чувству - тем больше у него прав называться художником».
Сущность художественного творчества, по мнению Чуковского, такова, что личность художника стремиться подчинить весь внешний мир, а внешний мир подчиняет художника. Искусство - это и есть встреча этих двух противоположных течений. Поэтому этот принцип не может быть приложен ко всем художникам, т. к. многие люди, внешне скрытые, открывают свое внутреннее я посредством своих художественных творений. Эстетические требования искусства - красота, художественная сила, художественное чувство, художественные эмоции, художественная форма.
Таким образом, мы убедились, что, Чуковский был последователем биографического метода. Своеобразие Чуковского определяется тем, что, изучив творчество, биографию писателя, его быт, эпоху, условия и обстоятельства, при которых создавались произведения, он, как подлинный художник, перевоплощался в своего героя, испытывал его чувства, переносился во времена, в которые он жил. Он находил самые характерные особенности писателя, и, подтверждая на наглядных примерах, он показывал сокровенные стороны писателя, применяя свой принцип художественного творчества, основной мыслью которого было то, что каждый художник открывает свое я через свои произведения. Главная проблема биографического метода по Чуковскому - это необходимость определения границы между объективным и субъективным восприятием художника критиком. Чуковский сознательно идет на то, чтобы рассматривать писателя с субъективной, личной позиции. Но в тоже время он старается быть объективным, быть честным не только с читателями, но и самим собой, доказывая все свои убеждения наглядными методами: характерными особенностями писателя. И метод Чуковского, в частности биографический метод, является путем достижения поставленных критиком задач, которые помогают понять как можно точнее личность писателя через его произведения.
Л-ра: Мова і культура. – Київ, 2004. – Вип. 7. Т. 7. Ч. 2. - С. 191-197.
Произведения
Критика