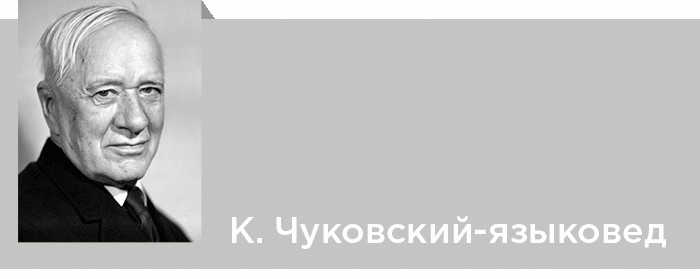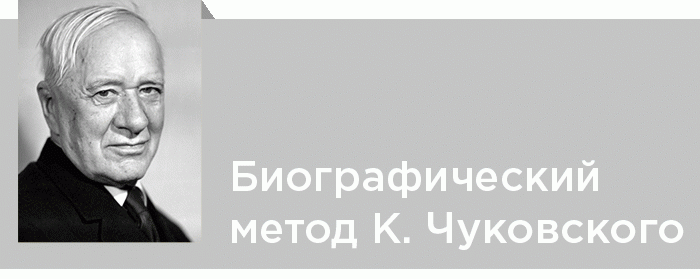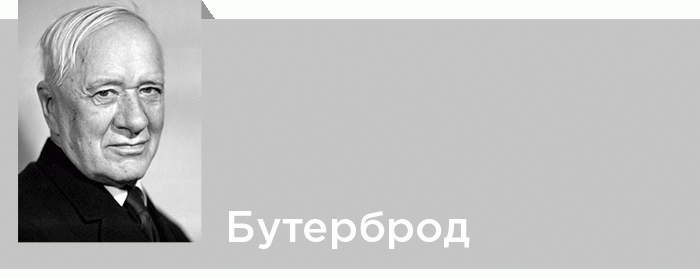Собеседник классиков
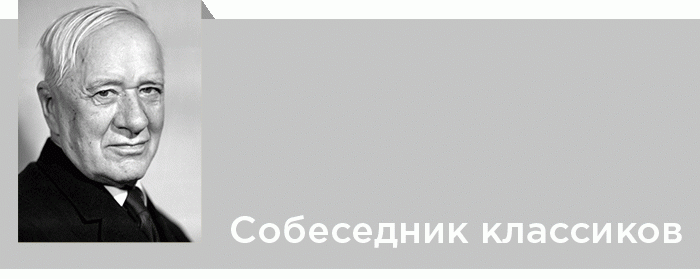
З. Паперный
Он прожил большую жизнь. Это даже не укладывается в сознании: Корней Иванович жил и при Тургеневе и при Гончарове…
И вся эта большая жизнь с первых сознательных лет была занята литературным трудом. В 1901 году девятнадцатилетний юноша публикует в газете «Одесские новости» свою первую статью, подписанную «Корней Чуковский».
Если провести среди писателей анкету и обратиться к каждому с вопросом: «Что такое литература?» — ответы были бы самые разные. Не знаю, что ответил бы Чуковский, но можно точно сказать: литература для него — прежде всего источник радости.
Сколько искренней увлеченности, даже упоенности литературным трудом в его словах: «Главное, что облегчает мне тяготы моего нынешнего стариковского быта, наполняет его живым содержанием, это, конечно, работа. Целодневная работа, с утра до вечера. Чуть только я встаю спозаранку, я тотчас же веселыми ногами бегу к одному из своих рабочих столов и пишу, не отрываясь от бумаги, часа три или четыре подряд, ибо до нынешнего дня — а мне уже восемьдесят восьмой год — я все еще не бросил пера. Отнимите у меня перо— и я тотчас же перестану дышать».
Кажется, это и сочетать невозможно: «веселыми ногами бегу» — и «мне уже восемьдесят восьмой год». А у Чуковского сочеталось.
Он вставал очень рано, в пять часов. И сразу же принимался за работу. И до пяти часов вечера, с небольшими перерывами, все было занято трудом. Одновременно каторжным и радостным.
«Чудесное дело — литература, — говорит Корней Иванович в письме к сыну Н.К. Чуковскому 23 марта 1939 года. — Сейчас я делаю «От 2 до 5» для 9 издания <...> — и ничего мне в жизни не надо. Сидел бы целый день, не отрываясь».
В другом письме сыну: «Не знаю, как ты, но я 9/10 всех своих мыслей отдаю своим писаниям. Утром в постели я думаю не о политике, не о здоровье моих близких, не о квартирных делах <...>, а только о том, что я сегодня буду писать» (26 января
С 1904 года у него завязывается переписка с Брюсовым. Осенью 1906 года он знакомится с Короленко и Блоком. Находясь в местечке Куоккала, под Петербургом, в эти же годы сближается с художником Репиным, становится одним из самых близких его друзей. Спустя годы, 24 марта 1925 года, Репин пишет ему из Куоккалы: «Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов... А главное, Вы неисчерпаемы, как гениальный человек, Вы на все реагируете и много, много знаете, разговор мой с Вами — всегда — взапуски, — есть о чем». И ему, Чуковскому, пишет последнее письмо умирающий Репин: «Прощайте, Корней Иванович, — Вас я хотел бы особенно расцеловать на прощание. Я теперь уже не смею никому говорить — до свидания!»
На статьи молодого Чуковского обращает внимание Лев Толстой. В газете «Утро России» от 29 апреля 1910 года приводится его отзыв: Чуковский «умеет и смеет касаться тем, до которых не решаются спускаться высокопоставленные критики».
Примерно в 1913 году Корней Иванович знакомится с Маяковским. В шутливых стихах поэт признается:
Скрыть сего нельзя уже.
Я мово Корнея
третий год люблю (в душе!)
аль того ранее.
В 1916 году, находясь в Англии, Чуковский встречается с Конан-Дойлем и Гербертом Уэллсом. В том же году М. Горький приглашает его наладить детский отдел издательства «Парус». А после Октября Чуковский становится одним из активных сотрудников издательства «Всемирная литература», основанного Горьким в 1918 году.
С каждым годом растет число знакомых Чуковского — писателей, художников, композиторов, ученых. Среди них — Луначарский, Зощенко, Маршак, Евгений Петров, Ахматова...
Он разбирает стихи сына, Николая Корнеевича, упрекает в чрезмерной поэтизации быта. И — как точка отсчета: «Ни у Баратынского, ни у Тютчева, ни у Лермонтова, ни у Блока — ты не найдешь обывательщины».
В другом письме он упрекает сына в том, что тот мало ездит: «Чехов не хуже тебя знал русскую жизнь, однако в твоем возрасте успел уже и на Сахалине побывать».
Особенно часто роль нормы, образца, с которым сравнивается все, играет Пушкин, его творения, его стих.
В «Пионерской правде» от 30 июля и 23 августа 1957 года были напечатаны «Беседы о стихах» Корнея Чуковского. Он разбирал стихи детей, присланные на конкурс. И критиковал — строго, требовательно, придирчиво — за неверный оборот, неряшливый размер, плохую рифму.
«Перелистайте Пушкина, вы во всех его томах не найдете ни одной из этих тусклых, неряшливых рифм <...>
С самого раннего детства, помню, меня восхищала музыка пушкинских строк:
Ты волна моя, волна.
Ты гульлива и вольна.
Мне казалось, что даже иностранец, не понимающий ни слова по-русски, и тот угадал бы по самому звуку стиха, что речь идет о веселой бегущей волне. И этому способствует не только чудесное влажное слово «гульлива», но и смелая, богатая, полнозвучная рифма «волна-вольна»...»
Мы прочитали всего несколько строк — и сразу же обозначился подход Чуковского к пушкинскому слову: оно и постигается и вместе с тем осязается как нечто непосредственно ощутимое.
Может показаться странным: ведь речь-то идет о стихах детей, которые только учатся складывать стихи. И сразу — Пушкин! Но для Чуковского это естественно: классика для него и то, что было, и то, что помогает ориентироваться в искусстве сегодня.
Пушкин — поэт «боготворимый». Этот эпитет повторяется не раз. И вместе с тем самый необходимый, сегодняшний, насущный.
В книге «Мастерство Некрасова» (1952), за которую автор был удостоен Ленинской премии, одна из лучших глав: Пушкин — учитель и предшественник Некрасова. Внимательно, как будто глядя сквозь лупу, ищет исследователь «пушкинизмы» в некрасовском стихе. А в стихах Пушкина 30-х годов различает преднекрасовские ноты: «В «проклятой хандре» Пушкина, в его скорби при виде разоренной, нищей деревни уже предчувствуется некрасовская «злоба и желчь».
Как и Пушкин, Некрасов может быть назван поэтом, который сопровождал Чуковского всю жизнь. Еще задолго до Великой Октябрьской революции он начинает розыски рукописей поэта.
Литературовед Юрий Тынянов писал в 1939 году: «Прежнее «полное» собрание стихотворений Некрасова включало всего 32 214 стихов. Чуковский дал стране больше 15 000 новых, неизвестных стихов Некрасова. Чуковский нашел и прокомментировал 35 печатных листов новых прозаических текстов».
Текстолог, комментатор, издатель, Чуковский выступает и как биограф Некрасова. Ему принадлежат и книги о нем и историко-литературные этюды о его жизни, о его натуре, окружении.
Поэт прошлого нам дорог именно таким, каким он был, говорит Чуковский своими трудами. Не надо его улучшать, искусственно приноравливать к нашему дню. И нечего бояться противоречий: они свидетельства богатства и сложности натуры.
Одна из лучших книг Чуковского — «Поэт и палач (Некрасов и Муравьев)», — вышедшая в Петрограде в 1922 году, кончается такими словами: «У нас в литературе завелась целая секта опреснителей и упростителей Некрасова. Каждый из них только и делает, что подмалевывает, затушевывает, приглаживает, прихорашивает, ретуширует подлинный облик Некрасова, так что в результате Некрасов похож уж не на себя, а на любого из них, туповатого и стоеросового радикала, — но мы из уважения к его подлинно человеческой личности должны смыть с него эту бездарную ретушь, и тогда пред нами возникнет близкое, понятное, дисгармонически прекрасное лицо — человека».
Литературовед — серьезный, строгий, вдумчивый — не может не оставаться читателем, искрениям, непосредственным, эмоциональным. Если эта живая читательская реакция потеряна, пиши пропало, одними глубокомысленными соображениями не обойдешься.
«Секрет таких книг, как Ваша, — писал Чуковскому историк Е.В. Тарле по поводу его «Рассказов о Некрасове», — не только в их уме, в их аналитической глубине, но и в самом настоящем чувстве, которое их пронизывает».
Еще один спутник жизни, с которым Чуковский никогда не расставался, — Чехов.
Сентябрь 1904 года. Всего два месяца прошло со дня смерти писателя. Чуковский помечает у себя в дневнике: «Написал реферат о Чехове».
Спустя три года появляется книга «От Чехова до наших дней» (1908). Она имела такой успех, что выдержала три издания за один год. Открывается книжка очерком о Чехове. Критик называет его «скрытнейшим из художников». И призывает не только умственно постигать, но и «осязать, впивать, поглощать» создания, которые дал «стыдливо-гениальный художник». Затем следовал ряд блестящих очерков — о писателях, работающих после Чехова, — Блоке, Куприне, Горьком, Брюсове, Л. Андрееве...
В 1914 году появилась первая публикация записных книжек Чехова. Чуковский откликается одной из лучших своих статей — «Записная книжка Чехова» (она напечатана в популярном тогда журнале «Нива», 1916, № 50). Черновые заметки художника для исследователя — один из ключей к его творчеству. Одну за другой рассматривает Чуковский гротесковые, полуанекдотические, полуабсурдные записи. Например: некто, признаваясь в любви, пишет в своем послании: «Прилагаю на ответ семикопеечную марку». По этому поводу Чуковский замечает: «Вдруг бы Татьяна свое послание к Онегину снабдила семикопеечной маркой!»
Сопоставление с пушкинской «нормой» оттеняет всю глубину осмеянной Чеховым несуразицы.
«Его излюбленная тема такая:
Был лес: превосходный, здоровый. Пригласили для ухода лесничего. Лес тотчас же захирел и погиб.
Бессмыслица, странный абсурд. Казалось бы, этот превосходнейший лес именно при появлении лесничего должен сделаться еще превосходнее. Но — вопреки всякой логике — лесничий-то и губит его. Таков неотвратимый закон в заколдованном чеховском царстве. Логика вещей извращается; из каждой причины вытекает неожиданное, противоположное следствие; содержание не соответствует форме: вот величественный статский советник, но он лает за рубль собакой. Вот нежная и тихая учительница, но она сечет и колотит детей. Вот певец, но он никогда не поет: «Никто не слыхал ни разу, как он поет» <...> Вот богач, миллионер, но он стреляется от нищеты. Всюду это проклятое «но»».
Критики уныло и однообразно твердили о Чехове-меланхолике, томительном лирике, певце сумерек, а Чуковский, отбросив все эти опостылевшие излияния, смело проник в мир чеховских парадоксов, контрастов, трагикомических несообразностей, «нескладицы человеческих желаний и дел».
Однако не здесь итог творчества писателя. Чуковский говорит о героях и героинях Чехова, которые не могут жить в этом «угарном, бессмысленном мире». О тех, кто лишен самодовольства, сытости, ханжества. О людях страдающих: о поэтичной Саше из «Мужиков», о двух нищенках Прасковье и Липе из повести «В овраге». О трех сестрах.
Чехов — одно из самых упоминаемых имен в дневнике Корнея Ивановича. Внучка писателя Елена Цезаревна Чуковская знакомит меня с неопубликованным дневником, занимающим сотни страниц. Показывает запись Чуковского: он «боготворит» Чехова. То же слово, с которым мы встречались, когда речь шла о Пушкине.
Или такая заметка: «Я говорил Блоку о том, что если бы в 16-20 лет меня спросили: кто выше — Шекспир или Чехов, я ответил бы: Чехов» (7 декабря
«...И опять сердце залило, как вином, и я понял, что по-прежнему Чехов — мой единственный писатель» (март
А в 1954 году, спустя полвека после смерти Чехова, Чуковский записывает: «Моя любовь к нему не изменилась — к его лицу, к его творчеству».
Это сказано очень по-чуковски: «лицо» и «творчество» писателя поставлены рядом.
В 1958 году в Деттизе вышла книга Чуковского «Чехов». Она была переиздана и увидела свет уже после смерти автора — «О Чехове. Человек и мастер» (1971).
Чуковский никогда не писал о художнике — мастере и человеке — раздельно. Писать о Пушкине, Некрасове, Чехове — значит, прежде всего осязать человеческое и творческое существо классика как нечто целостное.
Книжка о Чехове начинается с того, каким был Антон Павлович, как он выглядел, как он был гостеприимен, как любил многолюдство. Незаметно для себя автор так увлекается, что как будто забывает о скрытности Чехова, его «отстоянии» от окружающих людей.
Но, даже не соглашаясь с автором, мысленно внося некоторые коррективы, ты не можешь не поддаваться обаянию рассказчика, не ощущать в каждой строчке его глубокой любви к Чехову — «человеку и мастеру».
Как и Пушкин, Чехов сохраняет значение нормы. В статье «Как я стал писателем» Чуковский называет его «мерилом вещей».
О своей исследовательской манере он рассказывает в откровенно парадоксальной форме, В предисловии к упоминавшейся выше книжке «От Чехова до наших дней» читаем: «Каждый писатель для меня вроде как бы сумасшедший.
Особый пункт помешательства есть у каждого писателя, и задача критики в том, чтобы отыскать этот пункт. Нужно выследить в каждом то заветное и главное, что составляет самую сердцевину его души, и выставить эту сердцевину напоказ».
В поисках этой «сердцевины» Чуковский сосредоточенно вчитывается в сочинения писателя, его письма, дневники, записные книжки. Неутомимо ищет повторяющиеся обороты, характерные слова, сквозные образы,
...Мы в кабинете Чуковского, Елена Цезаревна показывает 20-томное собрание сочинений и писем Чехова. В конце каждого тома мелким изящным почерком, легким, без нажима, карандашом выписаны чеховские слова с указанием страниц, где они повторяются. Например: «зря», «понапрасну», «даром». Так Чуковский подходит к одному из самых характерных мотивов в чеховском мире: человеческая жизнь проходит бессмысленно, бесцельно — зря.
Обнаружив этот мотив, исследователь идет дальше, ищет его отражение во всем, что писал Чехов, заново перечитывает тома полного собрания сочинений и писем.
Можно сказать, что Чуковский, изучающий Чехова, работает без отрыва от художественного текста. Больше всего он остерегается сочинительства, абстрактных умопостроений. К своим выводам он старается подойти как бы вместе с изучаемым писателем.
Чехов — последний в роду классиков прошлого века. За ним шло поколение литераторов, которые представали перед Чуковским «въяве», — с ними он встречался, сотрудничал, переписывался.
Первый среди поэтов двадцатого столетия — Блок. Чуковский особенно сблизился с ним в последние годы жизни поэта. И, как это обычно бывало у Корнея Ивановича, обаяние поэтических строк неразделимо сливалось с покоряющей силой и прелестью человеческой личности.
В первые годы Октября и До 1921-го, когда Блок умер, они видятся часто — Чуковский работает с ним в издательстве «Всемирная литература», в Доме искусств, в Союзе писателей.
Корней Иванович любил и умел (не столь уж частое сочетание) рассказывать о своих встречах с Горьким, Маяковским, Короленко, Ал. Толстым, Ахматовой, Пастернаком, Зощенко... И с особеннойлюбовью — об Александре Блоке. Вспоминается такой рассказ — привожу его по памяти, не могу ручаться за каждое слово, но смысл тут передан верно:
— Я любил Блока, но меня начинало выводить из себя то поклонение, то обожание, с которым встречалось каждое его выступление. И однажды, это было в 1921 году, я решил выступить со словом о Блоке, в котором осмеливался — в ту пору это была неслыханная дерзость! — сказать не только о достоинствах его поэзии, но и о прегрешениях. И вот начался этот злосчастный вечер. Приглашенный мною Блок пришел с матерью. Я начал свои критические «выпады», аудитория сразу же стала протестовать, защищать своего любимца. Помню, все шумят — и каменное лицо Блока в ложе. Я, конечно, провалился, было страшно показываться Блоку на глаза, я убежал, спрятался в каком-то чулане. Вдруг слышу голос Блока: «Корней Иванович, пожалуйста, выходите!» Выхожу. Готов провалиться. А Блок начинает говорить ободрительные слова о том, что я молодой критик, что все еще впереди. Я как-то воспрянул духом, но тут он говорит: «А выступление ваше было ужасно... Просто из рук вон». И горестно так махнул рукой. Он вышел. Я снова падаю духом. А Блок возвращается и добавляет: «И маме тоже очень не понравилось». Он не мог уйти, не сказав правды до конца.
Смерть Блока была пережита Чуковским как огромная личная потеря. С болью, с отчаянием он записывает в дневнике: «Никогда в жизни мне не было так грустно <...> Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — все вокруг плакало о нем <...> В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, «его декадентство», его «реализм», его морщины — все это под землей, в земле, земля...»
Приметы Блока — поэта и человека, и более общие и мельчайшие подробности обступают, теснятся в набегающих друг на друга горестных записях. И все как будто сливается в один отчаянный стон.
В 1922 году, спустя год после смерти Блока, выходит последняя, шестая книга журнала «Записки мечтателей», посвященная памяти поэта. Она завершается воспоминаниями Чуковского «Последние годы Блока».
«Казалось, во всем мире мы никого не любили так нежно, как этого немолодого человека с таким спокойным и прекрасным лицом обреченного», — говорится в первых строках этой мемуарной статьи.
Чуковский рисует Блока — поэта трагического, остро чувствующего неминуемость перемен. Они для него — нечто грозное, близящаяся катастрофа, но катастрофа спасительная.
Представление о Блоке — трагедийном художнике — углубилось в статье-очерке 1959 года, возникшей на основе записей, сделанных еще при жизни поэта. Чуковский приводит пушкинские стихи:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
«Какое-то тайное, неосознанное, глубоко подспудное «наслаждение» было и для Блока в его катастрофических мыслях.
Как узнал я впоследствии, он с обычной своей беспощадностью, честностью сам отметил в себе эту черту: «... со мной — моя погибель, и я несколько ей горжусь и кокетничаю...» — признавался он в письме к одному из друзей. Но боль оставалась болью...»
Статья-воспоминания Чуковского о Блоке остается одной из самых правдивых в литературе о поэте. Известно, что в давнем споре с критиками, отпевавшими автора поэмы «Двенадцать», возникло и совсем другое, прямо противоположное направление: авторы пытались приподнять, «взбодрить», оптимизировать Блока. Чуковский-блоковед верен правде, он стремится показать, говоря его словами о Некрасове, «дисгармонически-прекрасное лицо» Блока — поэта и человека.
Внучка Чуковского Елена Цезаревна рассказывает, что в больнице, чувствуя приближение конца, Корней Иванович повторял блоковские стихи:
Боль проходит понемногу.
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина...
Некрасов, Чехов, Блок сопровождали Чуковского всю жизнь. Книги о них зрели десятилетиями, выходили в свет, а затем снова пополнялись фактами, наблюдениями, мыслями. Они росли медленно, как растут деревья.
Слово «классик» отдает возвышенной холодноватостью. Есть в нем что-то мраморное. Корней Иванович сводил его с пьедестала, делал живым, человечески теплым, осязаемым.
Он считал, что говорить о классиках надо просто и ясно. Лжеакадемическая заумь, тарабарщина «канцелярита» всегда находили в нем врага. Выступая на Втором всесоюзном съезде советских писателей, Чуковский зло. высмеивал несуразно-тяжеловесный язык многих работ по литературе: «В курсе деталей», «по линии выработай» и «отражение момента» — такая замена человеческих слов канцелярскими все же не вызывает во мне возмущения, ибо это дело временное, преходящее. Русский язык так силен, что ему случалось преодолевать и не такие уродства. Но меня беспокоит другое. Почему этот жаргон начал появляться в нашей литературной речи? Почему он проникает в наши книги, особенно в литературоведческие, в область критики, куда подобной канцелярщине, казалось бы, и доступа нет? Как же можно, например, поверить, что мы восхищаемся художественным стилем Некрасова, если об этом самом Некрасове мы пишем вот такие слова: «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы..»? Тут и вправду можно закричать «караул» (Смех).
Что это за «линия показа»? И почему эта непонятная линия ведет за собою пять родительных падежей друг за дружкой: линия (чего?) усиления (чего?) показа (чего?) трагизма (чего?) судьбы (кого?)? И что это за надоедливый «показ», без которого в последнее время, кажется, не обходится ни один литературоведческий опус («показ трагизма», «показ ситуации» и даже «показ этой супружеской четы»)?»
Маленькое отступление. Корней Иванович рассказывал спустя несколько дней после того, как он произнес речь на писательском съезде:
- Знаете, когда я выступил и сошел с трибуны, первым ко мне кинулся тот самый автор, которого я чуть не десять раз процитировал под смех всего зала. Ну, думаю, сейчас он мне задаст! А он подбежал, крепко пожал мне руку и взволнованно воскликнул: «А здорово вы их!» Понимаете? «Их»! Нет, сатира никого не поражает — никто не хочет расписываться в получении.
Отчего рождается псевдолитературоведческий жаргон? Наверное, оттого, что пишущий оторван от тех, о ком он пишет, не видит их живых лиц, не слышит их человеческих голосов. Можно сказать, что это — заочное литературоведение, где «ведение» безнадежно отрывается от литератора, о котором идет речь.
У Корнея Чуковского «литература» оживляет «ведение», настраивает его на свой лад, играет роль безошибочно-точного камертона.
Помню, мы пили с Корнеем Ивановичем чай в переделкинском Доме творчества. Он задумался, опустил голову, а потом вдруг сказал:
- Мне сейчас померещилось, что за столом сидят Блок, Маяковский... Как будто приснилось.
И мы себя почувствовали виноватыми, что сидели здесь вместо них.
Чуковский был не только знатоком, исследователем классиков. Он был их собеседником.
Л-ра: Октябрь. – 1982. – № 3. – С. 179-183.
Произведения
Критика