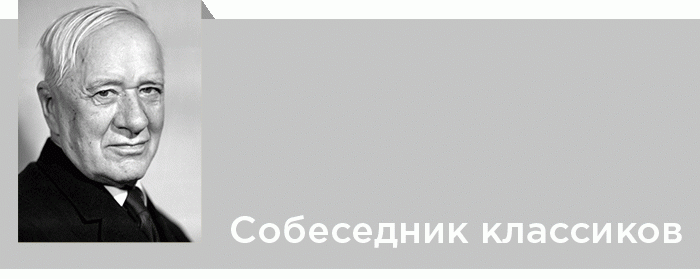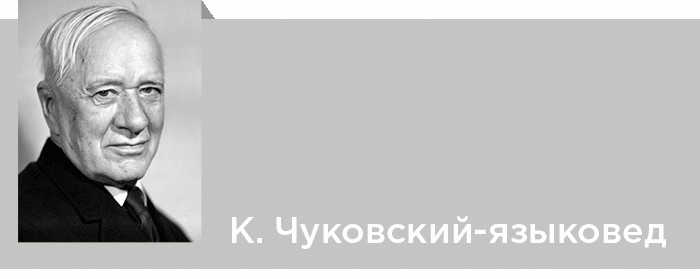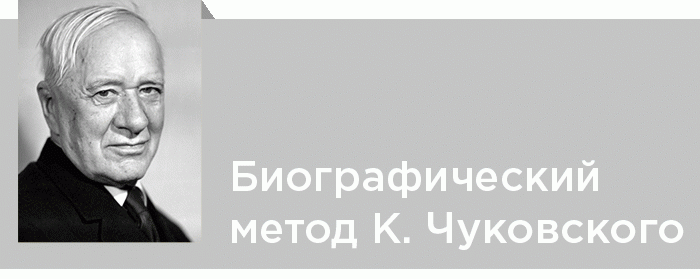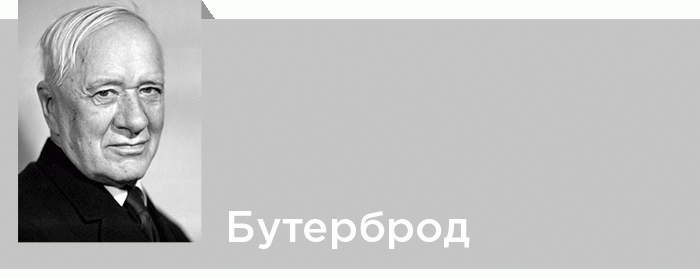«Будь же хоть в этот последний год человеком» (на материале дневников Корнея Чуковского)

УДК 81.00 Д18
ББК Ш 141.01.2973
В. П. Даниленко
Статья посвящена анализу дневников К. И. Чуковского. В центре внимания их автора находились вопросы, связанные с духовным совершенствованием их автора. Быть Человеком - вот как он понимал главную цель этого совершенствования.
Ключевые слова:К. И. Чуковский; дневники; совершенствование; быть человеком; духовная культура; религия; наука; искусство; нравственность; политика, язык.
V. P. Danilenko
«BE A HUMAN THIS YEAR AT LEAST» (ON DIARIES BY KORNEY CHUKOVSKY)
This article is dedicated to Korney Chukovsky's diaries. The personal development in a spiritual sense is the base of the author's attention. Being a human was his aim of his personal development.
Key words:K. I. Chukovsky; diaries; personal development; being a human; spiritual culture; religion; science; art; morality; policy; language.
Что значит быть ЧЕЛОВЕКОМ? А что значит быть животным? Быть животным значит обладать признаками, которые делают некий живой организм животным. Следовательно, быть человеком значит обладать признаками, которые делают некий живой организм человеком. Совокупность признаков, характерных для животных, может быть названа животностью, а совокупность признаков, характерных для человека, может быть названа человечностью.
Слово человечность употребляется в двух значениях - узком и широком. В первом случае под человечностью имеют в виду лишь нравственные качества человека, его добродетели - щедрость, сострадание, бескорыстие и т.п. Во втором же случае мы имеем дело со всем комплексом особенностей, которыми человек отличается от животного. В этот комплекс входит не только нравственность, но и религия, наука, искусство, политика, язык и прочие продукты культуры. Именно она, культура, и делает человека ЧЕЛОВЕКОМ, т.е. наделяет его человечностью. Человечность в этом, широком, смысле становится антонимом животности и синонимом культуры.
Культура - вот чем человек в своей эволюции превзошёл своего животного предка! Вот почему именно она составляет сущность ЧЕЛОВЕКА. Но к этой сущности разные люди приближаются в разной степени. Иначе говоря, одни из нас люди в меньшей степени, а другие - в большей. Но главное даже не в этом, а в том, что одни сознают свою человеческую природу и стремятся на протяжении своей жизни развивать в себе человечность, а другие звёзд с неба не хватают: не до жиру, быть бы живу. К первым принадлежал Николай Корнейчуков, с детства знакомый нам как Корней Иванович Чуковский (1882-1969).
Слова, вынесенные в название этой статьи, К. И. Чуковский написал 27 декабря 1957 г. - в семидесятипятилетнем возрасте [5, с. 247]. Нечего и сомневаться в том, что автор этих слов судил себя чересчур строго. Он всю жизнь был таким. Даже на закате своей долгой жизни, когда ему, гениальному сказочнику, талантливейшему литературному критику, великолепному учёному- филологу, блистательному переводчику и уникальному мемуаристу, было чем похвалиться, он записал: «1 апреля 1958. 76 лет. How stale and unprofitable (Как банально и бесполезно)! Никогда я не считал себя талантливым и глубоко презирал свои писания, но теперь, оглядываясь, вижу, что что-то шевелилось во мне человеческое - но ничего, ничего я не сделал со своими потенциями» [там же, с. 258].
«Что-то человеческое» и есть человечность. В приведённых словах К. И. Чуковский её явно в себе преуменьшает. Между тем он принадлежит к тем редким людям (к ним относятся, например, Максим Горький и Джек Лондон), которые с фанатическим упорством изо дня в день «выстругивают» из себя ЧЕЛОВЕКА. Чтобы увидеть это хотя бы в самых общих чертах, обратимся к его духовно-культурной характеристике.
Религия. Отношения с церковью у Коли Корнейчукова не заладились с детства. Во всяком случае, он на всю жизнь запомнил несправедливость, которую совершил по отношению к нему один из её представителей - гимназический поп Мелетий (он-то и проложил дорогу к последующему исключению Коли из гимназии). В чём состояла эта несправедливость? В явном преувеличении провинностей Коли. Этот поп полбороды себе выдрал из-за того, что вместе с Гришкой Зуевым Коля Корнейчуков считал на уроке нескончаемые мелетьевские «да-да-да». Но дело на этом не закончилось: «Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно великим постом, мы, православные, и думать не смели о мясе, ибо господь бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели господу богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот!» [2, с. 29].
Три тома понадобилось Е. Ц. Чуковской, чтобы издать дневники своего деда полностью - с 1901 г. по 1969 г., но богословская стихия в них по существу отсутствует. Их автор был атеистом. Уже в 19 лет он позволяет себе иронические высказывания в адрес Бога. Такие, например, как: «25 февраля 1901. Утром даю уроки (как репетитор. - В. Д.), объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть дух, но (!) в 3-х лицах...» [5, с. 15] или «За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает» [там же, с. 16].
К. И. Чуковский не призывал своих детей - Колю, Лиду, Бобу и Муру - к атеизму. Более того, он даже мог позволить себе в общении с ними упоминать имя Бога. Вот, например, какой диалог с Колей (ему 5 лет) он записал 31 июля 1909 [там же, с. 156]:
- Люди умирают, папа?
- Да.
- Почему?
- Так Бог сделал, чтобы мы умирали.
- А сам, небось, никогда не умирает!
Понятно, что эта запись сделана ради последнего суждения маленького сына. На этом запись обрывается. Никаких богословских наставлений за нею не следует. Слова отца о Боге здесь обычный штамп.
Никаких богословских наставлений К. И. Чуковский не позволял себе и в других ситуациях, где всплывало имя Бога. В дневнике от 6 июля 1925 г. читаем: «Мура (ей 5 лет. - В. П.) третьего дня о Боге. “Он на небе? Как же он там держится? (И скосила глаза.) - Нет, он на небе и на земле. - Как же он прыгает туда и сюда?”» [там же, с. 235].
Не изменил К. И. Чуковский своим атеистическим убеждениям и перед смертью. Лёжа на своей последней больничной койке, он думал не о загробной жизни, а о том, какие книги, написанные им, он оставляет людям.
Наука. В автобиографической заметке «О себе» К. И. Чуковский писал: «Я родился в Петербурге в 1882 г., после чего мой отец (Эммануил Соломонович Левенсон. - В. Д.), петербургский студент, покинул мою мать (Екатерину Осиповну Корнейчукову. - В. Д.), крестьянку Полтавской губернии; и она с двумя детьми переехала на проживание в Одессу. Вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей: меня отдали в одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключён» [2, с. 7].
О своих гимназических мытарствах К. И. Чуковский рассказал в повести «Серебряный герб», впервые изданной в 1938 г. под названием «Гимназия. Воспоминания детства». Самое яркое событие, описанное в этой повести - исключение Коли Корнейчукова из гимназии. Причина исключения на официальной бумаге значилась так: «...за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся» [там же, с. 112]. Но на самом деле его исключили из гимназии потому, что её директор А. Бургмейстер (Шестиглазый), как пояснил учитель истории Иван Митрофанович, выполнял волю высшего начальства о сокращении в его гимназии числа учащихся из бедных семей. «Зачем же ты унижаешься, клянчишь и кланяешься! - говорит Иван Митрофаныч сердито, - ведь дело простое и ясное: Шестиглазому велено изъять из гимназии полдюжины “кухаркиных детей”» [там же, с. 109].
Нет худа без добра! Исключение из гимназии научило Николая Корнейчукова самообразованию. Он не только самостоятельно подготовился к сдаче экзаменов за полный гимназический курс и получил аттестат, но и стал в огромном количестве поглощать книги. Более того, к шестнадцати годам он стал философом, создавшим теорию самоцели. В августе 1969 г. он вспоминал об этом времени вот как: «Друзья моей матери жалеют меня, считают меня безнадежно погибшим. Они не знают, что тайно от всех сам я считаю себя великим философом, ибо, проглотив десятка два разнокалиберных книг - Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского, Ницше, Дарвина, - я сочинил из этой мешанины какую-то несуразную теорию о самоцели в природе и считаю себя чуть ли не выше всех на свете Кантов и Спиноз. Каждую свободную минуту я бегу в библиотеку, читаю без всякого разбора и порядка - и Куно Фишера, и Лескова, и Спенсера, и Чехова» [4].
Упомянутая статья стала первой статьёй К. И. Чуковского, которая была опубликована в газете «Одесские новости» в 1901 г., когда автору было лишь 19 лет. В ней идёт речь об односторонности в понимании назначения искусства как со стороны чистых эстетов, так и со стороны крайних утилитаристов. В позиции же самого автора в ней ощущается лёгкий налёт социал-дарвинизма («Общество, как и всё другое, создано по единственному мотиву и с единственной целью - победы в борьбе за существование»; «…что такое духовное стремление, как не маска для телесных потребностей?» [там же].
У А. М. Горького были свои «университеты», а у К. И. Чуковского - свои. Ими стали полтора года (с весны 1903 г. до осени 1904 г.), которые молодой корреспондент «Одесских новостей» Корней Чуковский провёл в Лондоне. Об этом времени он писал: «Корреспондентом я оказался из рук вон плохим: вместо того чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал Карлейля, Маколея, Хэзэлита, Де-Квинси, Мэтью Арнольда. Очень увлекался Робертом Броунингом, Россети и Суинберном (Английский язык я изучил самоучкой)» [2, с. 8].
С 1905 г. К. И. Чуковский живёт в Петербурге. Он становится ведущим обозревателем в газете «Речь». Это был «золотой век» его литературной критики. Из огромного числа его статей этого времени я бы выделил статью 1914 г. «Футуристы». Он выступает в ней как ярый враг культурного одичания - анимализации человека, расчеловечения. Он писал в ней: «Вот оно - то настоящее, то единственно подлинное, что так глубоко таилось у них подо всеми их манифестами, декларациями, заповедями: сбросить, растоптать, уничтожить! Разве здесь не величайший бунт против всех наших святынь и ценностей? Тут бунт ради бунта, тут восторг разрушения, и уж им не остановиться никак. Так и озираются по сторонам, что бы им ещё ниспровергнуть. Всю культуру рассыпали в пыль, все наслоения веков, и уже до того добунтовались, что, кажется, дальше и некуда, - до дыры, до пустоты, до нуля, до полного и абсолютного nihil, до той знаменитой поэмы знаменитого Василиска Гнедова, где нет ни единой строки: белоснежно чистый лист бумаги, на котором ничего не написано!» [там же, с. 234].
В дневнике К. И. Чуковского от 22 июля 1913 г. мы обнаруживаем записи о некоторых футуристах. Например, о А. Кручёных: «Был у меня Кручёных. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казённой новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живёт теперь в Лигове с Василиском Гнедовым: - Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр.
- Бур шур Беляматокией -
Не могу писать прозы. Нет настроения. - Пришёл Репин. Я стал демонстрировать творения Кручёных. И. Е. сказал ему:
- Бур шур Беляматокией -
- У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюне¬те на этот идиотизм.
- Значит, теперь я идиот.
Свой метод в литературоведении К. И. Чуковский назвал «методом литературного портрета без лакировки» [там же, с. 286]. Его главным научным трудом по литературоведению стала книга «Мастерство Некрасова». В 1962 г., в 80 лет, он получил за четвёртое её издание Ленинскую премию. В этом же году ему присвоили звание профессора литературы Оксфордского университета. Свой оксфордский триумф Корней Иванович описал так: «24 мая 1962. ...На меня надели великолепную мантию. Ввели меня в зал, наполненный публикой. После чего я пошёл читать лекцию о Некрасове. Читал я легко, непринуждённо, почти без подготовки - и к своему удивлению имел громадный успех... Я читал по-английски отрывки из Swmbum'а и прославил нашу советскую науку, наше литературоведение…» [там же, с. 330].
Искусство. К. И. Чуковский приобрёл славу прежде всего как детский писатель. Но заявить о себе в этом качестве помог случай: «20 октября 1955. …Чтобы развлечь его (больного сына Колю, когда ему было 9 лет. - В. Д.) дорогой в поезде, я рассказывал ему сказку о Крокодиле: “Жил да был Крокодил” под стук поезда. Импровизация была длинная, и там был “Доктор Айболит” - в качестве одного из действующих лиц; только назывался он тогда: “Ойболит”. Я ввёл туда этого доктора, что смягчить тяжёлое впечатление, оставшееся у Коли от финского хирурга» [5, с. 205]. Эта история произошла не то в 1913, не то в 1914 г.
Большую часть своих сказок и детских стихов К. И. Чуковский написал в 20-е гг. Только в редкие минуты на него находило вдохновение, когда писалось легко, но чаще всего писать приходилось с великими потугами. 10 апреля 1925 г. он сделал в дневнике такую запись: «...я высчитал, что своё «Федорино горе» я писал по три строки в день, причём иной рабочий день отнимал у меня не меньше 7 часов - три строки. И за то спасибо. В сущности, дело обстоит иначе. Вдруг раз в месяц выдаётся блаженный день, когда я легко и почти без помарок пишу пятьдесят строк - звонких, ловких, лаконичных стихов - вполне выражающих моё “жизнечувствие, “жизнебиение” - и потом опять становлюсь бездарностью. Сижу, маракаю, пишу дребедень и снова жду “наития”. Жду терпеливо, день за днём, презирая себя и томясь, но не покидая пера. Исписываю чепухой страницу за страницей. И снова через недели две - вдруг на основе этой чепухи, из этой чепухи - легко и шутя “выкомариваю” всё» [5, с. 227].
К. И. Чуковский предъявлял к себе как к писателю жесточайшие требования. Он писал на века. О том же «Федорином горе» он писал 27 марта 1925 г.: «Туго пишется Федора - не скучна ли она? Боюсь, что нет настоящего подъёма. На каждого писателя, произведения которого живут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха накладывает новую сетку или решётку, которая закрывает в образе писателя всякий раз другие черты - и открывает иные» [там же, с. 223].
17 декабря этого же года К. И. Чуковский жаловался на свои муки слова так: «Трудность моей работы заключается в том, что я ни одной строки не могу написать сразу. Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась самая техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид» [там же, с. 249-250].
Зато какие результаты! Вот начало сказки, которая так туго давалась её автору:
ФЕДОРИНО ГОРЕ
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.
Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.
Испугалася коза,
Растопырила глаза:
«Что такое? Почему?
Ничего я не пойму».
А вот вечный образ хитроумного заиньки из «Путаницы»:
Только заинька
Был паинька:
Не мяукал
И не хрюкал -
Под капустою лежал,
По-заячьи лопотал
И зверюшек неразумных
Уговаривал:
«Кому велено чирикать -
Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать -
Не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!»
В творчестве К. И. Чуковский видел главный смысл своей жизни и своё высшее счастье: «23 мая 1958. ...Вообще, без писания я не понимаю жизни. Глядя назад, думаю: какой я был счастливец. Сколько раз я знал вдохновение! Когда рука сама пишет, словно под чью-то диктовку, а ты только торопись - записывай. Пусть из этого выходит такая мизерия, как «Муха Цокотуха» или фельетон о Вербицкой, но те минуты - наивысшего счастья, какое доступно человеку» [там же, с. 265].
Нравственность. Наша нравственность начинается с отношения к своей матери. К. И. Чуковский боготворил свою труженицу-мать. В «Серебряном гербе» её образ обрисован так: «В ночь спала она два-три часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха, если ей вдруг приходило в голову выбелить известкою погреб, выкопанный под нашей квартирой.
С каким презрением говорила она про мадам Шершеневич: «Серьги золотые, а шея немытая!».
Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у неё под диваном оказалась пыль или за шкафом - паутина.
А уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чём не просила. И походка у неё была величавая» [2, с. 43].
От матери К. И. Чуковский усвоил непререкаемую истину: семья - это святыня. Главе семейства её нужно не только любить, но и кормить. Особенно трудно это было делать К. И. Чуковскому в послереволюционные годы. Но он продемонстрировал здесь чудеса выживания. 2 января 1920 г. он записал: «Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам и ловлю паёк. Иногда мне из милости подарят селёдку, коробку спичек, фунт хлеба - я не ощущаю никакого унижения, и всегда с радостью - как самец в гнездо - бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т.д.» [5, с. 282]. А 8 февраля этого же года он спланировал: «Моя неделя слагается теперь так. В понедельник лекция в Балтфлоте, во вторник заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной литературе», лекция в Го- рохре; в среду лекция в Пролеткульте, в четверг - вечеринка в Студии, в пятницу - заседание по Секции картин, по «Всемирной литературе», по лекции в Доме Искусств. Завтра, кроме Балтфлота, я читаю также в Доме Искусств» [там же, с. 287].
К. И. Чуковский был заботливым сыном, мужем, отцом, дедом и даже прадедом. Но времени на семью не хватало. Вот почему нередко он казнил себя за то, чего не доделывал для родных. Очень часто ему было невыносимо стыдно за себя. Но и здесь он перебирал в самоосуждении.
Как он любил свою младшую дочь Муру! Как много он с нею занимался в домашней «школе»! Как он о ней заботился! Между тем он написал строчки, которые не укладываются в голове [там же, с. 46]:
НА МУРОЧКИНОЙ МОГИЛЕ
...А Девочка в коричневых чулочках
Обманутая, кинутая мною,
Лежит одна, и ржавые шипы
Вокруг её заброшенной могилы
Свирепо ощетинились, как будто
Хотят вонзиться в маленькое тело -
Домучивать замученное мной.
И всякий раз, когда я подхожу,
Я слышу крик, как будто бы она
Меня, убийцу, громко проклинает...
Да, не было такой кровавой муки,
Которой я не мучил бы тебя!
И скаредному богу было жалко
Порадовать тебя хоть самой скудной,
Хоть самой бедной радостью земной.
Другим и беготня, и брызги моря,
И праздники, и песни, и костры,
Тебе же темнота кровавой рвоты,
Надрывы кашля, судороги боли
И душная предсмертная тоска.
Мурочка умерла одиннадцати лет в 1931 г. В 1941 г. погиб младший сын Борис (Боба). В 1955 г. умерла жена Мария Борисовна, с которой о прожил 52 года. К. И. Чуковский писал в своём дневнике: «21 февраля 1955. …я мечусь в постели и говорю себе снова и снова, что я её палач, которого все считали её жертвой. Ухожу к ней на террасу и веду с ней надрывный разговор. Она лежит с подвязанной челюстью в гробу - суровая, спокойная, непрощающая, пронзительно милая, как в юности» [там же, с. 185].
К. И. Чуковский был человеком с гипертрофированной совестью. Но таким и должен быть настоящий человек.
Миллионы людей пробавляются главным образом заботой о собственной шкуре. Но и есть и такие, как К. И. Чуковский. Не перечесть людей, которым он помог в жизни! Приведу здесь только один пример - с М. М. Зощенко: «17 июля 1955. Был у Каверина. Лидия Николаевна (жена В. Каверина. - В. Д.) показала письмо от жены Зощенко. Письмо страшное. “В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год. Особенно потрясло Михаила Михайловича сообщение ленинградского “начальства”, будто бы его вообще “запретили печатать, независимо от качества работы...” Прочтя это письмо, я бросился в Союз к Поликарпову (зав. отделом культуры ЦК КПСС. - В. Д.). Поликарпов ушёл в отпуск. Я к Василию Александровичу Смирнову (секретарю правления СП СССР. - В.Д.). Он выразил большое сочувствие, пообещал поговорить с Сурковым…» [там же, с. 200-201]. На этом дело не кончилось: к «зощенковскому делу» К. И. Чуковский подключил других влиятельных людей и тем самым хоть в какой-то мере облегчил участь несчастного Михаила Михайловича. Самому К. И. Чуковскому в это время было 73 года.
В книге «Современники. Портреты и этюды» К. И. Чуковский поместил мемуарные очерки о В. Г. Короленко и А. М. Горьком, А. И. Куприне и Л. Н. Андрееве, А. Ф. Кони и И. Е. Репине, А. А. Блоке и В. В. Маяковском, А. Н. Толстом и А. В. Луначарском, Ю. Н. Тынянове и М. М. Зощенко и др. Но в дневниках он писал также о своих отношениях с А. А. Фадеевым и К. А. Фединым, М. А. Шолоховым и В. А. Кавериным, Н. А. Заболоцким и А. Т. Твардовским, С. Я. Маршаком и Б. Л. Пастернаком и мн. др. Естественно, что в дневниках он писал о людях, с которыми сталкивала его долгая жизнь, намного раскованнее, чем в мемуарных очерках. В дневниках он высвечивал, как правило, их нравственный облик. Только два примера:
1) об А. Т. Твардовском: «12 ноября 1957. Был у меня сегодня Твардовский... У меня такое чувство, будто у меня был Некрасов. Я робею перед ним, как гимназист. “Муравия” и “Тёркин” - для меня драгоценны, и мне странно, что такой ПОЭТ здесь у меня в Переделкине, сидит и курит, как обыкновенные люди. Я прочитал ему кусок своей статьи о Маршаке, читал робко сбивчиво - и был страшно обрадован, когда он похвалил» [там же, с. 244]; «9 апреля 1962. Твардовский располнелый, с очень ладными уверенными движениями, в полной мере прекрасной зрелости… Поразительный человек… С ясными глазами, приветливый... В нём чувствуется сила физическая, нравственная, творческая» [там же, с. 324-325].
2) о В. П. Катаеве: «26 декабря 1958 г. ...Бедный Катаев. Ведь есть же у него дарование. Но он переродился в какого-то полицейского хама, и лицо у него стало полицейское. Сколько раз я был свидетелем того, как он оскорбляет людей, унижает их, клевещет на них… Меня он ненавидит именно так, как тупицы ненавидят чуждых им по самому своему существу интеллигентов. Он и представить себе не может, как жалко мне видеть его оскудение, его темноту - и нравственный распад его личности» [там же, с. 276].
Политика. Легко обвинить К. И. Чуковского в политической конъюнктурности. В самом деле, в его дневниках нет ни одного злобного выпада против большевиков. Бесчисленные пертурбации с изданием своих книг он объяснял карьеризмом, невежеством и трусостью книгоиздателей и иже с ними и над ними, которых он хлёстко называл лжекоммунистами, но он отграничивал их от подлинных коммунистов. О его отношении в послереволюционные годы к В. И. Ленину и И. В. Сталину свидетельствует запись, которую он сделал о своей встрече с Ю. Н. Тыняновым 5 июня 1930 г. Ещё 1 июня он выразил в дневнике своё восторженное отношение к идее сталинской коллективизации: «…колхоз - это единственное спасение России, единственное разрешение крестьянского вопроса в стране!.. К 1950 г. производительность колхозной деревни повысится вчетверо» [там же, с. 404].
В следующей записи читаем: «5 июня 1930. Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк… Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи… Я (К. И. Чуковский. - В. Д.) говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина» [там же, с. 405].
22 апреля 1936 г. К. И. Чуковский записал об И. В. Сталине: «Видеть его - просто видеть - для всех нас было счастьем… Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Пастернак шептал мне всё время о нём восторженные слова, а я ему... Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью...» [там же, с. 19-20].
Здесь нет конъюнктурности, здесь есть искренность.
После 1937 г. отношение К. И. Чуковского к И. В. Сталину не могло не перемениться. Антисталинские настроения у него со временем росли, однако вершиной его тайного бунта против вождя стало захоронение его книг в Переделкине во время войны. Через 24 года он вспоминал: «Очевидно, каждому солдату во время войны выдавалась, кроме ружья и шинели, книга Сталина “Основы ленинизма”. У нас в Переделкине в моей усадьбе стояли солдаты. Потом они ушли на фронт, и каждый из них кинул эту книгу в углу моей комнаты. Было экземпляров 60. Я предложил конторе городка писателей взять у меня эти книги. Там обещали, но надули. Тогда я ночью, сознавая, что совершаю политическое преступление, засыпал этими бездарными книгами небольшой ров в лесочке и засыпал их глиной. Там они мирно гниют 24 года, - эти священные творения нашего Мао» [там же, с. 451].
После 1956 г. К. И. Чуковский предъявил свой счёт сталинщине - список невинно пострадавших людей (Д. Л. Андреев, Н. А. Заболоцкий, М. М. Зощенко, А. А. Ахматова и др.). Он, в частности, писал: «24 ноября 1962. Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову... Обывателю это, пожалуй, покажется чудом - десятки тысяч опричников, вооружённых всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками - напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь. Это я знаю по себе. В книжке “От двух до пяти” я только изображаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные педологи. Нет, на них ополчилось всё государство, опиравшееся на миллионы своих чиновников, тюремщиков, солдат. Их поддерживала терроризованная пресса. Топтали меня ногами - запрещали - боролись с “чуковщиной” - и были разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки» [там же, с. 451].
В сталинщине, как видим, К. И. Чуковский обвинял не только И. В. Сталина, но и его прислужников: «…Даниил (сын Леонида Андреева. - В. Д.) был арестован по обвинению в злодейском замысле покуситься на жизнь Сталина. Те подлецы, которые судили его, отлично знали, что это бред, и всё же сгнобили его в тюрьме» [там же, с. 352].
Рьяные прислужники, само собой, были не только в тюрьмах, но и за их пределами. Был одно время главным редактором «Известий» Я. Г. Селих. Судьба свела с ним К. И. Чуковского в Барвихе. Этот самый Я. Г. Селих рассказал К. И. Чуковскому историю, связанную с книгой Е. В. Тарле о Наполеоне. Все, кто её читал, понимали, что это выдающийся труд, но всё дело в том, что она вышла с предисловием опального К. Радека. Вот почему в «Известиях» и в «Правде» появились ругательные рецензии на неё. Е. В. Тарле написал письмо И. В. Сталину. Тот вызвал к себе главных редакторов «Правды» и «Известий» и «сделал им нахлобучку за злобные выпады против Тарле» [там же, с. 377]. «“И мы тогда признали свою ошибку и обещали похвалить эту книгу”, - закончил Селих.
- Значит, вы хвалите и браните только по распоряжению начальства.
- А как же иначе!» [там же].
К. И. Чуковский был в восторге от первых публикаций А. И. Солженицына, но отсюда не следует, что он принимал антикоммунизм их автора. В своём старческом полудиссидентстве во времена Н. С. Хрущёва и Л. И. Брежнева он не заходил слишком далеко: перед антикоммунизмом он себя останавливал не только из прагматических соображений, но и вполне продуманно. Он не причёсывал всех коммунистов под одну гребёнку. Об А. И. Солженицыне 85-летний Корней Иванович написал: «20 мая 1967 г. ...в его правде есть неправда: сколько среди коммунистов было восхитительных, самоотверженных, светлых людей, которые действительно создали - или пытались создать - основы для общенародного счастья» [там же, с. 439].
Язык. Природа наградила К. И. Чуковского удивительной способностью - писать без ошибок. Эту способность он обнаружил ещё в гимназии. Но одно дело - грамотно писать под диктовку, а другое - знать тонкости родного языка и искусно им пользоваться, а если к нему прибавить ещё и английский язык, то и выйдет Корней Чуковский. Свои литературно-критические статьи, свои детские стихи, свои филологические труды и прочее он писал на выразительном, точном, доступном, изящном, изумительном языке.
У К. И. Чуковского несколько лингвистических трудов. Самые значительные из них: «От двух до пяти», «Высокое искусство» и «Живой как жизнь». Последняя книга посвящена культуре речи (поскольку «пропала самая элементарна грамотность» [там же, с. 313], а вторая - теории перевода. Особенно много он занимался первой. При жизни автора вышло множество её изданий. При этом каждое следующее он расширял за счёт нового материала, который ему присылали родители со всех концов СССР. Она посвящена детским неологизмам («лепым нелепицам»).
К. И. Чуковский учил видеть в детской речи не только результат подражания взрослому языку, но и плоды самостоятельного творчества. Он писал: «У двухлетних и трёхлетних детей такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не кажутся калеками или уродами речи, а, напротив, очень метки, изящны, естественны: и “сердитки”, и “духлая”, и “красавлюсь”, и “всехный”» [Чуковский, 1999, с. 272].
Слова, созданные детьми, К. И. Чуковский делил на две группы - уже имеющиеся в языке и отсутствующие в нём. К первой группе относятся, например, слова «пулять», «никчемный», «обутки» и т.п. Изобретая их, ребёнок не подозревает, что они уже имеются в языке. Он пересоздаёт их заново. Однако большую часть детских слов составляют подлинные неологизмы - слова, отсутствующие в языке. В этом случае мы имеем дело с настоящими детскими неологизмами. Вот лишь некоторые примеры последних:
1) существительные: стрекозёл (муж стрекозы); шишенята (Вы и шишку польёте? Да. Чтобы выросли шишенята?); почтаник (почтальон); тормозило (тормоз); ползук (червяк, по аналогии с «жук» или «паук»); обувало (обувь); брызгань (Мы хорошо купались. Такую брызгань подняли!); учило (учебник); сольница (солонка); ещё (Двухлетнюю Сашу спросили: «Куда ты идёшь?». «За песочком». «Но ты уже принесла». «Я иду за ещём»);
2) прилагательные: никовойная (Я мамина и больше никовойная); пахлая, духлая (Лялечку побрызгали духами: «Я вся такая пахлая. Я вся такая духлая»); всехний (Я зажёг для детей костёр. Издали солидно подползла двухлетняя соседская девочка: «Это всехний огонь?». «Всехний, всехний! Подходи, не бойся!»; баюльная (колыбельная, от «баю»); окошный (Какой окошный дом!»;
3) глаголы: красавиться (И вертится у зеркала: «Я, мамочка, красавлюсь!»); нанитывать бусы (по аналогии с нанизывать на нитку); копытнуть (ударить копытом); налужить (о дожде); распакетить; отсониться («Погоди, я ещё не отсонилась»); залошадить («Весь мост залошадило»); углазиться («На что это ты так углазилась?»); не божемойкать (не говорить «Боже мой»); оцыплятиться («Наседка оцеплятилась»); высолить; вытрудить; отпомнить; отпачкать; расга- щиваться; притонуть, вытонуть (о кукле в ванне); отмухиваться («Я сижу и отмухиваюсь!»).
Подобные перлы невозможно перевести на иностранный язык. Вот почему К. И. Чуковский вовсе не был рад переводу «От двух до пяти» на французский: «Во Франции, оказывается, вышла в переводе моя книга “От двух до пяти”. Книга явно мошенническая, ибо нельзя же перевести “вот притонула, а вот и вытонула”, или “всехний”, или “вертутия” или “смеяние”, а без этого книга превращается в сборник пустых анекдотов» [5, с. 287].
Усвоение языка ребёнком К. И. Чуковский считал чудом. В начале книги «От двух до пяти» мы читаем: «…каждый малолетний ребёнок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться возможно внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удаётся в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий. Хотя это овладение речью происходит под непосредственным воздействием взрослых, всё же оно кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни» [3, с. 272].
По требованиям к себе и другим К. И. Чуковский был максималистом. Его максимализм часто выливался в отчаянный нигилизм. Мы его видим, например, в такой записи: «1 апреля 1955. Ну вот, Корней, тебе и 73 года! До сих пор я писал дневник для себя, т.е. для того неведомого мне Корнея Чуковского, каким я буду в более поздние годы. Теперь более поздних лет для меня уже нет. Для кого же я пишу это? Для потомства? Если бы я писал его для потомства, я писал бы иначе, наряднее... Выходит, что писать дневник уже незачем, ибо всякий, кто знает, что такое могила, не думает о дневниках для потомства» [5, с. 195].
Не всем потомкам Корнея Чуковского нет дела до его дневников, до его страданий и радостей, до его мучительного движения к ЧЕЛОВЕКУ. Ещё сохранились и такие, кто читает эти дневники с чувством глубочайшей благодарности их автору. Они учат БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ.
Тяжёлая форма анималёза (от лат. ашта1 ‘животное') - вот точный культурологический диагноз, который следует установить для современного человечества. Вот почему принцип Etre homme ‘Быть человеком' - вовсе не прекраснодушный призыв, а руководство к действию в повседневной жизни. Без его осуществления нас ждёт неминуемый возврат к нашим животным предкам [1].
Библиографический список:
- Даниленко В. П. Смысл жизни. - М.: Флинта: Наука, 2013. - 296 с.
- Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 6-ти т. - М: Худ. лит., 1965 - 1969. - 6 т.
- Чуковский К. И. Стихи и сказки. От двух до пяти. - М.: Планета детства, 1999. - 704 с.
- Чуковский К. И. К вечно юному вопросу // Новый мир. - 2002. - №8.
- Чуковский К. И. Дневник: в 3 т. - М.: ПРОЗАиК, 2011. - 3 т.