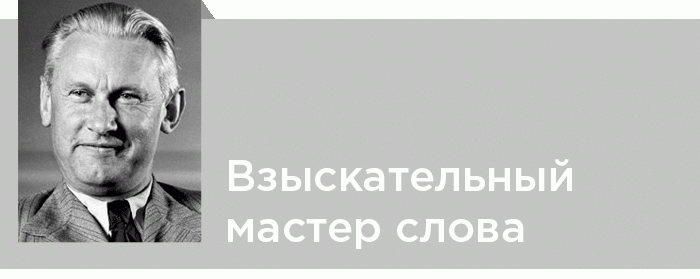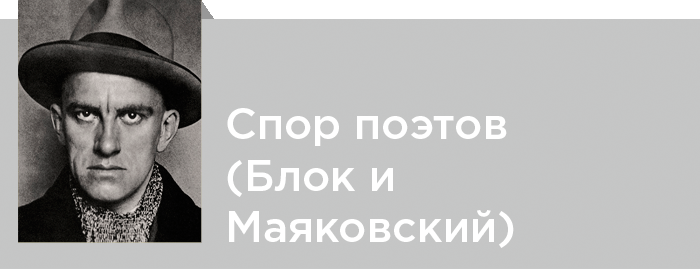О речевой структуре романа А. Фадеева «Разгром»
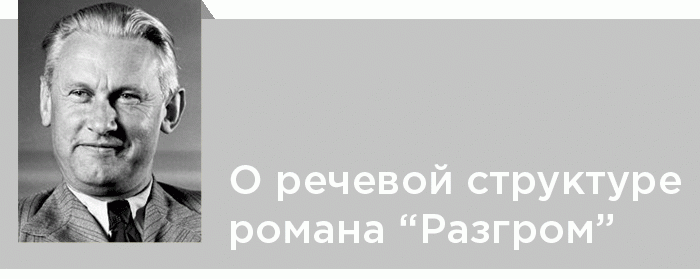
Е.М. Виноградова
Будущий писатель Александр Фадеев (1901-1956) с юношеских лет был втянут в водоворот классовой борьбы. Формирование его личности проходило в большевистском подполье, в партизанских отрядах, сражавшихся в Сибири и на Дальнем Востоке против колчаковских банд, с войсками японских оккупантов. Суровая и прекрасная школа жизни определила весь характер его творчества. Позднее он писал об этом так: «Я прежде стал революционером, чем писателем, и когда взялся за перо, был уже сформировавшимся большевиком. Несомненно, от этого и мое творчество стало революционным» (Фадеев А. А. Собр. соч. в семи тт. Т.
Политик и художник... Эти два понятия всегда были нерасторжимы для Александра Фадеева. В 20-е годы, когда вопросы воспитания и становления свободной социалистической личности находились в центре внимания молодой советской литературы, появился его роман «Разгром» (1927). В нем писатель в числе первых обратился к художественному исследованию путей формирования нового общественного сознания, к изображению внутреннего мира героя, неизвестного ранее русской и мировой литературе.
Многие исследователи творчества Фадеева писали о новаторских приемах, о писательском мастерстве и взыскательности, о психологическом богатстве этого романа, однако их выводы не получили достаточного подтверждения в анализе его языка. О языке «Разгрома» написано немного. Наиболее подробно этот аспект рассмотрен в книге А. Бушмина «Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности» (Л., 1983). Представляется интересным обратиться к анализу речевой структуры романа, поскольку это поможет объяснить, каким образом писателю удалось создать произведение со столь сложной, неодномерной психологической организацией.
Обращает на себя внимание уже то, что в романе о событиях гражданской войны описанию самих событий, военных действий уделяется значительно меньше места, чем рассказу о людях. В общем, как подчеркивает А. Бушмин, для автора «Разгрома» главное — «изображение человеческих характеров», история «человеческих переживаний» (Бушмин А.С. Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности, с. 38). О всем происходящем в жизни партизанского отряда повествователь сообщает очень кратко, сжато, почти безоценочно:
«Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, оп побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу, к госпиталю».
Цель автора — отразить не столько развитие событий, сколько столкновение связанных одним временем и пространством разных социальных и индивидуальных психологий, мировоззрений, судеб. Этим объясняется простота пространственной и временной организации романа. Хронологический принцип нарушается лишь при показе сознания героя, в воспоминаниях — притом редко. Из всех событий автор выбирает наиболее значительные для судеб героев и их-то описывает подробно, с близкого расстояния.
При наличии детальной внешней и внутренней характеристики персонажей повествователь в романе характерологически не выделен, что дает ему статус «объективного». В эпизодах, которые описаны подробно, он по-прежнему стилистически не маркирован, социально и психологически не обозначен, но количество оценочных средств в его речи возрастает, хотя очень редко встречаются прямые оценки.
В основном же события в романе изображаются — полностью или частично — с точки зрения персонажей. Так, автор описывает три сражения партизан Левинсона: разгром отряда Шалдыбы — глазами Морозки, сражение с японцами на дороге из Соломенной — глазами Мечика и сражение с казаками после гибели Метелицы — глазами Левинсона и Мечика. В результате показанные в романе военные действия представлены читателю не сами по себе, а как факт биографии кого-либо из героев.
Повествователь тем не менее не становится «безразличным», не выносящим суждений. Особенно заметно это в главе, описывающей разведку Метелицы, в главе, посвященной Левинсону, и там, где изображается уход Мечика из отряда: здесь уже выносятся прямые оценки.
Стремясь наделить и героев «собственными голосами», Фадеев, помимо постоянных указаний на характер речи (о чем разговор впереди), использует речевую индивидуализацию: речь Мечика, Морозки, «сладкоголосого» Чижа, Левинсона, Вари, Дубова, Гончаренко, даже эпизодических персонажей имеет свои особенности. Вот, например, речь мальчика-пастушка: « — Может, ты ись хочешь? — спросил он,— У меня и хлеб е, ну — мало...»
Характерологическими задачами вызвано большое количество просторечных слов в романе, включение диалектизмов. В связи с этим следует вспомнить ответ Фадеева на замечание М.Д. Соколова, первого редактора романа, о грубых, натуралистических выражениях в первой редакции: «А чего тут особенного? В жизни ведь говорят так... Ничего, ничего, так было...» (Дон, 1962, № 1, с. 174).
Стремясь к психологической достоверности, автор в ряде случаев изображает и способ, форму речи. Пример внутренней речи безмерно уставшего Левинсона, несущего груз ответственности за отряд: «„Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... Вак...скую долину... как это странно — вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит — дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..“
Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову.
Рядом с ним ехал Бакланов.
Я говорю, надо бы дозор послать».
Автор рисует портреты своих героев не только с позиции повествователя, но и через видение других персонажей. Так, наиболее существенную деталь портрета Левинсона читатель впервые видит глазами Морозки: «Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона...» Его же глазами увиден впервые и Мечик: «Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови».
Не только внешность персонажей воспринимает читатель с точки зрения кого-то из героев. Оценки, характеристики тоже часто даются от их имени. Первая оценка Мечику дана Морозной: «Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.
Морозна не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.
Желторотый... — насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца».
К этой оценке пока не присоединяется Левинсон. Он выскажет суждение о Мечике после беседы с ним: «Экий непроходимый путаник», «такой никчемный пустоцвет». Не объективирует пока и повествователь оценку, данную Морозной: в авторской речи по отношению к Мечику употреблено слово парнишка, выражающее, скорее, положительную оценку.
Автор, доверяя герою оценочную функцию, не делает его абсолютно авторитетным судьей. Несколько раз он сталкивает перед читателем мнения героев об одном и том же лице, событии. Если у Морозки внешность Мечика вызывает неприятие, то для Вари он «красивый, стройный, белокурый, немного робеющий», — как раз те качества, которые вызывают симпатию (по контрасту с теми людьми, к которым она привыкла). А вот как воспринимают одного и того же человека Метелица и Левинсон:
«Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах...»;
«— Вот зверь, должно быть, — подумал Левинсон, задерживаясь на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу».
Тем самым, с одной стороны, Фадеев нарушает оценочную одноплановость, а с другой — дает возможность читателю получить контрастную характеристику персонажа.
Одним из средств «объективизации» точки зрения героя является также использование несобственно-прямой речи. Пример тому читатель встречает уже в первой главе, где Левинсон предстает в характеристике Морозки: «...нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо» (здесь суждение повествователя, сливаясь с точкой зрения героя, становится конкретной, получает оправданность, а оценка героя, в свою очередь, объективируется). Кстати, на фоне такой объективированной характеристики Левинсона высказывание Морозки о нем: «Жулик» — может восприниматься лишь как частное суждение — тем более, что оценка эта представлена в прямой речи, чем подчеркивается ее субъективность.
Но обращение к несобственно-прямой речи приводит подчас, как отмечают исследователи Л. Киселева и А. Бушмин, к стилистическим сбоям: герою приписываются несвойственные ему мысли (размышления Морозки в восьмой главе о своем месте в революционных событиях).
Другой способ придания авторитетности суждению персонажа — это повторение высказанного им мнения в речи других персонажей или повествователя. Так, портретная деталь «нездешние глаза» Левинсона, «глубокие, как омуты», увидена не только Морозной, но и Мечиком, и повествователем. Несколько раз упоминаются «большие узловатые руки» Гончаренко, «дымчатые глаза» Вари.
Но автор может подчеркнуть и неавторитетность, субъективность оценки героя:
оформив суждение как прямую речь: точка зрения героя видимо отделяется от точки зрения объективного повествователя;
противопоставив суждению одного из персонажей суждение другого, более авторитетное (разная оценка Мечиком и Левинсоном партизан отряда; разные мнения о Морозке, высказанные на «суде» Дубовым, Гончаренко, Рябцом и другими мужиками);
заставив читателя сопоставить содержание и форму речи персонажа («— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?...— ласково ворчал ординарец»; «— Мне и отсюда видать...— глухо сказал Морозна») .
Следует заметить, что Фадеев лишь в очень редких случаях, включая прямую речь, не ставит рядом с глаголом «говорения» поясняющего его слова (чаще наречия) или не использует глагол, не только указывающий на процесс речи, но и характеризующий ее. Уже в первой главе встречаем: «сказал он с убийственным спокойствием», «рассердился Левинсон», «спросил Левинсон едко», «сказал Морозна угрюмо», «пробурчал подрывник», «любовно ворчал Морозна» и т. д.
Автор постоянно прибегает к характерологическому рассказыванию о речи персонажа, иногда даже развернутому:
о Морозке — «в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене, — скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки»;
о Чиже — «Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды»; «голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства».
Подобные суждения мы встречаем о речи Левинсона, Дубова, Бакланова, Гончаренко, Пики.
Так в романе создается специфическая речевая структура, в которой доминирующая позиция принадлежит «объективному» повествователю, но которая включает и суждения других персонажей, наделяемые авторитетностью или лишаемые ее. Эти суждения, в свою очередь, также имеют иерархию: наиболее авторитетной и наиболее часто совпадающей с точкой зрения повествователя, включаемой в несобственно-прямую речь является точка зрения Левинсона; наименее авторитетны высказывания Мечика, Чижа, Пики. Повествователь не берет на себя функции единственного судьи в романе, разделяя эту роль с персонажами, но и не скрывается за их оценочной позицией, характеризуя как события, так и речь персонажей. В результате возникает авторитетная, но не однозначная, не одномерная, а диалектическая оценка. И в этом проявляется глубинное родство стилевых манер Фадеева и Л.Н. Толстого (а не только на уровне строения фразы, как это неоднократно отмечалось, в том числе самим автором «Разгрома»).
В романе представлено сложное взаимодействие оценочных планов. Позиции повествователя и персонажей могут незаметно сливаться: «Когда <Мечик> проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура».
Но точки зрения повествователя и персонажа могут быть принципиально противопоставлены: «Что я — мальчишка, что ли? — думал Мечик, не слушая взводного. — Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не желаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого)». «И мучился он <Мечик> не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе».
Эти наблюдения над организацией речевой структуры романа А. Фадеева «Разгром» позволяют, как нам кажется, более точно определить место этого произведения в стилевых поисках 20-х годов.
Л-ра: Русская речь. – 1987. – № 4. – С. 68-79.
Произведения
Критика