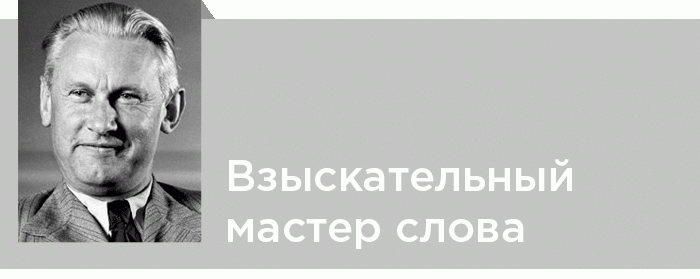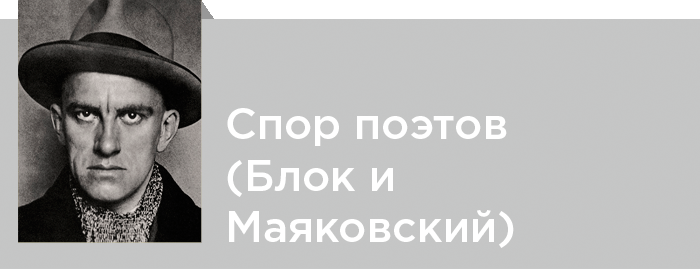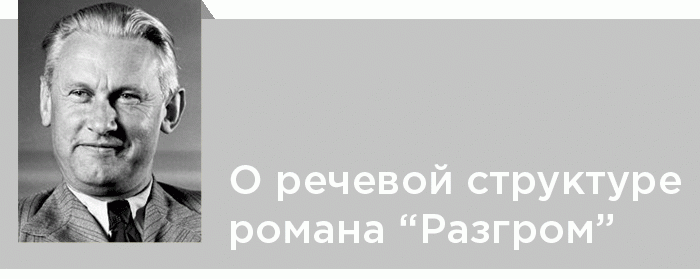Александр Фадеев. Разгром

(Отрывок)
I. Морозка
Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.
Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.
— Свезешь в отряд Шалдыбы, — сказал Левинсон, протягивая пакет. — На словах передай… впрочем, не надо — там все написано.
Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левин-сона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.
«Жулик», — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.
— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.
— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет…
Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальной: обычно называл просто по фамилии.
— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левин-сон едко.
— Зачем самому? Народу сколько угодно… Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.
— Иди сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо…
Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.
— Обожди, — сказал Морозка угрюмо. — Давай письмо. Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:
— Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче. — Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: — Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..
— То-то и есть, — засмеялся командир, — а сначала кобенился… балда!..
Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:
— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть…
Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене, — скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.
— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. — Иди овес покарауль: Морозка уезжает.
У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.
— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.
— Так точно, ваше подрывательское степенство!.. Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.
— Вольно, — снисходительно сказал Гончаренко, — сам таким дураком был. По какому делу посылают?
— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.
— Дурак… — пробурчал подрывник, откусывая дратву, — трепло сучанское.
Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.
— Мишка-а… у-у… Сатана-а… — любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу. — Мишка… у-у… божья скотинка…
— Ежли прикинуть, кто из вас умнее, — серьезно сказал подрывник, — так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.
Морозка рысью выехал за поскотину.
Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.
Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.
Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.
— Сын?.. — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.
— Значит, четвертый… — подытожил отец покорно. — Веселая жизнь…
Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.
В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.
В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми, туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.
Жизнь действительно была веселой.
В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.
На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.
Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.
Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.
Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.
А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.
Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.
Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.
Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.
Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.
— В-з-з… в-з-з… — жарко пели неугомонные пауты. Странный, лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий… Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.
— Обожди, — сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья. Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.
— Слышишь?.. Стреляют!.. — выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. — Стреляют!.. Да?..
— Та-та-та… — залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло четкий плач японских карабинов.
— В карьер!.. — закричал Морозка тугим взволнованным голосом.
Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.
Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.
— Обожди здесь, — сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на лук седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.
Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.
— Сволочи, что делают, что только делают… — все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.
В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.
Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.
— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.
— Мишка, сюда!.. — крикнул он вдруг не своим голосом. Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.
Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.
— Ложись!.. — крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.
Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.
— Ложись… — хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.
Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.
— Больно, ой… бо-больно!.. — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.
— Молчи, зануда!.. — прошептал Морозка.
Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.
II. Мечик
Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.
Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.
— Желторотый… — насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца. — Немного царапнули, а он и размяк.
Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.
— Известно, сопливый… — бурчал он недовольным голосом.
— Не трепись, — перебил Левинсон сурово. — Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.
Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.
Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими, бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.
Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа.
Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье.
Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.
Первое, что охватило Мечика, — что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, — было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.
— Где я? — тихо спросил Мечик.
Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.
— Сойдет… — сказал он спокойно. — Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко… — Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.
Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.
Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.
— Вот и хорошо, — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. — Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский. — Он несколько оживился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.
Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.
Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.
Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.
Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик — в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.
Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.
Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться…
У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.
— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.
— Да вот… послан из города…
— Документы?
Пришлось разуться и достать путевку.
— «… При… морской… о-бластной комитет… социалистов… ре-лю-ци-не-ров…», — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. — Та-ак… — протянул неопределенно.
И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:
— Как же ты, паскуда…
— Что? Что?.. — растерялся Мечик. — Да ведь это же — «максималистов»… Прочтите, товарищ!
— Обыска-ать!..
Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.
— Они не разобрали… — говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. — Ведь там же написано — «максималистов»… Обратите внимание, пожалуйста…
— А ну, дай бумагу.
Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.
— Дурак… — сказал сурово. — Не видишь: «максималистов»…
— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадованно. — Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое…
— Выходит, зря били… — разочарованно сказал матрос. — Чудеса!
В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.
Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.
Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.
Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.
Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых — двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.
Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Ме-чику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном бережку, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина…
Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?
Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.
— Да-а… Приходит это он до меня. Я, конешно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное. Вижу только, сумный он штой-то… «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю». — «Почему такое?..» — «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились». — «Ну-к что ж, говорю, чехословаки?.. Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня — тольки што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки… в-ж-ж… в-ж-ж…
Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.
— И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался… Уехал… Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема… Вот — жизнь!
Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.
Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.
И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)
— Блудливая она — Варька, — сказал однажды Пика. — Мо-розка, муж ее, в отряде, а она блудит…
Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.
— А отчего она… такая? — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.
— А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать — и все тут…
Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.
С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле, она слишком много «крутила» с мужчинами, — со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.
Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.
— Посиди со мной… — сказал он, краснея. Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.
— Ишь ты… — сказала невольно с некоторым удивлением.
Однако, оправив постель, присела рядом.
— Тебе нравится Харченко? — спросил Мечик. Она не слышала вопроса — ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:
— А ведь такой молоденький… — И спохватившись: — Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы — на одну колодку…
Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше, — оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.
Сестра рассматривала его — сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.
— Хороша курва! — сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.
Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.
— Ну, чего испугалась? — спокойно продолжал хрипловатый голос. — Это я не на тебя — на патрет… Много я баб переменил, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..
Варя пришла в себя и засмеялась.
— Ну и напугал… — сказала не своим — певучим бабьим голосом. — Откуда это тебя, черта патлатого… — И обращаясь к Мечику: — Это — Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.
— Да мы с ним знакомы… трошки, — сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».
Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.
А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.
III. Шестое чувство
Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.
Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.
— Михрютка-а… сукин сы-ын… заждался?.. — ласково ворчал ординарец.
Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.
Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок. Морозна еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? — думал он с досадой и недоумением. — Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут…» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай… И что в нем дура моя нашла?»
Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать Дорогу.
В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.
Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.
— Как свечечка!.. — восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.
За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.
Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.
Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.
В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.
Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.
— Что же ты… делаешь? — с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.
Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.
— Обожди-и, найдем мы на тебя управу… найдем!.. найдем!.. — кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.
В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.
Разведчик — в стеганом мужицком надеване и в лаптях — побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.
По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.
— А куда Шалдыба отступил?
— На корейские хутора…
Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.
— У Крыловки их здорово потрепали, — продолжал он бойко, шмыгая носом. — Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.
Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части — шестое чутье, как у летучей мыши.
Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.
Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимой мудростью многих поколений.
— Ну, а чего-нибудь особенного… не чувствовалось? Разведчик смотрел не понимая.
— Нюхом, нюхом!.. — пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.
— Ничего не унюхал… Уж как есть… — виновато сказал разведчик. «Что я — собака, что ли?» — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.
— Ну, ступай… — махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.
Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый, песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее.
У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом у пояса.
— Что делать с Морозкой?.. — с места выпалил Бакланов, собирая над переносьем тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. — Дыни у Рябца крал… вот, пожалуйста!..
Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.
— А ты не кричи, — сказал он спокойно и убедительно, — кричать не нужно. В чем дело?..
Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.
— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался, — когда вылезаю с ивнячка…
И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.
— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..
Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.
Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.
— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Мо-розку в орбиту своих немутнеющих глаз.
— Мой…
— Бакланов, возьми-ка у него смит…
— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.
— Не балуй, не балуй… — с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.
Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.
— Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк… на самом деле!
Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.
Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
— Пускай все узнают…
— Иосиф Абрамыч… — заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом. — Ну, пущай — отряд… уж все равно. А мужиков зачем?
— Слушай, дорогой, — сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки, — у меня дело к тебе… с глазу на глаз.
Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.
— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для кого.
Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.
Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:
— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.
Произведения
Критика