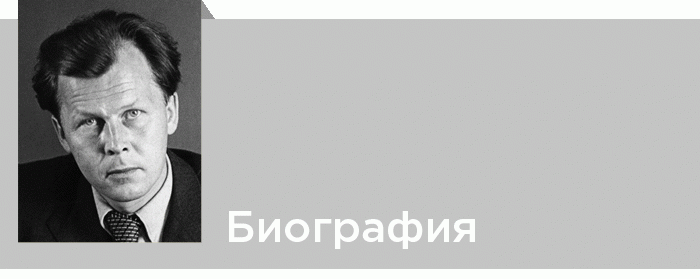«В тоске и славе этих лет» (Война в художественном развитии Александра Твардовского)
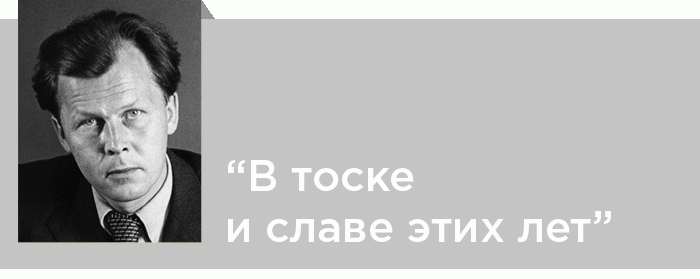
Сергей Страшнов
В литературных кругах предвоенного десятилетия Александр Твардовский выглядел писателем сугубо штатским, а точнее, глубоко мирным. Тревожная атмосфера тридцатых годов — атмосфера фашистских путчей и империалистических сговоров, локальных войн и провокаций на наших границах — сформировала в советской поэзии особый отряд. Его составили поэты с боевой биографией, с армейской выучкой, приверженцы эмоционально сдержанного, строгого стиха — стиха с воинской выправкой.
Складывалась такая выправка годами, и можно вроде бы лишь удивляться, что, вступив в Красную Армию в сентябре 1939 года, А. Твардовский почти сразу же встал в один ряд с испытанными поэтами-бойцами, более того, занял в общем строю место правофлангового.
«В том походе (в Западную Белоруссию. — Прим. А. Твардовского) я не мог еще забыть, что я призванный в ряды РККА рядовой и что только командирская шинель на мне и пр.» Чувство собственной командной «неполноценности» сохранялось у поэта и позднее, во время боев с белофиннами на Карельском перешейке: «Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не выслужено (не то слово). Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца».
Не благодаря ли этому сомнению, этому постоянному стремлению быть рядом со своими героями и читателями Твардовский и напишет впоследствии «Василия Теркина», «Фронтовую хронику» и «Стихи из записной книжки» — лучшие страницы фронтовой поэтической антологии? В условиях народной, Отечественной войны он нашел наиболее естественный и плодотворный путь развития поэзии, по которому вместе или вслед за ним продвигались А. Сурков, К. Симонов, П. Шубин, талантливая молодежь. «Став в среде воинов Красной Армии своими людьми, будучи живыми и непосредственными свидетелями и участниками военных событий, поэты получили право писать стихи от лица сражающегося советского человека», — говорил А. Сурков в 1944 году.
Первая встреча с настоящей войной произошла у А. Твардовского в снегах Финляндии. Зоркий, сильный и глубокий человек, за три с половиной месяца финской кампании он понял многое из того, что не заметили, в чем не смогли признаться самим себе и читателям иные из литераторов даже по окончании Великой Отечественной.
Во-первых, это «ощущение великой трудности войны». Во-вторых, мысль о нераздельности во фронтовой обстановке быта и трагедии: «Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело». И, наконец (записи даются в той же последовательности, что и во «фронтовой тетради» «С Карельского перешейка»), как общий вывод: «Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере, — что ничего больше ее нет».
Справедливости ради надо сказать, что до читателей в стихах 1940 года этих существенных новых впечатлений не сумел донести и сам Твардовский. Поэтически фронтовой материал осваивался им впервые, к тому же осваивался он в обстановке газетной работы, которая требовала отклика оперативного и конкретного, с непременным перечислением подробностей боя и фамилий отличившихся бойцов. Отяжеленный таким балластом, стих неминуемо становился описательным, настолько медлительным, что этого не мог не замечать и сам автор: «И все остальное проходит так быстро. Быстрее, чем этот рассказ» («Высшая честь»).
Но даже в таких, очерковых, стихотворениях наметился у Твардовского свой собственный подход к материалу. «В дни боев я глубоко уяснил себе, что называется, прочувствовал, что наша армия — это не есть особый, отдельный от остальных людей нашего общества мир, а просто это те же советские люди, поставленные в условия армейской и фронтовой жизни». «Ее (армии. — С. С.) люди мне так же дороги, как и люди колхозной деревни, да потом ведь это же в большинстве те же люди».
Потенциальная сила «финских» стихов А. Твардовского была в том, что для него бойцы «те же люди-труженики», и в этом смысле он наследник коренной национальной традиции, восходящей к русской народной сказке. Солдат в ней — само воплощение бывалого человека, обаятельного, дельного, сметливого, способного сварить щи из топора. Черты того фольклорного «служивого» встречаем мы и у матросов-севастопольцев Л.Н. Толстого («Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине»). То же — и у фурмановского Чапаева («Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам»). Таковы же и красноармейцы А. Твардовского.
В их портретах подчеркиваются дорогие сердцу автора «Сельской хроники» приметы тружеников:
Тот к пушке подошел устало.
Металл был тепел под рукой,
И пахло, точно в кузне старой,
Огнем, окалиной сухой,
Землей натоптанной. Работа Была похожая вполне.
На сером ватнике от пота Пробился иней по спине.
Ратный труд напоминает ту работу, которая исполнялась в мирное время. Из привычки делать то, что более всего необходимо в данный момент, и рождается подвиг, который ни автором, ни бойцами не воспринимается как привилегия титанов: «Где ж искать героя? Надо самому» («Шофер Артюх»).
Узнаваемость, преемственность поначалу настолько бросались в глаза, что заслонили от поэта воздействие и последствия современных процессов, вызванные ими неизбежные изменения характеров. «Не эта война, какая бы она ни была, — записывал я себе в тетрадку, — породила этих людей, а то большее, что было до войны. Революция, коллективизация, весь строй жизни. А война обнаруживала, выдавала в ярком виде на свет эти качества людей. Правда, и она что-то делала». Что именно — было пока неясным. Не потому ли большинство «портретов в стихах» той поры завершались «эрзац-ответами», если прибегнуть к позднейшему выражению самого Твардовского? Решения-открытия были впереди.
Жизненный опыт, вынесенный с Карельского перешейка, оказался значительнее написанных там стихотворений. «Дороже записей то, что незаметно и как будто беспорядочно откладывается в голове из всех впечатлений, встреч и т. д.» Именно они — эти впечатления и встречи — дали толчок работе над «Теркиным», которая захватила поэта уже летом и осенью 1940 года, именно они легли в основание другой — на сей раз лирической — вершины А. Твардовского времен Великой Отечественной войны:
Из записной потертой книжки Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году Убит в Финляндии на льду.
(«Две строчки». 1943)
Вот те самые две строчки: «Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые портяночки раскрутились».
Творческие уроки финской кампании тоже не прошли бесследно. А. Твардовский в отличие от иных писателей той поры начал свою Отечественную без адаптации к фронтовой обстановке, без художественной разведки.
Лиро-эпические стихи, написанные поэтом в 1941-1943 годах и составившие основу «Фронтовой хроники», не получили в критике высоких оценок. Это и понятно: они быстро попали в тень «Василия Теркина» и рассматривались нередко лишь в качестве заготовок к великой поэме. Но в сознании современников они существовали и в иных отношениях. «Иногда в газетах попадаются твои стихи, иногда их читает здесь по радио А.О. Степанова, — писал Твардовскому 28 декабря 1941 года М. В. Исаковский. — И знаешь — скажу тебе без всякой лести — стихи ты пишешь очень хорошие. Они резко выделяются из всего того, что в больших количествах пишется сейчас о войне».
Казалось бы, как раз наоборот: А. Твардовский в это время неотделим от общего литературного процесса. Он работает в наиболее популярных тогда поэтических жанрах: агитационной лирики, стихотворного очерка, баллады. Однако в общем направлении поэт двигается на особой глубине. Стихов Твардовского не коснулся почти неизбежный для очерково-публицистических произведений холод констатации или риторики. Постоянное чувство родства помогает автору находить живые контакты с героями, а через них и с читателями.
Излюбленным способом ведения беседы с ними становится принцип локализации. Призыв, мотивировка, даже осуждение у Твардовского всегда конкретны, осязаемы, потому что настояны на святом чувстве дома, памяти о семье. О близких, об отчей стороне говорит он, обращаясь к «бойцу Южного фронта» и «земляку» в одноименных стихотворениях.
И к своей избе хозяин,
По-хозяйски строг, суров,
За сугробом подползает
Вдоль плетня и клетки дров.
(«Дом бойца»)
Подползает «с заряженною гранатой» и острым чувством личной вины, — чтобы освободить родных из фашистской неволи. «Вернулся сын в родимый дом. С полей войны великой» — и судит дезертира не трибунал, от него отрекаются мать и отец, — что пострашнее «смертной кары» («Баллада об отречении»).
«Дом», «семья» — эти слова наполнены для каждого извечной, лично ощущаемой теплотой, но они не разобщают, а объединяют людей. В самых локальных на первый взгляд образах скрыт источник широчайших обобщений: в художественном сознании Твардовского дом — это и вся Советская страна, которую ее хозяину — трудовому человеку нельзя не защищать; народ, армия — это та же семья: «Свояк, земляк, дружок, браток. И все добры, дружны» («Баллада о товарище») — семья такая единая и крепкая, что ее невозможно одолеть никакому врагу. Отсюда такая естественность героизма и патриотизма героев.
Весной 1941 года, подводя итоги работы над «финскими» стихотворениями и набросками «Теркина», Твардовский записал в дневнике: «У меня покамест нет или только в намеке, — человека в индивидуальном смысле, «нашего парня», — не абстрагированного (в плоскости «Эпохи» страны и т. п.), а живого, дорогого и трудного». Стремление индивидуализировать счастливо схваченный еще в «Сельской хронике» цельный, почти по-фольклорному тип ощущается уже в самых первых стихотворных опытах периода Великой Отечественной войны. Так, в «Сержанте Василии Мысенкове» поэт не довольствуется фиксацией типичного и постоянного, он пытается уловить также сегодняшнее, текучее, меняющееся в человеке.
Постепенно этот принцип у Твардовского все более развивается, характеры усложняются, оттачивается психологизм, Между тем военное время неумолимо требовало остропублицистичного искусства, писатели стремились выражать свою позицию со всей ясностью и категоричностью. И примирить такую публицистичность с неоднозначным художественным образом, к которому вели психологические поиски, было далеко не просто.
Твардовский нередко помещает своих героев первых военных лет в знакомую обстановку, привычную систему нравственных ценностей и отношений. Это и помогает им действовать в изменившейся, иногда невероятной для их прежней жизни ситуации, осознанно и уверенно; это же позволяет автору, будучи определенным и непреклонным, не упрощать жизни (те же «Дом бойца», «Баллада об отречении», другие стихотворения 1941—1943 годов). За спиной поэта и его героев — традиция, устойчивые представления мирной и — шире — народной жизни. Их и отстаивают они в смертельной схватке с фашизмом.
Эпос, который в форме малых своих жанров явно преобладал во «Фронтовой хронике», всегда предполагает определенный, ясный взгляд художника на события. У А. Твардовского он был обеспечен убеждением, что солдаты «в большинстве те же люди» — «люди колхозной деревни». В середине Великой Отечественной войны в художественном сознании поэта происходит довольно резкий перелом. Образ войны-испытания вытесняется в цикле «Стихи из записной книжки» и в примыкающих к нему стихотворениях 1943—1945 годов потрясающими привычные представления картинами войны-беды. Отныне Твардовский более всего сосредоточен на мысли о том, как перевернула война судьбы и сознание людей.
До чего же не похож на издавна знакомого нам парнишку, «из тех, что главарями у детей», на традиционного маленького героя из «Рассказа танкиста (1941) «В пилотке мальчик босоногий...» (1943). Серьезно и даже досадливо отвечает он на вопросы проезжего: «— Ну, сирота». И тотчас: «— Дядя, лучше дал бы докурить».
Трагическая невыразимость лиризма потеснила эпическую ясность. Многие «стихи из записной книжки» фрагментарны («За Вязьмой», «Ветром, что ли, подунуло...», «В поле, ручьями изрытом...»), ибо выраженное в них чувство недосказано, неизбывно, порой неизъяснимо. Проходя вместе с воинами-освободителями дорогами вчерашних отступлений, лирический герой печально признается себе: «И как будто, что так оно, И похоже... А — нет!..» («Ветром, что ли, подунуло...»).
Казалось бы, победный марш должен вызывать совсем иные чувства: преобладающий тон в поэзии последних лет войны — мажорный, радостно-фанфарный, да ведь и сам Твардовский писал в 1942 году: Вперед дорога — не назад,
Вперед — веселый труд;
Вперед — и плечи не болят,
И сапоги не трут
(«Баллада о товарище»)
Но теперь он настроен иначе: «Завернуть в родимый край — Не желай»,— обращается поэт к бойцу-освободителю, на горьком личном опыте встречи с родным пепелищем зная, что увидит тот на отвоеванной земле:
Дым, щебенка, головешки,
Рваной жести скорбный стон,
Бедных беженцев тележки —
Всюду есть — из горла вон.
(«В жизни воина дорожной»)
Война продолжалась, и, приближая Победу, бойцы ежечасно прилагали героические усилия, преодолевали яростное сопротивление фашистов, погибали... Но своя, индивидуальная участь всегда беспокоила героев Твардовского в последнюю очередь (показательно стихотворение «В пути»). Встречаемые как избавители, солдаты сами не могли избавиться от чувства личной вины за «отступление, оставление многими воинами родных и близких в тылу у врага». В «Отце и сыне» (1943), так не похожем, кстати сказать, на одноименное оптимистическое стихотворение 1941 года, солдат, «покрытый славой», возвращается домой, а дома нет, нет семьи, и тогда он говорит сыну-сироте: «Уедешь ты со мной, На фронт, где я воюю, В наш полк, в наш дом родной». Героям-бойцам Твардовского горько и стыдно от того, что их временные фронтовые землянки оказались более надежным укрытием, чем родная мирная хата. Жестоко страдает от этого и сам поэт.
А. Твардовский ни на минуту не усомнился в том, что народ способен выдержать все. Стихи 1943—1945 годов, и особенно прозаическая книга «Родина и чужбина», полны примет неистребимости жизни. «Жизнь больше войны» — созидательная энергия советских людей несокрушима, но активнее она совсем не у тех, кто сознательно изгоняет из своей памяти бедствия и страдания.
Войска победоносно продвигались на Запад — это казалось некоторым стихотворцам не просто главным, но единственно достойным отражения процессом. И богатырю ли освободителю не одолеть личную трагедию:
Осталась от избы труба,
А от жены лишь тень.
И все ж светла его судьба,
Окутан славой день, —
Писал, например, в те дни один поэт.
Твардовский был убежден в безусловной фальшивости подобных парсун, какими бы теориями типизаций они ни оправдывались. «Счастье не в забвенье!» — в этой выстраданной формулировке из послевоенной поэмы «Дом у дороги» жива горечь настроений и картин последних лет Великой Отечественной.
Да, судьба войны была решена, и художественные возможности существенно расширились. В трудные дни 1941—1942 годов — дни отступлений и неудач — важнее всего было укрепить в людях веру. Твардовский вместе со всеми советскими писателями показывал образцы достойного поведения защитников Родины. Теперь же, в конце войны, поэт подчеркнуто избегает наиболее проторенных в современной ему поэзии и легких путей. А. Твардовский (как и М. Исаковский, О. Берггольц, М. Алигер) одновременно с ликованием выражал и боль — отражая издавна сложившееся в народном сознании единое и вместе с тем драматически противоречивое представление о победной войне. Именно полнота оценки эпохального события стала в литературе того времени критерием историзма, гуманизма и народности. Война ускорила в массах процесс личностного самоопределения. У Твардовского он проявился в неуклонном развитии лиризма. Ведущая для поэта тема «Человек и народ» решалась во второй половине 30-х годов почти исключительно со стороны общих идеалов. Даже лирические — номинально — стихотворения («На свадьбе», например) представляли собой лирику «другого» человека, то есть были написаны от лица героев, с которыми автор полностью сливался, как бы растворяясь в массе.
Народ, его традиционные представления на переднем плане и во «Фронтовой хронике», но авторское «я» выступает здесь уже несколько активнее. И когда поэт говорит о бойце:
Нет, ты не думал, - дело молодое, —
Покуда не уехал на войну,
Какое это счастье дорогое —
Иметь свою родную сторону,
(«Земляку»)
то в обращении проступает и его собственный духовный опыт.
У Твардовского завязываются совершенно новые отношения с героями:
И твоя родная хата,
Где ты жил не первый год,
Под огнем из автоматов В борозденках держит взвод.
(«Дом бойца»)
Внешне это напоминает публицистику, по существу же перед нами внутренний монолог героя («Где ты жил не первый год» — так можно обращаться только к самому себе), однако монолог, отнюдь не случайно выделенный поэтом из легко создаваемого субъективного плана («моя», «я»): местоимение «ты» — вместительней, оно дополняет голос героя голосом автора, который понимает и разделяет боль, заботу и чувство вины солдата. Так возникает союз, внутренняя беседа, согласие двух личностей, ощущающих общую ответственность за все, что происходит на родной земле.
В «Стихах из записной книжки» А. Твардовский совершает решающий шаг: потаенное, личное чувство начинает звучать открыто. Но свобода лирического излияния не обернулась одиночеством. Лирика Твардовского лишена хотя бы малой крупицы эгоизма, человек осознает себя здесь в сочувствии, в мысли о других, «без которых нет меня» — как скажет поэт в «Василии Теркине».
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий.
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький лежу.
(«Две строчки»)
Не по себе эти слезы! Но, может быть, впервые главная трагедия войны, трагедия смерти и забвения измерена поэтом по себе, испытана обостренно лично.
Во второй половине войны, особенно после поездки на место уничтоженного фашистами родного Загорья, Твардовский все острее ощущает свое право на исповедь. Душа была переполнена столькими и такими впечатлениями, что не высказаться было уже невозможно. Лирика Твардовского — это признания зрелого человека. «В 1943 году Александру Трифоновичу исполнилось всего тридцать три года, но какая огромная, трудная и серьезная жизнь была уже у него позади», — восклицает В. Лакшин. Стихотворения 1943—1945 годов (прежде всего «Ветром, что ли, подунуло...», «У Днепра», «В поле, ручьями изрытом...») отмечены печатью того «неотступного чувства возраста «лирического героя», о котором сам поэт говорил впоследствии в связи с творчеством И.А. Бунина.
Поэтическая эволюция А. Твардовского в годы войны, неотделимая от хода событий, была подготовлена и внутренне. Перестройка имела длительную предысторию. Еще в 1935—1938 годах, в письмах, адресованных М.В. Исаковскому и С.Я. Маршаку, поэт неоднократно сетовал: «Не умею «от себя» полновесно выразиться», «я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу».
Первыми подлинно лирическими откровениями стали у Твардовского стихи о Загорье, написанные в 1939 году. Но вскоре перед поэтом неотступно и надолго поднялись совсем иные задачи. Война сдержала процесс перехода к лирике, но она же и обострила его. И когда стали рождаться «Стихи из записной книжки», это были уже не начальные опыты «лириковатых», как выражался сам Твардовский в 1936 году, стихотворений, а зрелая — без каких-либо скидок — реалистическая лирика народного поэта, который оказался способным измениться, когда это стало особенно необходимо.
О «Василии Теркине» часто говорят как о произведении синтетическом. Художественный синтез — не конгломерат, а переплавка. Переплавка в особом температурном режиме, здесь — совершенно в ином по сравнению со стихотворными очерками, балладами, лирическими «отрывками» Твардовского. «Василий Теркин» поражает размахом и многомерностью поэтического изображения войны и сражающегося человека. В поэме открывается та «глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига», о которой, характеризуя период Великой Отечественной войны, писал А. Твардовский в «Автобиографии».
Бедствие и подвиг, горечь и оптимизм, быт и высочайшая духовность нераздельно присутствуют почти в каждой главе произведения, образах главного героя и автора. Отсюда — цельность «Книги про бойца» при удивительной даже для самого поэта широте идейно-эмоциональной амплитуды.
Размышляя о будущей поэме, Твардовский писал перед самой войной: «Начало может быть полулубочным. А там этот парень пойдет все сложней и сложней». Вроде бы именно так и начинается рассказ о Теркине («На привале») — с присказки о сабантуе, с розыгрыша, с веселой уверенности, что все трудное — преодолимо: «Ну, война — так я же здесь». Но уже в следующей главе, «Перед боем», герой сложен и многозначен. Он «как бы политрук» небольшого отряда отступающих; но не потому, что «более речистый», как было сказано в первоначальном варианте, — Теркин «более идейный», то есть самый неунывающий, сильный духом, наделенный чуткостью и тактом (встреча командира и его жены дана через восприятие героя), совестливой душой и памятью:
И доныне плач тот детский В ранний час лихого дня С той немецкой, с той зарецкой Стороны зовет меня.
За них — родных, исстрадавшихся людей — и «бьется Теркин, держит фронт», зная, что именно он — простой солдат — «в ответе за Россию, за народ и за все на свете».
Василий Теркин многообразен, но не многослоен и потому способен как натура глубокая и цельная одновременно переживать самые сложные чувства:
...Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.
«Это — наши, — понял парень, —
Наши бьют, — теперь каюк».
Гордость за русское оружие смешана здесь с беспокойством о собственной судьбе, радость с болью — и никаких слоев!
Изначальная широта художественного подхода открывала возможность максимально полного охвата военных событий и быта, создания «энциклопедии фронтовой жизни бойца», как выразился один из читателей поэмы. Однако недаром в шутливом стихотворении «Из писем» (1945) Твардовский заметил: «Я всего того не вспомню, что забыл отметить в ней». Принцип построения «Книги про бойца» не экстенсивный и даже не хронологический (не случайно батальным центром поэмы стал «Населенный пункт Борки»), но исторический.
В 1946 году Н. Вильям-Вильмонт писал: «Твардовский — поэт не столько определенного социального уклада, общественного состояния, сколько, напротив, общественного движения, становления. В этом смысле Твардовский скорее поэт-историк, нежели бытописатель». Но относятся ли эти слова к центральному герою главного произведения Твардовского, ведь с самого начала книги он столь широк и целен? И не представляет ли собой поэма лишь демонстрацию исходного характера в различньгх ситуациях?
Да, герой — везде один и тот же, Василий Теркин, — именно тот, чье имя стало нарицательным. Но душа его развивается, растет. Меняются — от одной части произведения к другой — доминанты теркинского характера. Твардовский находит нужным специально подчеркивать это, выстраивая ряд перекликающихся ситуаций. Сравнив «Бой в болоте» и «Перед боем», «На Днепре» и «Переправу», «Дед и баба» и «Два солдата», мы без труда заметим, в каком ключе изменяется общая тональность. Драматичность явно нарастает, хотя драматизм фабулы, батальных сцен как раз ослаблен. Войска обрели силу и уверенность, люди прониклись тем бодрым духом, который в самые тяжелые времена излучали «политбеседы» и поступки Теркина. Теперь, вступив на днепровский берег, его однополчане балагурят вполне по-теркински, но...
Но уже любимец взводный —
Теркин, в шутки не встревал.
Он курил, смотрел нестрого,
Думой занятый своей.
За спиной его дорога
Много раз была длинней.
И молчал он не в обиде,
Не кому-нибудь в упрек, —
Просто больше знал и видел,
Потерял и уберег...
Он понимает законность и естественность оптимизма, веселья, даже бравады своих товарищей, но сам не может отныне быть таким же. С чувством невольной вины герой повторяет:
Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!..
Долгожданный день освобождения стал для Теркина горьким часом осмысления собственной жизни, обстоятельства которой резко изменились:
Но едва ль уже мой Теркин,
Жизнью тертый человек,
При девчонках на вечерке Помышлял курить «Казбек»...
До сих пор духовная энергия героя чаще была обращена вовне, к людям, которые остро нуждались в его помощи. Теперь он погружается в себя. Фашисты ограбили и осквернили не только землю, но и сознание, и Теркин уверен, что защищаться человек должен не только от смертоносного металла, но и от забвения — распада нравственного. «— Так пошла ты прочь, Косая, Я солдат еще живой», — говорит боец в главе «Смерть и воин». Тот же пафос одухотворяет и главу «На Днепре». Герой живет большой памятью — памятью о бессмертном существовании нации, о счастливом, коллективном — и горьком, сиротском. Да, Василий Теркин «больше знал и видел, потерял и уберег...».
Даль души этого, по выражению А. Абрамова, героя-народа бесконечна.
Ослабляя фабульную напряженность, А. Твардовский заостряет драматизм психологический. В третьей части книги поэт сосредоточенно измеряет глубину «всенародно-исторического бедствия», и ему уже недостаточно одного Теркина, холостого и бездетного. Твардовский пишет главу «Про солдата-сироту», самую трагическую во всей поэме, и главу «О себе», в которой, подчеркивая собственную нераздельность с героем-земляком, с близким по духу и судьбе читателем («Я ограблен и унижен, как и ты, одним врагом»), отстаивает свое право говорить не просто «от автора», а подлинно от себя. Образ народа, представленный в первой половине поэмы Теркиным, в финальной части «Книги про бойца» многократно расширяется и углубляется.
«Василий Теркин» — произведение синтетическое и в том отношении, что здесь своеобразно проявились все основные линии художественной эволюции
А. Твардовского в 1940-1945 годах. Образная система книги удивляет не только целостностью, но и развитием, причем развитием не предусмотренным, не предумышленным. «Я ничего не держал про себя до другого раза, стремясь высказаться при каждом случае — очередной главе — до конца, полностью выразить свое настроение, передать свежее впечатление, возникшую мысль, мотив, образ». И если Твардовский проявляет себя в «Василии Теркине» как поэт-историк, историк современности, то прежде всего потому, что он обладал уникальной художнической и человеческой способностью к интенсивному духовному росту.
А. Твардовского долго мучило то чувство, неловкости перед простыми бойцами, с которыми он пришел в армию. Уже на исходе войны он снова пишет: «Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который он должен практически биться, нов и не может не занимать всех его психофизических сил с остротой первоначальной свежести. А для нас, хекающих, все это уже похоже-похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали». И только «Василий Теркин» — «Боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой!», завершение поэмы — развеяли подобные настроения. Но, не будь их, не будь навечного обязательства «живых перед павшими за общее дело», не состоялась бы, наверное, и «Книга про бойца».
В одном из писем А. Твардовский размышляет: «Ведь это верно, что жизнь без искусства, то есть правдивого отражения ее и закрепления ее преходящести, была бы попросту бессмысленна. Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает полную действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки. Чем был бы для самосознания многих поколений русских людей 1812 год без «Войны и мира»?» И чем, добавим от себя, была бы для нескольких, особенно невоевавших поколений советских людей Великая Отечественная война без «Василия Теркина», без стихотворений Твардовского? Конечно, она по-прежнему воспринималась бы нами как величественное, трагическое и славное событие, но чего-то важного мы бы непременно лишились, не поняли, не пережили...
Л-ра: Литературное обозрение. – 1985. – № 6. – С. 45-50.
Произведения
Критика