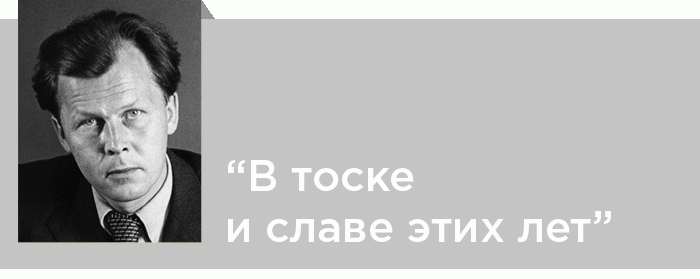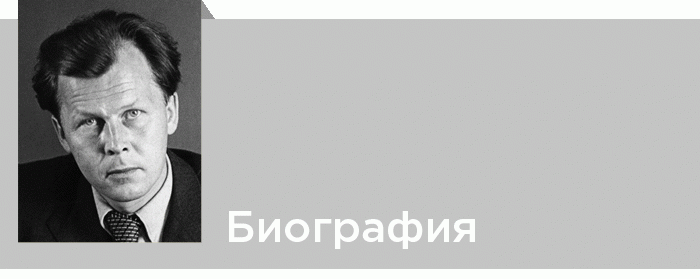О ценностной системе А.Т. Твардовского («Василий Теркин»)

А.Б. Есин
Чем проще конструкция — тем она надежней и прочнее. Это знает каждый столяр, каждый механик, вообще каждый мастеровой. Но не так ли обстоит дело и в областях собственно духовных — в культуре, например? И если культура есть система ценностей, причем таких, без которых не проживешь, — то не будет ли культура, ограниченная минимумом, наиболее устойчивой?
Правда, тут еще вопрос, какой минимум. В разных исторических ситуациях это складывается по-разному. Но мы поведем речь только о том, как устойчивость культуры, с одной стороны, помогла выжить русскому народу в Великой Отечественной войне, а с другой — как на основе этой культуры великий русский поэт XX века А.Т. Твардовский стал выразителем того самого этноса, который полвека назад заявил о себе не просто как о великом — величайшем.
Надо полагать, все помнят зачин «Книги про бойца»: «На войне, в пыли походной...». В нем Твардовский разом обозначает ценностные ориентиры: вода — во-первых, по-русски сытная еда — во-вторых, а только потом уже все остальное. Только потом... Поверим ли мы автору? Поверим, если примем в расчет то самое маленькое допущение, которое он делает, обращаясь к читателю: все это немножко с юморком, но и серьезного здесь немало. Только серьезное идет во втором ряду, потому что зачем же его выставлять напоказ — как-то не по-русски получается... Но все-таки звучит в зачине — наряду с махоркой, едой и водой — и шутка Василия Теркина и, может быть, главное: «А всего иного пуще /Не прожить наверняка — /Без чего? Без правды сущей,/ Правды, прямо в душу бьющей,/ Да была б она погуще,/ Как бы ни была горька».
Недаром скуп перечень. Недаром и добавить к нему можно лишь столь же житейские ценности, например, из стихотворения «Когда пройдешь путем колонн...» Недаром и в том, и в другом случае начинается разговор о ценностях, так сказать, материальных (сон, вода, хлеб и проч.) и лишь потом выходит на что-то иное, что привычно обозначать и называть героизмом, патриотизмом, чувством товарищества и т.п. Но почему же так?
Потому что есть два неоспоримых резона говорить прежде о воде, махорке, отдыхе, а потом уж обо всем остальном. Первый — в том, что высокие слова как-то вообще не под стать русскому человеку, и поэтому они — мимоходом, как бы между прочим: «Я забылся на минутку,/ Заигрался на ходу,/ И давайте я на шутку/ Это все переведу». Кстати: в наиболее, видимо, патриотическом произведении военных лет — «Василии Теркине» — вообще нет слова «патриотизм». То ли потому, что нерусское, то ли по иной, глубочайшей причине: о чем же говорить, когда все туг само собой разумеется? Тут надо дело делать, а в «рифму что-нибудь про нас/ После нас напишут».
Нет слова «патриотизм», а вот другое, исконно русское, идущее еще от «Слова о полку Игореве» и народных былин, — «земля родная» — есть, и нередко. И это как-то более под стать русскому труженику-солдату.
Это все во-первых. А во-вторых — Твардовский везде обозначает ценностный минимум, потребный человеку, то есть ту самую устойчивость, которая стоит за простотой. Верно отметил Ю. Буртин: «Глубоко знаменательно, что «Книга про бойца» начинается со слов о воде, еде, шутке и правде, то есть не о том, что солдат «должен» войне, а о том, что ему самому в его фронтовой жизни дорого и необходимо».
Но не менее знаменательно, что материальные ценности как-то незаметно становятся ценностями духовными.
Вот хоть та же вода. Символика вроде бы извечная и даже тривиальная: вода — это жизнь. Но ведь истина от трюизма отличается прежде всего не по сути иносказания, а по его оформлению. У Твардовского вода — не с неба, и не в арыке, например, перед которой только и остается, что почтительно преклониться, а тоже, так сказать, русская: из ручья, из-подо льда. Не о круговороте сущностей в природе идет речь, не о философии, а просто о солдате с запекшимися губами.
А как развернется этот символ в «Теркине на том свете»! Развернется на всю поэму, начавшись с неприхотливого «Вот бы только нам попить/ Где-нибудь водички». А дальше: самая горькая пора войны, хуже которой уже и быть не может, все же лучше «потустороннего» блгоденствия, потому что «в окруженьи — в сорок первом — / Хоть какой, но выход был. /Был хоть суткам счет надежный,/ Был хоть запад и восток,/ Был в пути паек подножный,/ Хоть воды, воды глоток!» И финальное возвращение из царства смерти тоже передано именно этим же символом: «Из жары, из тьмы безводной, /Душу с телом доволок./ Словно той живой, природой,/ Дорогой водыхолодной/ Выпил целый котелок…»
А между началом и концом — еще и еще эпизоды, связанные с водой, — ну вот, например, как этот, трагикомический: «Приготовься на предмет/ Общей обработки»./ «Баня? С рдостью туда, /Баня — это значит — / Перво-на-перво вода». К следующему ответу Теркин подготовлен и только усмехается: «Нет воды горячей»./ «Ясно! Тот и этот свет./ В данном пункте сходны». А дальше — еще в шутку вроде, но уже с тревогой: «И холодной тоже нет?»/«Нету. Душ безводный»./«Вот уж это никуда! - Возмутился Теркин». А что уж тут возмущаться... Бедняга уж на все согласен: «Здесь лишь мертвая вода»./ «Ну давайте мертвой». Да все равно — мертвая вода не для живых...
Вода у Твардовского приобретает совершенно определенный нравственный смысл: например, про солдата, выходящего в сорок первом из окружения, говорится: «И по горькой той привычке,/ Как в пути велела честь,/ Он просил сперва водички, А потом просил поесть». Так неожиданно смыкаются и взаимопереливаются ценности материальные и духовные.
И не зря здесь появляется слово «честь». В последнее время мы как-то привыкли к тому, что честь — понятие даже более узкое, чем сословие, — честь офицера, казачья честь и т.п. Я на это и не посягаю — это есть. Но есть же еще и общее понятие чести — например, в словах «Лучше убиту быть, чем полонену быть», или в гениальных пушкинских строчках «Самостоянье человека — /Залог величия его». И у самого Пушкина честь явно не только дворянская — этим чувством вполне наделен Савельич, не чужд ему и Пугачев, а когда Татьяна пишет Онегину: «Но мне порукой ваша честь», — только ли к сословной чести она обращается?
То же и у Твардовского. Как и все высокие слова, «честь» употребляется поэтом редко, но зато с тем большей силой («На войне себя забудь, /Помни честь, однако», «Я до почестей не жадный,/ Хоть и чести не лишен»). В других случаях само слово даже не произносится (опять-таки по тому русскому свойству души, которое лучше всего было бы назвать целомудрием и противопоставить велеречивой болтовне), но смысл его явно проступает и в речи, и в поступках героя (например, в главе «Поединок» или в словах: «Нет, товарищ, зло и гордо,/ Как закон велит бойцу,/ Смерть встречай лицом к лицу,/ И хотя бы плюнь ей в морду, /Если все пришло к концу»).
Между прочим, конечно, не Твардовский принес в русскую литературу это понятие чести, не связанное с кастовостью, а обозначающее некоторое существенное свойство национального характера. Чтобы не уходить очень уж далеко, вспомним хотя бы честь Мастера, столь гениально переданную Лесковым и не покидающую русскую литературу. И у Твардовского это есть — не может не быть, раз дело идет о создании русского национального характера. Сразу, конечно, вспоминаются пила и часы, починенные Теркиным («Два солдата»), удальство и уверенность Теркина-связиста («Подмигнув бойцам украдкой:/ Мол, у нас, да не пойдет, — / Дунул в трубку для порядка,/ Командиру подает»); конечно же, разговор со Смертью: «Я работник, /Я бы дома в дело вник.»/ «Дом разрушен»./ «Я и плотник».../ «Печки нету.»/ «И печник.../ Я от скуки на все руки,/ Буду жив — мое со мной». А если выйти за пределы поэмы, то нас ожидает такой шедевр русской художественной прозы, как рассказ «Печники» — вполне под стать лесковскому «Левше».
Вот как неожиданно далеко уводят ассоциативные связи с самым простым, обиходным и насущным — водой. Ну, а скажем, другой «предмет военный» — кисет с махоркой — по законам художественного мира Твардовского тоже существует не сам по себе, а неожиданно напоминает о самом главном (ту же роль махорка играет, кстати, и в «Теркине на том свте»): о Родине, о трагедиях и долге солдата: «Потерять семью не стыдно — /Не твоя была вина./ Потерять башку — обидно,/ Только что ж, на то война./ Потерять кисет с махоркой, /Если некому пошить, — /Я не спорю, — тоже горько,/ Тяжело, но можно жить,/ Пережить беду-проруху,/ В кулаке держать табак, /Но Россию, мать-старуху,/ Нам терять нельзя никак./ Наши деды, наши дети,/ Наши внуки не велят./ Сколько лет живем на свете?/ Тыщу?.. Больше! То-то, брат!»
Из примеров уже, по-видимому, ясен «художественный механизм» включения в поэму патетики. У Твардовского она не раздражает, не кажется чужеродной, а естественно вплетается в ту художественную ткань, где «стихи — а все понятно,/ Все на русском языке». Патетика возникает обыкновенно из реалий фронтовой жизни, из естественных размышлений о судьбе человека на войне, зачастую сопровождается юмором. И еще: патетические строки в сравнении с системой целого текста все-таки очень малы по объему, а с композиционной точки зрения представляют собой лирический вывод из эпического повествования. Такое соотношение лирических и эпических фрагментов не только обусловило жанрово-стилевую цельность поэмы, но и придало исключительную убедительность образу русского солдата, которому в общем-то более свойственно выражаться слегка шутливо, часто грубоватоиронически, иногда и вообще промолчать, — но и «высокие слова», произнесенные к месту, лапидарно и ненавязчиво, ему тоже не чужды, потому что он не только так говорит, но и так чувствует и думает. Ну, может быть, не совсем так, как автор — тому по самой профессии положено выводить из-под спуда затаенное, задушевное, еще не обретшее словесной плоти («Смертный бой не ради славы...»). Но и разрыва между автором и героем здесь нет: «И скажу тебе, не скрою, — /В этой книге там ли, сям,/ То, что молвить бы герою,/ Говорю я лично сам./ Я за все кругом в ответе,/ И заметь, коль не заметил,/ Что и Теркин, мой герой,/ За меня гласит порой».
Но вернемся к разговору о простоте системы ценностей и ее незыблемости. Ясно, что во время войны связь того и другого очевидна, но именно для русского солдата она издавна была особенно характерна и приобретала особый смысл. Спору нет, война — вещь и страшная, и трагическая, и постоянно испытывающая человека на прочность, в самых разных смыслах давящая наличность. Но если боец только одно это неблагоприятное давление и ощущает, если, соответственно, он всегда мрачен и серьезен, — то с таким бойцом, пожалуй, войны не выиграешь. На войне, может быть, справедливее всего слова: «Живой о живом и думает». И поэтому в пару к безусловной аскетической отрешенности от мирного бытия («Сколько жил — на том конец,/ От хлопот свободен./ И тогда ты — тот боец,/ Что для боя годен») так естественно добавляется умение солдата создавать себе буквально из ничего, так сказать, «маленькие праздники», на время освобождаться от эмоционального дискомфорта. И видимо, это вполне равноправные составляющие того древнего понятия, которое обозначается словами «боевой дух».
Об этой стороне материального быта и психологического состояния солдата на войне довольно точно говорит И. Рогощенков: «Жизненная сила солдата управляла его чувствами, переключая внимание, скажем, с потери семьи на потерю кисета, с оставленного дома — на устройство своего временного жилища в окопе или блиндаже, на портянки и иные реалии солдатского быта. Так достигалась внутренняя свобода и духовное равновесие среди войны. И наче солдат просто не смог бы убивать и умирать сам. В объяснение этой культурно-психологической установки многое дает и замечание Ю. Буртина о том, что к началу 1942 года «война превращалась в быт, в «работу», тяжкую, но устойчивую в своей повседневности».
Максимальная ограниченность и простота ценностей, да еще в сочетании с извечной неприхотливостью русского человека, создавали, как это ни странно, и на войне сносное существование. Так что не случайно Теркин «курит, ест и пьет со смаком/ На позиции любой». Или то же, но чуть иначе сказанное: «Тяжела, мокра шинель,/ Дождь работал добрый./ Крыша — небо, хата — ель,/ Корни жмут под ребра./ Но не видно, чтобы он/ Удручен был этим,/ Чтобы сон ему не в сон/ Где-нибудь на свете».
Между прочим, привязанность солдата к добротно устроенному быту, его желание и умение создать некоторый уют в самой, казалось бы, неподходящей обстановке — черта совершенно реальная. В частности, у самого Твардовского в цикле очерков «Родина и чужбина» есть абсолютно фактографическая зарисовка, говорящая именно об этом, — «Супчику хочется». Речь там, напомню, идет о том, что один наш танк «застрял» на ничейной земле; расстрелять его в упор мешала наша артиллерия, а пехоту экипаж отражал ручным оружием. Но дело не в этом, а вот в чем: «По ночам ребята наладились поодиночке приползать за боеприпасами и Провизией домой, в бригаду... Они стряпали и варили в машине, жгли автол, открывая замок орудия и выпуская дым через ствол...
Как вы еще можете там о вареве думать? — спросили одного из них.
Знаете, — говорит, — сухомятка все-таки не еда. Супчику хочется...»
Думаю, что это нет смысла комментировать, разве что заметить, что перед нами очень выразительный штрих национальной психологии.
А вот откуда эта психология взялась, какими ценностными мотивами поддерживалась — это вопросы немного посложнее. Во-первых, ее истоки следует, очевидно, искать в традиции. Русский солдат — что в народных сказках, что, например, у Л.Н. Толстого — неизменно смел, хитер, удачлив, чаще всего остроумен и, конечно, не дурак поесть, выпить, поспать и вообще как-то скрасить свое солдатское житье. (Этому способствовал, кстати, и огромный срок рекрутчины, который практически выводил солдата из какой-либо иной ценностной системы и заставлял вырабатывать свою, совершенно уникальную, ждущую еще, между прочим, своего исследователя-культуролога.)
Второе обстоятельство уже упоминалось: это крайняя простота и ограниченность оставшихся ценностей. Думаю, что не стоит особо оговаривать, что у солдата за душой не только кисет с махоркой или стопка спирта, но еще и любовь к родному краю, женщине, семье — есть если, — да и ко всему прочему — к жизни. Просто прячется это далеко-далеко, потому что если думать об этом ежеминутно в условиях войны, то сойдешь с ума не фигурально, а вполне реально. (Между прочим, далеко не случайное замечание: «И едва ль герою снится/ Всякой ночью тяжкий сон:/ Как от западной границы/ Отступал к востоку он».)
Парадоксально на первый взгляд, но в сущности вполне логично: защитить мирную жизнь на войне — для этого надо до самой Победы как бы забыть о мире или, может быть, точнее, запрятать эти воспоминания в подсознание: «Раз война — про все забудь/ И пенять не вправе,/ Собирался в долгий путь,/ Дан приказ: «Отставить!»
В послевоенной поэме «За далью — даль» эта культурологическая и психологическая «военная норма» еще раз проявится в словах солдата в споре на тему «Фронт и тыл». Этот солдат, «знаток и той, что он оставил,/ И этой жизни фронтовой», уверен, что на фронте легче, чем в тылу, потому что: «Воюй — и все твое с тобой.... Что в жизни нужно — все бесплатно, /За все ответчица — казна./ Убьют иль ранят? Фронт. Понятно./ И не твоя уже вина». Именно с этой психологией «пойдешь в огонь любой,/ Выполнишь задачу./ И глядишь — еще живой/ Будешь сам впридачу». Словом, достигается оптимальное психологическое состояние, в котором не последнюю роль играет способность и возможность прожить хоть малый отрезок времени «со смаком».
Только вот сон, еда, стопка, баня и т.п. — это ведь только способы «поднять настроение». А суть — много глубже. Суть — в ясности и безусловности той боевой задачи, которая становится смыслом жизни: «Ну да что отом судить,/ Ясно все до точки./ Надо, братцы, немца бить,/ Не давать отсрочки». Именно «бить», побеждать. Другой мысли у солдата нет даже в страшные дни сорок первого: «Я одну политбеседу/ Повторял: Не унывай. /Не зарвемся, так прорвемся, /Будем живы — не помрем./ Срок придет — назад вернемся,/ Что отдали — все вернем».
А уж откуда такая уверенность у Теркина — поди спроси...
Для него сдаться, хотя бы мысленно, захватчику, — просто немыслимо. И поэтому, кстати, столь эпически-спокойно принимает происходящее герой Твардовского: «До чего ж земля большая,/ Величайшая земля,/ И была б она чужая,/ Чья-нибудь, а то — своя./ Спит герой, храпит — и точка./ Принимает все, как есть./ Ну, своя — так это ж точно./ Ну, война — так я же здесь».
В этих, да и во многих других строфах поэмы перед нами возникает исключительно надежный и сильный тип мироориентации, который можно назвать «эпико-драматическим» и который основан на том, что все в мире идет своим правильным, законным порядком, включая и отдельные отступления от этого порядка. В конце концов все придет в равновесие — не потому, что мир сам по себе добр или зол, а потому что он нормален. Противоречия и ненормальности мира — естественная форма его жизни, но форма преходящая, а смысл человеческого бытия именно в том, чтобы этот порядок мироздания вернуть, сохранить. Собственно, этот тип эмоционально-ценностной мироориентации известен нам еще с ранней античности; в русской словесности он, по-видимому, актуален еще с былинных времен, и не исключено, что, допустим, Илья Муромец мыслил совершенно так, как Теркин: «Ну, своя — так это ж точно...»
Но в системе поэмы Твардовского эпикодраматическая эмоционально-ценностная ориентация — не единственная, ибо она предполагает некоторое «эпическое спокойствие», а в отдельных случаях — и своего рода безразличие. Для русского человека на Великой Отечественной войне такого, разумеется, быть не могло, и прежде всего потому, что в его миросозерцание властно входила иная эмоционально-ценностная ориентация — трагизм, и трагизм этот был многолик и разнообразен. Есть трагизм, воспринимаемый в масштабах нации («Я ограблен и унижен,/ Как и ты, одним врагом»), — на него можно ответить только ненавистью, только уничтожением. Такого же рода трагизм — во многих и многих смертях людей — близких ли, далеких, но одинаково своих. И здесь единственный ответ: «Убей его!» Но ближе к теме данной статьи не это, а психологическая и культурологическая позиция человека на войне, его способность сохранять в предельно стрессовой ситуации и ясный ум, и, по возможности, хорошее настроение. Поэтому сейчас важен и несколько иной аспект трагизма: не случившаяся уже вокруг тебя смерть, а постоянная возможность собственной смерти, что изо дня в день создает «предельную на душу нагрузку». Надо тут заметить, говоря словами Теркина, что «туг не то, что на кулак:/ Поглядим, чейдюже, — /Ясказал бы даже так:/ Тут гораздо хуже...» Действительно, страх смерти легче превозмочь, если можно противопоставить ему какие-то активные действия: бежать в атаку, стрелять, колоть... Но ведь тип войны XX века угрожал смертью совсем не в таком обличии: бомбежки, «сабантуй» минометный, танковый... Вообще типична ситуация: «И какой ты вдруг покорный/ На груди лежишь земной,/ Заслонясь от смерти черной/ Только собственной спиной».
Об отношении к смерти в разных ситуациях, у разных народов, в разном возрасте и т.п. можно сказать много. Но важно одно, почти общее для всех людей — да что там людей! — для всего живого. Человек боится смерти — за исключением очень немногих, особых случаев. И боится именно потому, что жалеет жизни. Почти безусловно правоту приобретает этот закон, если относится к человеку нестарому, нормальному психически, относительно здоровому физически. Может быть, привычка к возможности каждую минуту быть убитым преодолевает страх, и уж сам-то Теркин, разумеется, смерти не боится? Как не так! «Толку нет, что в миг тоскливый,/ Как снаряд берет разбег,/ Теркин так же ждет разрыва,/ Камнем кинувшись на снег;/ Что над страхом меньше власти/ У того в бою подчас,/ Кто судьбу свою и счастье/ Испытал уже не раз...» Да и знаменитое лирическое отступление о том, «в какое время года/ Легче гибнуть на войне», говорит по сути о том же.
Значит, дело все-таки в том, чтобы противопоставить страху и ожиданию смерти что-то не вне себя, а в своей душе. В системе эмоционально-ценностных ориентаций поэмы Твардовского это «что-то — юмор. Чувство юмора заявлено в качестве обязательного компонента воинского духа уже на первой странице, подкреплено затем многими эпизодами, выражено озорной старой солдатской шуткой: «Мол, хотя и тяжело,» А между прочим, ничего. О юморе в «Василии Теркине* говорилось, конечно, неоднократно. Нам важен сейчас только один аспект: юмор, противостоящий смерти; и примеров мы приведем только два. Один — из главы «Теркин ранен»: ожидание смерти от неразорвавшегося в конце концов снаряда: «Всей спиной, всей кожей слышит, /Как снаряд в снегу шипит.../ Хвост овечий сердце бьется,/ Расстается с телом дух./ Что ж он, черт, лежит, не рвется,/ Ждать мне больше недосуг». И дальше: «Теркин встал, такой ли ухарь,/ Отряхнулся, сделал вид:/ — Хватит, хлопцы, землю нюхать,/ Не годится, — говорит./ Сам стоит с воронкой рядом/ И у хлопцев на виду,/ Обратись к тому снаряду,/ Справил малую нужду...»
Другой пример — «Бой в болоте», где мало того, что смерть грозит каждую минуту, но еще и «привходящие обстоятельства» самого паскудного свойства: «Вода была пехоте/ По колени, грязь по грудь», «Ни клочка родной газетки — /Козью ножку завернуть», и вообще — «Хуже нет уже беды». Не буду цитировать или пересказывать сюжет главки — всякий и так помнит, что и в этой ситуации Вася Теркин со своим юмором оказался на высоте.
До недавнего времени об этом как-то не принято было говорить, но все же Великая Отечественная война, как и ее предшественница — война 1812 года, была с нашей стороны войной преимущественно национальной. И не последнюю роль в победе сыграла естественно сложившаяся в русском народе особая система ценностей — простых, немногочисленных, укорененных в житейском и в то же время поднимающаяся до неподдельного пафюса. А об этом грядущим поколениям «Книга про бойца» расскажет, конечно, не меньше, чем строки учебников, потому что ее автор был велик — редкая судьба! — в ту меру, в которую был велик полвека назад русский народ.
Л-ра: Русская словесность. – 1995. – № 5. – С. 34-38.
Произведения
Критика