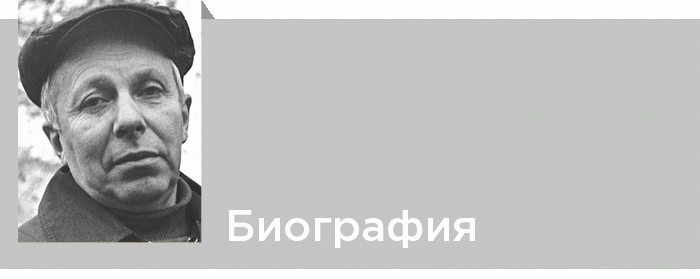Судьба и слово
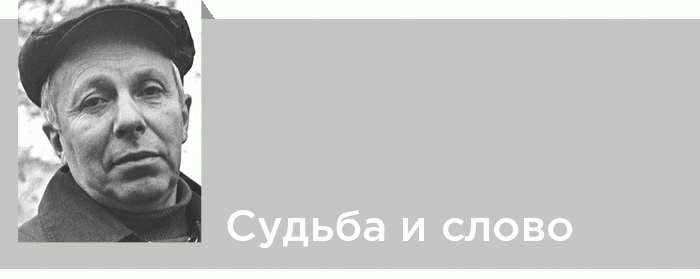
Приходько В.
Лирическая интонация — это лейтмотив судьбы. Есть у Александра Межирова стихотворение, написанное более двадцати пяти лет назад — в 1940 году. Стихотворение светлое, трепетное.
Тишайший снегопад —
Дверьми обидно хлопать.
Посередине дня
В столице, как в селе.
Тишайший снегопад,
Закутавшийся в хлопья,
В обувке пуховой
Проходит по земле.
В таком тихом ритме движется стихотворение. Движение замедлено, как падение снега в безветренную погоду. Снегопад вызывает тишайшую ассоциацию: он — кот в пуховых сапогах из детской сказки.
Тишайший снегопад незаметно вырастает в символ мироощущения. Его тишина — это тишина в сердце, где тает первый снег, эго уверенность в доброте мира, тихая сказка, сбывшаяся в заснеженном городе.
Есть у поэта еще одно недавнее, зрелое стихотворение о снеге. Это очень важное стихотворение, по которому названа книга стихов. В нем — тоже снегопад и тоже в столице. Возможно, тоже посередине дня. Но стихи не только непохожи, но и противоположны друг другу. Второе называется «Прощание со снегом». Прощание, а не встреча.
Москва от края и до края
Голым-гола, голым-гола.
Под шинами перегорая,
Снег истребляется дотла.
Стихи кончаются пессимистическим прогнозом. Он стилистически усилен повтором:
И сколько б ни валила с неба
На землю зимняя страда,
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.
Сколько боли, какая трагическая интонация! «Голым-гола, голым-гола»! Неужели дело в том, что в столице за последние годы прибавилось машин и они действительно ведут войну со снегом? Стоит ли горевать из-за этого?
Речь, конечно, идет о другом — невозвратимости собственного восприятия мира, той отроческой зимней сказки. Кот в пуховых сапогах превратился в промозглый дым. Угловатость дворовой геометрии, помноженная на угрюмый шум колес, победила. «В Москве не будет больше снега, не будет снега никогда».
Почему же навсегда ушла та зимняя сказка? Потому ли, что кончилась молодость? Или причина в другом?
Между двумя стихотворениями Межирова о снеге (не по оглавлениям его книг, а по внутренней связи) стоят все остальные стихи.
Между двумя стихотворениями о снеге стоит война.
В первой книге Межирова «Дорога далека» (1947) чувствовалась его неудовлетворенность, условно говоря, классическими, традиционными ямбами и хореями. Поэту казалось, что выразить войну, пережитую им, весь ее накал, ужас, горесть, наконец, счастье победы и мира невозможно, не сломав привычный стих. Слово кричало, выплескивалось из строки:
Страшный путь!
Ты в блокаду меня идешь,
Только небо с тобой,
над тобой высоко.
И нет на тебе
никаких одёж:
Гол,
как
сокол.
Но логика собственного характера неизбежно привела Александра Межирова к традиционности. Необходимость ломки стиха перестала представляться ему столь бесспорной. Его дыхание стало глубже. Он стал говорить более сдержанно, но не менее выразительно и страстно.
Дарование Межирова блистательно заявило о себе первой книгой: молодой, неровной, яркой. Казалось бы, путь был ясен. Действительно, в последующих сборниках уже не проскальзывали чужие интонации, голос окончательно окреп. Однако книги и разочаровывали: они дополняли первый сборник, но движения вперед в них почти не было.
Лишь в 1961 году вышло «Ветровое стекло», ознаменовавшее новый подъем в творчестве Межирова.
Промежуток между книгой «Дорога далека» и «Ветровым стеклом» сам поэт впоследствии определил жестоким, даже безжалостным словом — пустота... («Две книги у меня...»). Он обратился ко времени: «Ты слышишь, время, я тебя люблю, в твоем отрезке дважды я родился...»
Он сумел — хотя это было и нелегко — перевалить через рубеж времени. Его сильные и смелые стихи вызвали широкий отклик, прочный интерес и любовь у читателя шестидесятых годов.
Поэтическая картина этих лет была бы неполна без Межирова, а пожалуй, и непредставима без него. Важные темы, нити и сюжеты сходятся в его стихах. Его духовный мир чужд суеты, он никогда не делает ставку на сенсационность. Он чурается грубо сработанных фельетонов, щекочущих тем, что автор позволяет себе на миллиметр больше, чем это принято и привычно.
Стремясь запечатлеть побольше мира вовне, а не внутри, Межиров враждебно относится к губящей художественность иллюстративности.
Чтобы лучше понять это, предоставим слово ему самому. Вот отрывок из его рецензии на стихи другого поэта (речь идет о вещах из заграничного цикла):
«Высокое мастерство, с которым они написаны, сплошь и рядом напрасно, оно не может заменить внутреннего мира, нравственной трагедии — основ художественного произведения. Именно в таких стихах возникает старая болезнь готовой формы, — ощущение, что форму для той или иной строфы приготовили заранее, что она уже была». Как точно это сказано — «болезнь готовой формы»!
Воплощая свои художнические принципы, Межиров тоже не приемлет готовые формы, имеющие лишь внешние признаки традиционности и внешние признаки поэзии. Межирову претят безуспешные попытки заменить подлинность переживания искусством версификации. Подлинная традиционность, опыт классики не мешают, а помогают поэту.
После «Ветрового стекла» вышли книги Межирова «Прощание со снегом» и «Подкова». И над каждой из них витает эхо Великой Отечественной войны.
Наша разница в возрасте невелика. Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика — Я с тобой согласиться готов.
И жестокость наивной твоей правоты Я тебе не поставлю в вину, —
Потому что действительно старше, чем ты, На Отечественную войну,
Так размежевываются поколения по Межирову — воевавшее и не воевавшее! Размежевываются, чтобы начать разговор о главном.
Юность Межирова и его поколения смешалась с пламенем и пеплом, железом и кровью, вынесла войну на своей спине. С. Наровчатов, Б. Слуцкий, А. Межиров, С. Гудзенко, Е. Винокуров, С. Орлов и другие поэты сперва лично участвовали в войне, а потом уже рассказали — каждый о своем. Именно потому так достоверна их поэзия.
К одному из своих стихотворений Межиров поставил в качестве эпиграфа слова знаменитого русского писателя Андрея Платонова: «Без меня народ неполный». (Их произносит в рассказе «Жена машиниста» Петр Савельич, рабочий человек.)
«Без меня народ неполный» — слова огромной емкости, щедрой душевной отдачи. Это значит: я и народ — неразделимы, неотделимы. Неразделимость обоюдна. Верю, люблю — отношение к земле, к Родине. Верит, любит — отношение земли, Родины.
Родившись на ветру отступающих дорог, единство с миром было одновременно чувством себя, осознанием своей ответственности за судьбу событий:
Помню, как давал присягу
На синявинском снегу,
И, припав губами к стягу,
Ощутил, что все смогу.
Присяга на синявинском снегу была актом единения с народом. Солдат, лирический герой Межирова, почувствовал себя частью целого, а не песчинкой в мироздании. Без него народ неполный! «Был он тихий и слабый, но Москва без него ничего не смогла бы, не смогла б ничего» («Защитник Москвы»).
Из воспоминаний Межирова о войне выплывают годы единства и веры, мужества и борьбы. «Я жил собой и всеми вами жил», оплакивал погибших товарищей, падал под раскатами боя, снова вставал, снова шел в атаку, слушал солдатские песни. («А солдаты поют на нарах — зарыдаешь того гляди...»)
Единство с людьми было и единством людей — «мы ни о чем не спорили тогда, делили молча сухари и сало...».
«Все, что видел, чуял, слышал», лирический герой «коряво заносил в тетрадь». Поэзия наполняла верой в победу справедливости над несправедливостью. В снегу синявинских болот жила муза — «настоящая, живая». Она «в дни потерь, на горючем пепелище, пела чаще, чем теперь, вдохновеннее и чище».
В новых стихах Межирова о Родине слышится отплеск некрасовских интонаций:
«Вот путь. Всё подъемы. Подъемы и спуски. Развилина. Веха. Мощеный объезд. А то и проселок, протяжный по-русски, как песня, которая не надоест. Он хлещет наотмашь меня колеями, к подошвам моим пристает, бросается под ноги всеми полями и всеми лесами встает».
Вспоминая отважных десантников, вдыхая запах крестьянской печки где-то в средней полосе России, видя перед собой привычного к работе саратовского крестьянина, которого поэт называет своим любимым товарищем, слыша, как за тонкой стенкой таганрогской квартиры «покашливает Чехов», Межиров обращается к читателю, чтобы сказать важнейшее о себе самом: «Был русским плоть от плоти, по мыслям, по словам, когда стихи прочтете, понятней станет вам».
Любовь к Родине объяснена им в четырех аспектах: ностальгия («отовсюду к ней тянуться»); социальность («чтоб всем на ней живущим было жить привольно — не холодно, не голодно, не больно»): поэзия, чуждающаяся пустопорожнего разглагольствования: «чтоб не смутить риторикой потомка и современность выразить верней», и — наконец — война. Память об июне сорок первого позволила поэту, связав Прошлое и Будущее, утверждать, что любить Родину — значит в последний бой шагнуть, если потребуется это, как в то незабываемое лето, без разговора жертвуя собой.
Это — завершение разговора воевавшего поколения с невоевавшим.
Залог будущего обновления поэзии Межирова — во внутренней честности художника, в неустанных поисках максимальной пластики, в искренности и человечности.
Л-ра: Дон. – 1968. – № 1. – С. 178-180.
Произведения
Критика