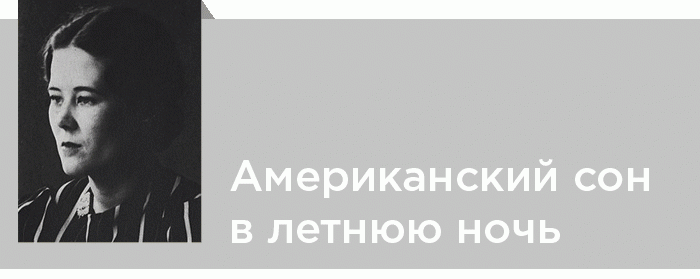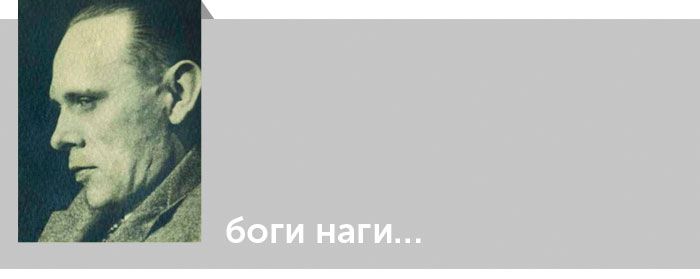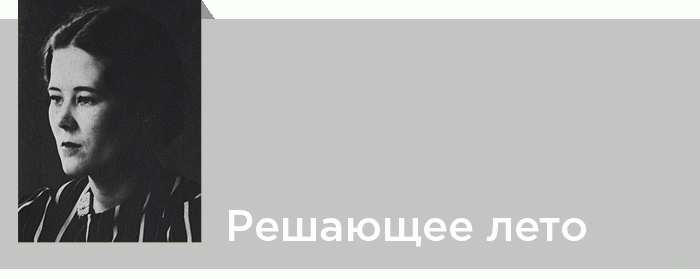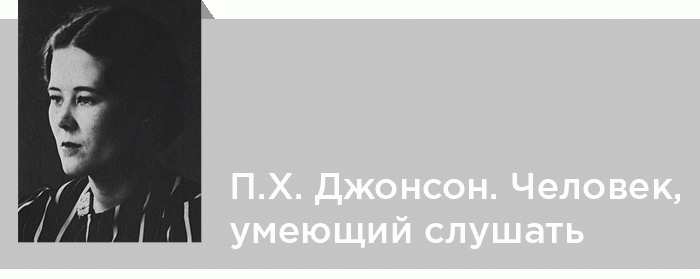Памела Хенсфорд Джонсон. Кристина
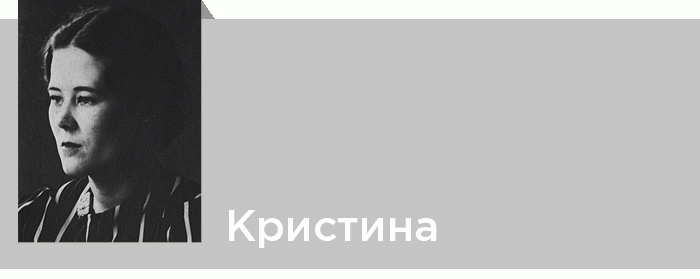
(Отрывок)
Я испытывал глубокую усталость, чувствуя, что все это долгое время не только было пережито, продумано, хранимо мною, но что оно было моей жизнью и мною самим и что я каждую минуту должен был держать его возле себя, что оно поддерживало меня и что я был на его головокружительной вершине и не мог двигаться, не передвигая его вместе с собой.
Тот день, когда я услышал, как прозвучал колокольчик в саду Комбре, такой далекий и в то же время близкий, был вехой в огромной величине времени, которое я не сумел сделать своим. У меня кружилась голова, когда я видел внизу и в то же время в себе самом все эти годы, словно находился на высоте в несколько миль.
Марсель Пруст
Перед дверью
Я решила не встречаться с Айрис Олбрайт после стольких лет разлуки.
Я не люблю оборачиваться назад и смотреть в пропасть прошлого, чтобы на одно головокружительное мгновение почувствовать страх, похожий на радость, или радость, напоминающую страх. Лучше смотреть прямо, в суровое лицо настоящего, ибо только оно реально: ведь действительность — это то, что перед нами, а прошлое полно обмана, и достоверны лишь те из наших воспоминаний, в которых мы сами не хотим себе признаться. Нет, мне не хотелось видеть Айрис. Наша дружба кончилась лет двадцать назад, и сейчас мы едва ли найдем, о чем говорить. Конечно, мне было бы интересно узнать, сохранила ли Айрис былую красоту, так ли молодо выглядит, как я; но интересно не настолько, чтобы я была готова вытерпеть целый вечер воспоминаний только для того, чтобы, возможно, удовлетворить свое тщеславие. К тому же Айрис очень недолго играла в моей жизни сколько-нибудь значительную роль, и память об этом давно потускнела и не задевала ничего в моей душе. Да и помнит ли она сама об этом? Нет, я не буду встречаться с Айрис; я твердо решила.
Но сделать это было нелегко. Айрис во что бы то ни стало хотела заставить меня прийти к ней теперь, когда она снова поселилась в Клэпеме. Она засыпала меня письмами и осаждала телефонными звонками. Неужели я не хочу вспомнить прошлое? Почему? А она так жаждет рассказать мне о своей жизни в Южной Америке, о замужестве, детях, смерти мужа. Разве меня это совсем не интересует? А ей очень хочется все узнать обо мне! («Как ты, маленькая Кристи?») Неужели я так занята, что не смогу уделить ей хотя бы полчасика? Почему бы не в эту среду? Или в среду на той неделе? Или в любой другой день? Она всегда дома.
Я чувствовала себя в положении злополучного стряпчего, которого осаждал приглашениями на чашку чая знаменитый Армстронг, отравитель из Хэя. Предупрежденный полицией, что его ждет участь погибнуть от бутерброда с отравленным паштетом, бедняга тем не менее мучается от сознания светского долга. Он знает, что, если Армстронга вовремя не арестуют, он пойдет к нему, съест бутерброд и умрет. Положение поистине трагическое для человека по натуре деликатного и мягкого.
Мое положение было в какой-то степени еще хуже, ибо я не могла надеяться, что Айрис Олбрайт арестуют, и понимала, что наступит наконец день, когда я должна буду или жестоко обидеть ее отказом, или отправиться в Клэпем. В конце концов я пошла в Клэпем.
Отчасти я даже была рада увидеть старые места. Я родилась по соседству с парком Клэпем-Коммон. Я помнила, как холодными зимними утрами пересекала его по дороге в школу, как пыльными летними синими сумерками бродила здесь в восторженном и пугающем одиночестве первой детской любви. Я видела поросший деревьями высокий островок посреди пруда и купающихся ребятишек, свободных и вольных, как дети древней Эллады; они бегали нагишом, пока совет графства не запретил купаться без купальных костюмов. Я видела, как наяву, большой пустырь на улице Порт-Сайд, юношей и девушек, усевшихся в кружок на складных стульях и играющих на гавайских гитарах; солнце, уходящее в пепельные сумерки, и молодой месяц, четко застывший в фиолетовом небе; поле за шоссе и низкие, поросшие боярышником холмы, где более искушенные парочки лежали в обнимку по вечерам.
Я не была здесь с самой войны.
И теперь в этот воскресный октябрьский день я вдруг увидела, как все здесь изменилось; мой прежний мир лежал в развалинах. Большой пустырь был поделен на участки; жалкие кочаны капусты увядали на сучковатых стеблях, сорная трава распласталась по неровной земле, словно мучимый жаждой путник, ползущий по пустыне к роднику. Там и сям стояли покосившиеся и покоробившиеся от солнца лачуги из жести; ряды высоких домов протянулись от Систерс-авеню до Седарс-роуд и напоминали печальных и неопрятных женщин, которым так все опостылело, что им не хочется ни подкрасить губы, ни сменить домашний халат на более приличное платье. И везде пестрели объявления о сдаче внаём. Все было здесь иным в дни моей юности.
Впечатление было настолько неожиданным и неправдоподобным после романтических воспоминаний детства, что я готова была не поверить ему. Я была подавлена, чувствовала себя здесь чужой и снова пожалела, что уступила назойливым уговорам Айрис.
Она жила на третьем этаже многоквартирного особняка из темно-красного кирпича с крышей, отдаленно напоминавшей крыши средневековых шато. На фоне светло-голубого неба влажно поблескивали, словно отлитые из пушечного металла, башенки, а в выложенных изразцами стенах отражались красные и белые огни проходящих мимо автобусов и автомобилей. Я вспомнила, что это всегда был оживленный перекресток, и очень пыльный — или, возможно, эта пыль существовала лишь в моих воспоминаниях. Я вошла в прохладный, выложенный изразцами вестибюль, напоминавший вход в городские бани, и в тусклых зеленоватых сумерках на доске со списком жильцов попыталась отыскать фамилию Айрис. Я тешила себя надеждой, что Айрис не окажется дома и я смогу повернуться и уйти.
Айрис Олбрайт. Теперь Айрис де Кастро. Нет, она была дома.
Поднявшись на площадку второго этажа, я услышала звуки граммофона, наигрывавшего мелодию двадцатилетней давности. Я остановилась — только у Айрис могла сохраниться такая пластинка; я даже подумала, не живет ли она в этой квартире. Все вдруг переместилось в пространстве и времени: я стояла, прислонившись к стене, слушала знакомую мелодию и видела лишь широкий подол моего розового вечернего платья. «Он» приближался ко мне по скользкому паркету, а я делала вид, будто не замечаю этого. Рядом стояла Айрис, тихонько подпевая музыке слабеньким, беспечным голоском. Я отчетливо видела каждую нить на подоле своего платья и внимательно изучала узор ткани.
«Потанцуем?» — сказал он, и я подняла глаза, но тут же услышала голос Айрис: «Нет, нет, я устала. Пригласите мою подругу».
«Я не танцую этот танец, — небрежно ответила я. — У меня спустилась петля на чулке». Казалось, он не слышал меня. Айрис, по обыкновению, слегка повела плечами, приподняв при этом правый уголок рта и опустив левое плечо. Она позволила «ему» обнять себя и стремительно унеслась в танце. И все же это не было ее победой, совсем нет.
Все снова переместилось — порыв холодного ветра перенес меня на темную площадку выложенного зелеными изразцами лестничного колодца. Я поднялась на третий этаж и очутилась перед дверью Айрис. Через лестничное окно у ограды парка я увидела юношу и девушку. Они смотрели друг на друга. Подошел автобус. Юноша поцеловал девушку и побежал к автобусу. Девушка махала ему вслед. Когда автобус скрылся из виду и осталось лишь легкое облачко пыли, оседавшей на листья платанов, девушка вернулась и печально села у ограды. Она машинально подняла руку и бессильно опустила ее; она казалась очень несчастной.
Я нажала кнопку звонка и услышала за дверью шаги Айрис. Между тем мгновением, когда раздался звонок, и тем, когда открылась дверь, лежала моя юность.
Часть первая
Глава I
Лесли больше не нравился мне, и от этого было немножко грустно. Мы сидели на берегу реки, и Лесли не подозревал, что у меня на душе. По обыкновению, он был настроен хвастливо — «бывалый» человек, которому есть что вспомнить.
— После этого Мэйбл уже не могла мне нравиться, — рассказывал он. — Я горжусь тем, что я человек широких взглядов, но это было уж слишком. Все, однако, теперь в прошлом.
Лесли было семнадцать лет.
День был весенне-веселый, небо в «барашках»; там и сям по его ярко-синей глади плыли пушистые как клок ваты облака; весенний ветер шумел листвой. На Лесли были входившие в моду широкие брюки какого-то пурпурного отлива.
— Есть стороны жизни, о которых, надеюсь, ты никогда не узнаешь, Кристина, — говорил он. На его изящный, несколько длинный нос упал солнечный зайчик. Он запутался в его густых рыжеватых волосах, и разогретый солнцем бриллиантин придал им зеленоватый оттенок.
— Моя маленькая Кристина, — произнес Лесли утробным голосом и обнял меня, но тут же, словно обжегшись, отдернул руку.
Я спросила, что случилось.
— Я понял, что не имею права касаться тебя, когда в голове подобные мысли.
— Какие мысли? — Но в сущности мне было безразлично. У меня разболелась голова, мне надоело в Ричмонде, хотелось сесть в автобус, поскорее добраться домой и тихонько, чтобы никто не слышал, пройти в свою комнату, где сейчас так прохладно и совсем темно. Придется написать Лесли письмо, ибо сказать ему у меня не хватит решимости.
— Вчера мне сообщили ужасную вещь. Я случайно встретил Дики Флинта.
При упоминании о Дики Лесли сделал какой-то замысловатый жест рукой. Затем он провел ладонью по глазам и произнес глухим басом:
— Ты знаешь, в Болхэме есть публичный дом!
Я была на полгода старше Лесли и прочла гораздо больше него. Я сказала, что не удивлюсь, если их там окажется несколько.
Лесли вскочил и, судорожно прижав руки к груди, шумно задышал. Он был небольшого роста.
— Да что с тобой?
Слышать подобные слова! Из этих нежных уст!.. Солнце освещало его профиль. Если бы немного укоротить Лесли нос и чуть удлинить подбородок, он, возможно, и был бы таким неотразимым, каким себя считал. Но даже такой, как есть, он был намного интересней кавалеров большинства моих подруг, и я была чрезвычайно польщена, когда на школьном балу он выбрал именно меня, ибо я была отнюдь не красавица и ужасно стыдилась своей плоской груди. Я позволила ему поцеловать себя в саду под навесом, а потом, словно во сне, мы танцевали на квадратной лужайке, освещенной фарами автомобилей. Мы были безумно влюблены друг в друга. К тому времени, когда моим друзьям наконец удалось убедить меня, что мать Лесли — ужасная женщина, а его все считают «тронутым», я уже привыкла к нему, да к тому же была слишком горда, чтобы тут же порвать с ним и этим доставить удовольствие своим подругам. Я верила, что Лесли со временем исправится и мне удастся вложить разум в его бедную голову. Он странный потому, утешала я себя, что главное в нем интеллект, — он всегда по воскресеньям носил с собой томик Ницше. Однако наш роман длился уже почти восемь месяцев, и теперь я сама убедилась, что Лесли безнадежен.
— О, не будь глупым, — сказала я.
Он промолчал и сделал обиженный вид, явно настраивая себя на ссору, которую тут же готов был закончить сентиментальным примирением. Я принялась собирать маргаритки, чтобы сплести венок. На зеленом подоле моего платья белоснежные маргаритки казались особенно красивыми. На мне были зеленые туфельки — это было так эффектно, что все девушки с завистью оглядывались на меня. А между тем туфли были парусиновые, и я просто выкрасила их зеленой краской. Я позаимствовала эту идею из «Маленьких женщин» и, по правде сказать, ужасно боялась, что кому-нибудь другому тоже придет в голову воспользоваться ею.
Потеряв надежду, что я заговорю первая, Лесли опустился передо мной на колено и положил мне руку на плечо. Он пристально посмотрел мне в лицо, отчего его глаза слегка закосили.
— Ты такая хрупкая, — сказал он снова утробным голосом, — такая чистая. Я не хочу, чтобы этот грязный мир коснулся тебя. Я не хочу думать о тебе… как о какой-нибудь Мэйбл.
— Да ты и не можешь. Ведь я же не коротконожка.
— Пфи! — воскликнул Лесли. Несомненно, это восклицание было позаимствовано из какого-либо великосветского романа; он с особой тщательностью воспроизвел его. — Крошка! — сказал он, и его нижняя губа слегка отвисла.
— Поедем домой. Ты не возражаешь? У меня разболелась голова, — сказала я.
— Ложись на траву, и я поглажу твою головку. Все сразу пройдет.
Но я заявила, что хочу домой; я даже втянула щеки, чтобы придать себе страдальческий вид. Лесли был явно огорчен. Наши последние субботние поездки в Ричмонд приходились на холодные и дождливые дни, и сейчас выдался первый погожий денек.
— Я хотел покатать тебя на лодке.
Мое желание немедленно вернуться домой возросло. Однажды я позволила Лесли покатать меня на лодке, и мне всегда было стыдно вспоминать об этом. С самого начала все пошло не так, как надо. Лесли никак не мог отчалить от пристани, и лодочнику пришлось отталкивать нас багром. Затем судорожными зигзагами он повел лодку вниз по течению, то и дело завязая веслами в воде и врезаясь в чужие лодки; нас все время ругали. Так продолжалось около часа. Когда же мы повернули обратно, я увидела, что мы идем против ветра и при тех устрашающих виражах, которые выделывал Лесли, едва ли сможем добраться до лодочной пристани засветло.
— Дай я сяду на весла! — умоляла я Лесли, но он лишь сердито таращил на меня глаза и отвечал, что не в его правилах так обходиться с дамами. Мы кружили по реке еще час, преследуемые насмешками катающихся, пока наконец мне пришло в голову спросить у Лесли, сидел ли он когда-нибудь на веслах.
— Раз или два, — ответил он, уже окончательно выбившись из сил — я боялась, что он вот-вот упадет замертво.
— Где?
— На пруду в парке Клэпем-Коммон.
Когда мы наконец добрались до пристани, было уже совсем темно. Лодочник, который ждал нас, чтобы подтянуть к причалу, был вне себя от ярости. Лесли чуть не плакал, а я по-настоящему глотала слезы.
— Не вздумай катать меня на лодке сегодня, — сказала я. — Моя голова просто не выдержит.
— Ну, что ж, — согласился Лесли, — тогда зайдем ко мне и выпьем чаю. Матер сегодня у тетушки. Мы будем совсем одни. — Он посмотрел на меня нежным и многозначительным взглядом. — Мои поцелуи излечат тебя, — шепнул он мне на ухо. От него пахло джемом.
Только потому, что я совсем уже разлюбила Лесли, я согласилась. Мне не хотелось огорчать Лесли больше, чем следовало. Он и без того был достаточно несчастен. Я уже начинала понимать, что если отказывать в любви не так мучительно и больно, как самой получать отказ, то в этом есть все же достаточно своего стыда и душевных терзаний.
— Хорошо, — согласилась я. — Я зайду, только ненадолго. И, пожалуйста, не надо никакой «любви». Просто будем добры и внимательны друг к другу.
В слово «любовь» мы не вкладывали того смысла, который, быть может, вкладывает молодежь теперь. В наше время, когда подростки говорили о любви, они имели в виду поцелуи или другие столь же невинные вольности.
— Я буду боготворить тебя издалека, — высокопарным тоном произнес Лесли и помог мне встать на ноги. Подобрав упавший с моих колен недоплетенный венок из маргариток, он выразительно посмотрел на меня и, прижав цветы к губам, сунул их через ворот под джемпер. Я с удовлетворением заметила, что он больше не носит белых с коричневым туфель, бывших ранее неотъемлемой частью его спортивного туалета. Я их раскритиковала и после длительного и упорного поединка с Лесли наконец заставила его отказаться от них.
Когда мы приблизились к домам на окраине Тутинг-Бэк-Коммон, где жил Лесли, дневной свет сменили теплые краски заката. Ветер утих. Кирпичные стены домов нежно алели под лучами заходящего солнца, а небо над крышами было чистым, как родниковая вода.
Дом, где жил Лесли, был четвертым в ряду таких же шестикомнатных особнячков, с зеленой калиткой и изгородью из желтой бирючины.
— Давай представим, что это наш с тобой дом, — сказал Лесли. «Чай вдвоем и двое к чаю»… — тихонько пропел он, вставляя ключ в замочную скважину.
Но, увы, он ошибся, когда думал, что его матери нет дома. Не успели мы войти в душную маленькую прихожую, как послышался грозный окрик:
— Где ты был, глупая скотина?
Лесли вздрогнул и остановился.
— Конечно, в Ричмонде, матер, — крикнул он тонким срывающимся голосом. — Я говорил тебе. Куда мы всегда ездим.
Тяжело ступая, к нам вышла его мать, тучная, с багровым лицом и сверкающими от гнева глазами. Она только что сделала новую шестимесячную завивку, и голова ее напоминала войлочный колпак.
— А, это ты, Кр-ристина. Если вы к чаю, то опоздали. Что же касается тебя, Лесли, то я, кажется, пр-росила тебя пр-ривезти арфу отца из магазина. Ты сделал это?
Отец Лесли был арфистом в оркестре кинотеатра. Очень скоро ему предстояло остаться без работы, ибо в лондонских кинотеатрах уже начали демонстрироваться звуковые фильмы. Это был тихий неприметный человек с кроткими черными глазами, как на портретах Мурильо, и рыжеватыми волосами, которые ложились сзади прилизанными блестящими прядями, напоминавшими ласточкин хвост.
— Его новую ар-рфу. Ту, что он купил на свою страховку, когда сломал ногу.
Она повернулась ко мне.
— Что ж, входи, р-раз зашла. Почему ты не вдолбишь этой глупой свинье, что он должен слушать мать?
— Я собирался пойти за арфой! — в отчаянии завопил Лесли. — Поэтому мы с Кристиной и вернулись пораньше домой. Я собирался.
Его мать тем временем оттеснила нас в крохотную гостиную, где едва хватило места для троих.
— Еще бы! Попр-робовал бы ты не пойти. Ведь отец-то лежит со сломанной ногой! Шляться — вот все, что у тебя на уме. И все же ты у меня еще сущий телок, хотя и увиваешься за взр-рослыми девицами, — добавила она тоном унизительной материнской жалости.
— О, ма! — воскликнул Лесли и бросился наверх в свою комнату.
Я слышала, как он громко хлопнул дверью. За время нашего знакомства вот уже второй раз, не выдержав насмешек матери, Лесли убегал в свою комнату, и я знала, что теперь он плачет.
Голова моя разболелась не на шутку. Мне бы надо было тут же уйти, но меня удерживало чувство долга по отношению к Лесли и желание хоть как-нибудь помочь ему; даже если бы я любила его, я и то не могла бы испытывать к нему большего сострадания, чем сейчас. Между тем его мать не собиралась отпускать меня. Нашелся даже чай, который не совсем остыл. Я нравилась ей, как нравились все молодые женщины: они, по ее мнению, были все слишком хороши для ее сына Лесли и поэтому обладали в ее глазах несомненными достоинствами. Она налила мне чашку чаю и принялась развлекать беседой, которая постепенно вылилась в перечень недостатков Лесли. Ее материнское недовольство уходило корнями еще в те далекие дни, когда Лесли был младенцем и после соски неизменно срыгивал. Шотландский акцент, с которым она обычно говорила, почти исчез, и я даже усомнилась, действительно ли она провела юность в Шотландии. Лесли не подавал признаков жизни, поэтому после получасового выслушивания малоинтересных для меня воспоминании я наконец сказала его матери, что меня ждут дома.
Едва я отошла от дома шагов на пять, как увидела Лесли. Он шел мне навстречу, толкая пород собой низенькую повозочку, на которой стояла большая позолоченная арфа. Высоко запрокинув голову, Лесли с беспечным видом громко насвистывал. Когда он подошел поближе, я увидела, что лицо его было все еще опухшим от слез, однако улыбка, которой он меня приветствовал, светилась безмятежностью. Он остановился и резко дернул повозочку к себе.
— Надеюсь, матер не слишком заговорила тебя. Она сегодня невозможна, правда? — Он посмотрел на арфу. — Решил все же привезти эту штуку для патера, чтобы не было разговоров.
Два мальчугана на противоположной стороне улицы, увидев Лесли с арфой, весело захихикали. Лесли покраснел.
— Действительно, эта штука хоть кому придаст дурацкий вид, если, конечно, обращать на это внимание.
— Ничуть, — сказала я.
— Достоинство или есть у человека, или его нет. Если оно есть, тогда ему плевать, что бы он ни делал. «Мораль господ, мораль рабов», — как сказал Ницше.
— Лесли, — сказала я, — когда твоя мать сердится, она говорит с сильным шотландским акцентом. Она действительно родилась в Шотландии?
— По чистой случайности нет, — ответил он, вскинув брови и с важным видом посмотрев на меня. — Она родилась в Бангее. Однако ее род берет начало от самих Стюартов, — добавил он, торжественно понизив голос.
— Сыграйте нам что-нибудь, маэстро! — пропел один из мальчуганов.
Лицо Лесли опять залилось краской.
— Пожалуй, отвезу эту проклятую штуку домой, а то матер совсем рассвирепеет. Никак не может забыть времена, когда у нас была прислуга.
Я проводила его до калитки. Лесли остановился и, подложив под колеса камень, закрепил тележку, чтобы она не катилась.
— Не повезло нам сегодня, малышка. Одним хорошим воспоминанием меньше.
— У нас будет следующая неделя, — сказала я в смятении, ибо твердо знала, что следующей недели не будет.
— Поцелуй меня.
— Только не на улице. Вдруг твоя мать…
— У матер доброе сердце. Если узнать ее поближе, она в сущности очень сентиментальна.
— Глупая свинья! — раздался окрик с крыльца. — Ты что же, хочешь, чтобы вся улица глазела на тебя, эдакий здор-ровенный балбес! Внеси ар-рфу в дом!
— Иду, — ответил Лесли.
Его мать скрылась в доме. Лесли посмотрел на меня; его бледно-голубые глаза умоляли не презирать его. Я обняла его за шею и крепко поцеловала, не обращая внимания на ехидное хихиканье мальчишек и на тележку с арфой, которая, соскочив с камня, откатилась в сторону и застряла в живой изгороди.
Лесли не сразу выпустил меня из своих объятий.
— Да, — сказал он важно, — ты способна быть преданной в любви. Ты из таких женщин.
Его мать забарабанила в окно, и я отправилась домой.
Глава II
Айрис Олбрайт следовало отнести к числу тех «лучших подруг», общества которых жадно ищут девушки неприметной наружности в порыве какого-то необъяснимого самоуничижения, кому не верят, кого ненавидят и кем все же непонятным образом дорожат. Она была неправдоподобно хороша собой; ей не пришлось пройти через период детской и отроческой угловатости, она всегда была восхитительно сложена и спокойно уверена в будущем. Айрис была тщеславной и жадной. Привыкнув к всеобщему восхищению, она не переносила, если хоть капля его перепадала кому-нибудь другому.
Наша дружба началась в первый год пребывания в школе. Это был также единственный год нашей совместной учебы. Я осталась в средней школе, потому что собиралась поступить на службу или, если у меня обнаружатся какие-нибудь необыкновенные способности, стать школьной учительницей. Айрис перешла в школу одаренных детей в Дулвиче, где скучные уроки занимали лишь первые часы, а все остальное время ученицы пели, декламировали, разыгрывали пантомимы или, одетые в пачки, разучивали па классических танцев.
Как все люди ее склада, Айрис жаждала поклонения в любом виде. Она хотела, чтобы младенцы улыбались ей, а собаки лизали ей руки. С двенадцати лет у нее начались невинные романы с мальчишками-школьниками, все еще бегавшими в коротеньких штанишках. Если не было мальчишек, она кокетничала со мной, прижималась к моей щеке своей душистой, пахнущей жимолостью щечкой и просила поклясться, что я никогда не променяю ее на другую подругу. По мере того как мы становились старше — теплыми летними вечерами мы уже прогуливались в парке с молодыми людьми, — мое рабское подчинение Айрис и страстное желание освободиться от нее возрастали в прямой пропорции друг к другу. Моим самым большим удовольствием было представлять себя у ее могилы горько скорбящей оттого, что такое нежное и очаровательное создание ушло из жизни так рано.
Она портила мне все. Если какой-нибудь молодой человек вдруг начинал проявлять ко мне хоть малейший интерес, она пускала в ход все свое обаяние, чтобы отвлечь его от меня. Мы обычно встречались с юношами, которые также дружили между собой, и один из них обязательно оказывался намного привлекательней другого. Айрис немедленно выбирала того, кто был красивее, уверяя меня, что второй подходит мне больше, ибо он так же умен, как я; она уже предвидит длительный, на всю жизнь, гармоничный союз между нами. Но если этот «умный» молодой человек примирялся с ролью некрасивого «лучшего друга», предназначенного развлекать некрасивую «лучшую подругу», и начинал оказывать мне знаки внимания, Айрис не успокаивалась до тех пор, пока не отнимала его у меня, в то же время не отпуская своего первоначального избранника. Если было два яблока для нас двоих, она считала вполне справедливым, чтобы оба достались ей.
И все же я по-своему была привязана к ней, хотя, кокетничая со мной, за неимением других жертв, она невольно заставляла меня играть роль мужчины и защитника.
Эта роль была совершенно чужда мне, и я сопротивлялась, как могла. Мне хотелось быть такой же женственной, как она, между тем иногда мне казалось, что я начинаю ходить вразвалку, как матрос.
Ее женская красота была так же совершенна, как красота нежнейшей розы в корзине, украшенной бантами. Она носила платья, отделанные воланами, рюшами и цветами, шляпки изысканнейших фасонов с небесно-голубыми развевающимися лентами. Однажды я купила себе ярко-зеленую шляпу очень дерзкого фасона, какую, мне казалось, Айрис никогда не наденет, и в ней пришла на наше свидание вчетвером.
— Ну разве не премиленькая цаца! — воскликнула Айрис, переходя на свой излюбленный детский жаргон. — Прелесть как идет тебе! Не правда ли, Роджер? Питер считает, что ты в ней просто м-мм, красотка!
Молодые люди неуверенно улыбались.
— Дай мне померить, Кристи! О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Один только разочек.
И, сорвав с меня шляпку, она подбежала к зеркалу и ловко надела ее. Глядя на свое отражение, она состроила гримаску.
— Нет, она мне не идет. Эта шляпка создана для Кристины. Я в ней чучело. Я в ней просто лошадь.
— Ты в ней прелестна, — хриплым голосом промолвил Роджер, и это было действительно так. У Роджера даже перехватило дыхание от восторга, но Айрис шутливо щелкнула его по носу.
— Неправда, ты прекрасно знаешь, что это неправда.
— Нет, правда.
— Ну тогда Питер подтвердит, что я похожа в ней на лошадь. Не так ли, Пити?
— Она тебе идет, — пробормотал Питер таким же срывающимся, как и у Роджера, голосом.
— Я не сомневалась, что Пити знает толк в лошадях. Нет, вернем-ка Кристине эту прелесть.
И, сняв шляпку, она небрежно нахлобучила ее мне на голову. Дрожащими пальцами я поправила шляпку. Я была уверена, что выгляжу в ней уродиной. Удовольствие было испорчено, и я больше никогда ее не надевала.
И все-таки… все-таки, как я уже сказала, я по-своему любила Айрис. Она поверяла мне свои тайны, нашептывая их мне на ухо и в это же время сводя мальчишек с ума взглядом своих светло-серых, широко открытых глаз. Когда она бывала простужена и лежала в постели, она требовала, чтобы я сидела около нее и гладила ей руки или лоб.
Она часто говорила:
— Другой такой нет на свете, Кристи. Никто так не понимает меня, как ты. Знай, что в моем сердце ты занимаешь самое первое место.
Но когда я всего лишь чуточку влюбилась в растяпу Питера, она тут же оставила Роджера и сделала все, чтобы не дать мне возможности насладиться тем, что могло быть лишь ее правом. Она сделала меня глубоко несчастной, и когда я мысленно снова увидела себя у ее могилы, я с недобрым смехом произнесла: «Прах к праху».
Лесли был единственным, кого ей не удалось обольстить. Для него с самого начала существовала одна я. На какие только уловки не пускалась Айрис! Она кокетливо дразнила его, дергала за галстук и умоляла дать на память хоть крохотный лоскутик от него; она пыталась тронуть его тем, что, отвернувшись, громко и жалобно вздыхала; она пускалась даже на прямой обман — делала вид, что вывихнула ногу, и просила его помассировать ей лодыжку. Но он был слеп и глух. В минуты горьких раздумий я склонна была объяснять это тем, что он просто тронутый, ибо какой нормальный человек может предпочесть меня красавице Айрис!
И все же упрямая ребяческая любовь Лесли явилась важным поворотным моментом моей юности; она помогла мне разбить цепи рабского подчинения красивой подруге. Теперь, когда меня любили, я старалась выглядеть более привлекательной. Я преисполнилась веры в себя, начала покупать себе платья более мягких и светлых тонов, не боясь казаться в них смешной. Моя походка была снова естественной, я стала лучше танцевать. Я все реже и реже теперь встречалась с Айрис. Да и она не стремилась к этому, ибо ее поклонники, убедившись, что кто-то (пусть всего лишь бедняга Лесли) способен смотреть на меня с неизменным восторгом, стали обращать на меня больше внимания. Айрис сочла неосторожным подвергать их такому искусу.
В тот вечер, когда я рассталась с Лесли и его арфой, у крыльца своего дома я встретила Айрис. Мы не виделись с ней почти месяц. Она приветствовала меня одним из своих щедрых влажных поцелуев, запечатлев его где-то у меня на скуле.
— Препротивное черствое создание! Я вполне могла бы подумать, что тебя уже нет в живых. Поэтому решила зайти и во что бы то ни стало вытащить тебя на свет божий.
В голубом платье, казавшемся нежно-сиреневым от теплых лучей заходящего солнца, она была так хороша, что прохожие замедляли шаги, любуясь ею. Чувствуя на себе восхищенные взгляды, она театральным жестом протянула мне руку, отчего бесчисленные розовые и голубые подвески на ее модных браслетах легонько зазвенели.
— Тинь-тинь-тинь! Тебе нравятся мои браслеты или я похожа на рождественскую елку? Милочка, я стучусь в дверь бог знает сколько, но никто не отвечает.
Я подумала, что отец и тетя Эмили, должно быть, ушли в кино. В сущности Эмили не была мне теткой; она была второй женой моего отца, но решила, что так мне удобней называть ее.
— Очевидно, никого нет дома, — сказала я.
— О, полно! — воскликнула Айрис. — Я знаю, твоя тетя Э. просто недолюбливает меня. Для нее я легкомысленная хористочка.
В действительности тетя Эмили была совершенно равнодушна к Айрис. Она вообще не способна была думать ни о ком другом, кроме моего отца, которого любила рабской, преданной, самозабвенной любовью. Она была подругой моей матери и считала себя безнадежной старой девой. То обстоятельство, что мой отец вдруг женился на ней (пусть всего лишь для того, чтобы сохранить привычный распорядок жизни и снять с себя заботы обо мне), было и, очевидно, навсегда осталось для нее необъяснимым чудом. Отец был достаточно привязан к ней и ко мне, он был добр, хотя умел брать, ничего не давая взамен. Но брал он так милостиво, что его простая доброжелательность уже казалась щедрой наградой. Он был государственным чиновником в отставке. Свою пенсию он пополнял тем, что сдавал внаем два верхних этажа нашего большого викторианского особняка на самой окраине Коммона в округе Клэпем, отделенном от Баттерси лишь проезжей частью улицы. Когда мой дед купил этот дом в 1886 году, в нашем квартале любили селиться люди в той или иной степени связанные с театром. В те времена южная сторона Баттерси-райз представляла собой открытый выгон с редкими кустами боярышника, где мирно паслись овцы. Дед купил дом главным образом из-за вида, открывавшегося из его окон. Но в течение десяти лет этот вид постепенно исчез за нежданной порослью лавок и недорогих домов, принадлежащих людям среднего достатка, а еще через десять лет дома протянулись через землю особняка и пустырь к самому берегу реки. Мой дед, который в течение двадцати лет был первой скрипкой в оркестре Королевского театра, никогда не падал духом и до конца своей жизни держал дом на такую же широкую ногу и в том же стиле артистической богемы, как и в дни своего благополучия. Лишь во время своей последней и роковой для него болезни он сказал моему отцу:
— Когда я умру, можешь сдавать верхние этажи. Но только когда я умру.
И хотя отец, тетя Эмили и я занимали теперь лишь первый этаж и полуподвал, дом продолжал хранить остатки былого великолепия: на выцветших моррисовских обоях все еще были видны павлины и сверкающие золотом Данаи; в гостиной висела люстра с недостающими тремя подвесками, некогда участвовавшая в качестве декорации в постановках сэра Герберта Три; в столовой стоял массивный эпохи позднего Регентства буфет красного дерева, украшенный резной гирляндой: пятна на обоях и потрескавшуюся штукатурку в холле верхнего этажа прикрывали черные потускневшие какемоно, память о гастролях в Сан-Франциско. На моих друзей наш дом неизменно производил впечатление и в то же время раздражал. Люди, попавшие в стесненные обстоятельства, но все еще цепляющиеся за остатки былого великолепия, едва ли могут рассчитывать на понимание. Поэтому, хотя мы были бедны, я считала необходимым делать вид, что не дорожу тем, что имею.
— Ну что ж, заходи в наш барак, — небрежно сказала я, впуская Айрис. — Выпьем чаю. — Я провела ее в дом через дверь, ведшую в полуподвал, и не преминула посетовать на то, что дом слишком велик, чтобы быть уютным.
— Однако, милочка, в нем хоть дышать можно, — возразила Айрис. — Когда я возвращаюсь из театра домой, мне кажется, что меня втиснули в шкатулку, обитую плюшем. — Айрис недавно начала работать хористкой в театре Музыкальной комедии в Винтер-Гарденс.
Приняв загадочный вид, она вдруг спросила, как я думаю, почему она проделала весь этот путь из Уинчестер-Гарденс, чтобы повидать эдакую старую ворчунью, как я. Разве я заслужила тот приятный сюрприз, который она собирается мне сделать, если только я буду себя хорошо вести? Право, я совсем не стою своих добрых и верных друзей, которые из кожи лезут, чтобы сделать мне приятное.
Выяснилось, что она хочет вместе со мной, со своим новым кавалером и его закадычным другом пойти в Хэммерсмит на танцы.
— Виктор говорит, что Кейт просто прелесть, и он чуть с ума не сошел от радости, когда узнал, что его познакомят с шикарной партнершей. То есть с тобой.
«Свидание за глаза», приглашение от неизвестного партнера было новым модным увлечением молодежи, только что завезенным в Европу из Америки. Мне еще никогда не приходилось знакомиться подобным образом, да и особенно не хотелось. (Я была довольно консервативна в своих взглядах.) Но Айрис была упряма и при первых же признаках моего сопротивления начала уговаривать меня, пустив в ход знакомые обезоруживающие и бесившие меня уловки.
— Виктор прекрасно разбирается в людях, и, если он хвалит Кейта, ты можешь на него положиться. Неужели ты лишишь меня даже этого совсем крохотного удовольствия и скажешь «нет»?
Я думаю, что сказала бы «нет», несмотря ни на что, если бы она вдруг не добавила:
— Надеюсь, твой Лесли проживет без тебя один вечерок.
Это заставило меня вспомнить, что я должна освободиться от Лесли, освободиться ради самой себя; я должна наконец сделать выбор, избавиться от постоянного раздражения, жалости и необходимости скрывать свои подлинные чувства. Новая свобода, приключение, которое ждет меня (ну и что же, если его даже не будет?), — все это показалось мне вдруг заманчивым и прежде всего как возможность тайно отпраздновать свое освобождение от Лесли.
— Хорошо, — согласилась я. — Когда?
— Вот и прекрасно! — воскликнула Айрис. — Я так и знала, что ты согласишься. Я знала, что ты не захочешь подвести меня и сделать совсем-совсем несчастной. — Довольная, она принялась обсуждать, что нам одеть. Я же думала, согласится ли отец купить мне новое платье. Сама я себе еще ничего не могла купить, ибо, окончив школу, теперь училась в коммерческом колледже для девушек. Взяв один из модных журналов (которые тетя Эмили жадно прочитывала, хотя никогда не следовала их советам), Айрис принялась изучать фасоны вечерних туалетов. Вскоре, однако, ее внимание привлек ненормально пухлый младенец, огромными неподвижными глазами глядевший в нежно склоненное к нему лицо позирующей красавицы, которая никак не могла быть его матерью.
— Вот о чем я мечтаю! — горячо воскликнула Айрис. — Но никто этого не понимает. Я не хочу быть актрисой. Я хочу выйти замуж и иметь много-много милых славных карапузов, таких вот, как этот, но только моих собственных. Я хочу, чтобы у меня их было четверо, нет, пятеро. Да-да, хочу, не смотри на меня так скептически.
Прошло немало лет, прежде чем я поняла, что Айрис была вполне искренна. Уверенная в своей красоте, она самым жалким образом не верила в свой сценический талант, бесцеремонно подталкиваемая своей тщеславной матерью к цели, которой, она боялась, ей не достичь никогда. («В один прекрасный день твое имя, Айрис, будет сверкать огнями реклам».) Несмотря на постоянную погоню за скальпами поклонников, чем она окончательно оттолкнула от себя всех своих подруг, Айрис по натуре была человеком без страстей; самым искренним ее чувством был инстинкт материнства, и она постоянно боялась, что не сможет удовлетворить его. («Если хочешь сохранить фигуру, Айрис, нельзя рано выходить замуж. Это всегда успеешь сделать»). Когда Айрис останавливалась на улице, чтобы полюбоваться каким-нибудь младенцем в колясочке, и склонялась над ним с изяществом позирующей перед фотоаппаратом актрисы, в такие моменты она бывала как никогда искренной.
Но в то время, не зная всего этого, я ничего не ответила ей на ее неожиданное признание и стала расспрашивать о предстоящих танцах. Это был один из ежегодных балов, устраиваемых спортивным клубом ее приятеля Виктора. Состоится он в субботу на будущей неделе. Мы должны сами добраться до станции метрополитена в Хэммерсмите, где молодые люди будут ждать нас в такси.
— О! — запротестовала я. — Терпеть не могу такие свидания, когда бальные туфли приходится таскать с собой в сумке. Это ужасно.
— Что ж, — разумно заметила Айрис (иногда она бывала гораздо менее тщеславной и более разумной, чем я), — придется немного подождать, пока и у нас появятся кавалеры с собственными машинами.
— У тебя они иногда появляются.
— Ах, эти завсегдатаи театральных кулис, как по старинке называет их моя мама. В сущности у них редко бывают серьезные намерения.
— А у твоего Виктора?
— Пока да, — ответила она со странным подергиванием щек (это был один из ее наиболее неудачных приемов вызвать ямочки на щеках). — Знаешь, у него такие красивые карие глаза, что иногда я просто теряю голову… Я не верю, что ты способна потерять голову, Кристи.
Я подумала, что, увы, это случалось со мной гораздо чаще, чем Айрис может предполагать: просто я старалась не показывать ей этого из страха, что она снова захочет лишить меня моих маленьких радостей и побед.
— На твоем месте я не говорила бы Лесли, что ты идешь на танцы, — сказала она. И добавила, употребив одно из своих излюбленных нелепых словечек: — Он не поймет и будет только бякой.
Глава III
Мелкие подлости, совершаемые нами, больше всего способны преследовать нас хотя бы уже потому, что мы осмеливаемся вытаскивать их на свет и пристально разглядывать. Тогда как лишь немногие из нас так смелы или так безрассудны, что не стараются похоронить в своей памяти тяжкие проступки, которые совершили по отношению к самим себе или к близким нам людям. Мелкие подлости кажутся нам вполне безобидными, пока, свернувшись в клубочек, они лежат на дне ящика Пандоры, именуемого нашим прошлым. Но стоит нам, обманутым этой безобидностью, извлечь их на свет божий, как они вонзают в нас свои ядовитые когти.
Мне до сих пор неприятно вспоминать о том, как я поступила с Лесли.
Мой первоначальный замысел, зародившийся под впечатлением последних слов Айрис, был сам по себе достаточно неблагороден. Я решила не следовать ее совету и все-таки рассказать Лесли о предстоящем свидании с неизвестным молодым человеком, а затем воспользоваться ссорой, которую Лесли непременно затеет, и порвать с ним. Но в конце концов я поступила еще хуже.
Мэйбл, о которой Лесли в столь загадочно зловещих выражениях говорил мне на берегу реки, как можно было догадаться, не была ни Мессалиной, ни Таис. Это была довольно тщедушная девица небольшого роста, с ничего не выражающим взглядом красивых зеленых глаз, гулявшая с Лесли прошлым летом по парку Коммон. Она работала машинисткой на соседней фабрике, была на пять лет старше Лесли и считалась в какой-то степени любимицей его матери. Мать Лесли питала слабость ко всем, кто боялся ее, а Мэйбл буквально трепетала перед ней и в ее присутствии открывала рот лишь для того, чтобы едва слышным шепотом сбивчиво и неуверенно выразить ей свое восхищение. Мэйбл и Лесли великолепно танцевали и дважды получали призы за исполнение блюзов на конкурсах танцев в зале «Розовый бутон» в Брикстоне.
Причиной, почему в воображении Лесли личность Мэйбл была окутана ореолом заманчивой порочности, послужил тот факт, что восемнадцати лет она вышла замуж за сорокапятилетнего мастера с фабрики, а затем, узнав, что он уже женат, сбежала от него. Говоря о ней, Лесли испуганным шепотом произносил слово «разведена», воображая, что я не знаю всей этой истории. Он даже намекнул, что для утешения она завела себе любовников, но его мать тут же высмеяла его.
— Бедняжка чер-ресчур-р р-робка для этого. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. К тому же она далеко не Венер-ра Милосская.
Мне хорошо было известно, что роман с Мэйбл кончился незадолго до того, как Лесли начал ухаживать за мной, и я знала, что, несмотря на то что он гордился флиртом с женщиной старше его («женщиной с опытом», как многозначительно говорил он, кося глазами), он давно утратил к Мэйбл всякий интерес. Они виделись теперь лишь в тех редких случаях, когда в «Розовом бутоне» устраивались конкурсы танцев, и Мэйбл по-прежнему бывала его партнершей. Один из таких конкурсов должен был состояться в понедельник, неделю спустя после моей встречи с Айрис.
Субботу мы с Лесли провели вместе. К счастью, шел дождь, и мы ограничились тем, что пошли в кино. Я старалась быть по-прежнему приветливой, хотя Лесли казался мне чужим и был уже отгорожен от меня стеклянным барьером: это был кто-то, кого я едва знаю и до кого мне нет дела.
В понедельник мы отправились на танцы. На эти маленькие танцевальные вечера мы ходили под надежным эскортом — нас всегда сопровождала мать Лесли, одетая в какое-нибудь необыкновенное, сшитое специально для этой цели платье. Она была профессиональной портнихой и умела экономить на материале заказчиц ровно столько, сколько нужно, чтобы сшить новую блузку или сделать отделку к платью. У матери Лесли был врожденный талант к танцам, хотя Лесли очень неохотно признавал это, и, если бы он потрудился обучить ее нескольким новым па, она превзошла бы в этом искусстве любую из девиц, посещавших танцзал. Однако ей приходилось довольствоваться уан-степом и «старомодными» вальсами, на которые ее неизменно приглашал распорядитель и владелец танцзала, лощёный, плотный, улыбающийся, но раздражительный маленький человечек, по имени Уилкиншоу. Мэйбл потом долго, и не скупясь, бранила Лесли за то, что он не поощряет в матери ее необыкновенных способностей, и одергивала его, если он гневно таращил на мать глаза, когда та вдруг изъявляла желание танцевать вместе со всеми «Поля Джонса».
— Я знаю, что делаю, — величественно говорил он, но так, чтобы его мать не слышала. — Для такой женщины, как матер, с ее врожденным чувством собственного достоинства, это неприлично.
Танцзал «Розовый бутон» был сооружен на пустыре за рядами небольших домов. Вход в него был через один из особняков, а гардеробная помещалась в бывшей кухне. Зал и сам дом принадлежали мистеру Уилкиншоу, и в течение нескольких лет он сумел добиться неплохого коммерческого успеха своего предприятия. Он тратился всего лишь на небольшой оркестр из трех инструментов, между тем как получал проценты с дохода от ближайшего кафе, куда в перерывах между танцами молодежь забегала освежиться прохладительными напитками.
Зал был довольно неприглядный и мрачный, и нескольким бумажным гирляндам не удавалось придать ему праздничный вид. Однако пол в нем был превосходно натерт, и не одна пара, мечтающая о профессиональной карьере бальных танцоров, проходила здесь первую серьезную практику. В те дни, когда я еще была влюблена в Лесли, этот зал был полон для меня очарования «Тысячи и одной ночи», а прозаическая пыль, лежавшая там на подоконниках и перекладинах стульев, казалась мне золотой россыпью. Теперь же, когда пришел конец иллюзиям, я видела все в ином свете. Я словно бы заглянула в стеклянный шар гадалки и увидела в нем свою судьбу; я поняла, что должна вырваться из мира Лесли, Мэйбл и мистера Уилкиншоу и уйти далеко-далеко вперед. Душой я уже покинула его. Сознание этого делало меня несколько надменной, и вместе с тем меня мучила совесть.
Мэйбл, сидевшая рядом со мной, робко и застенчиво косила глаза то на меня, то на мать Лесли. Был перерыв перед началом конкурса, и Лесли ушел, чтобы торжественно переобуться в туфли, купленные специально для этого события.
— Вы обе такие шикарные сегодня. Ах, если бы у меня был ваш вкус, — воскликнула Мэйбл.
— Девушки вр-роде тебя не должны носить кр-рас-ный цвет, — заметила мать Лесли. — Любой цвет, только не кр-расный. В нем у тебя изможденный вид.
— Лесли тоже сказал мне это.
— Хор-рошенький комплимент от этого дур-ралея. А самого то и дело пр-риходится учить, как одеваться.
Легко скользя по паркету, вернулся Лесли, самодовольный и несколько робеющий от всеобщего внимания. Он уже чувствовал себя победителем.
— Трусишь, а, Мэйбл? Хочешь, мы победим?
— Я чувствовала бы себя лучше, если бы мы хоть немножко потренировались, — ответила она, глядя на свои короткие, широкие в ступне, но ловкие ноги. — Другие-то тренировались. Вчера, когда мы репетировали, у меня просто поджилки тряслись.
— И все же ты танцевала хорошо, — успокоил ее Лесли. — Положись на меня и помни — легче, легче.
На середину зала вышел мистер Уилкиншоу и под барабанную дробь поднял руку. Конкурс начался. Лесли поклонился Мэйбл, она встала с деревянной скованностью новичка, но как только ее рука легла ему на плечо, на лице ее появилось равнодушное выражение танцора профессионала.
Пока они танцевали, пока их объявляли победителями, аплодировали и поздравляли, а миссис Уилкиншоу, не раз побеждавшая на любительских танцевальных конкурсах страны, вручала им диплом, я обдумывала свой жалкий план бегства.
Как всегда, после танцев Лесли пошел меня провожать. Напутствуемые сварливыми замечаниями его матери — он не должен возвращаться слишком поздно, не должен забыть надеть завтра чистые носки и пусть не рассчитывает, что она будет двадцать раз будить его к завтраку, — мы наконец направились к трамвайной остановке. Я предложила Лесли последнюю часть пути пройти пешком. Я была неразговорчива, и это беспокоило его.
Мы шли через парк. Моросил мелкий, как пыль, дождичек, и редкие фонари вдоль дорожек казались сердцевинками больших радужных лунных шаров, состоящих из тумана и газового света. Наконец небрежным тоном я сказала:
— Итак, ты снова видишься с Мэйбл.
— Вижусь с Мэйбл? Ну, конечно, я виделся с ней сегодня.
— А вчера?
Он помолчал, затем сказал:
— Я зашел к ней, чтобы немного попрактиковаться перед конкурсом.
— Ты мне ничего не сказал об этом.
— Когда же я мог? Мы почти не были с тобой одни…
— Мы с тобой танцевали.
— К тому же я не придал этому никакого значения. Мэйбл для меня лишь партнерша по танцам.
Я попросила его не лгать. Я знаю, что он к ней вернулся — тот факт, что он скрыл от меня, что был у нее в воскресенье, убеждает меня в этом. Я не собираюсь им мешать, он может оставаться со своей Мэйбл, но между нами теперь все кончено.
— Глупышка, — сказал Лесли глухим от испуга и нежности голосом. Он остановился и попытался меня обнять.
Я вырвалась и пошла вперед. Я знала, что поступаю нехорошо, и мне было стыдно. Однако стыд заглушало чувство странной гордости; я гордилась тем, что нашла в себе силы пойти против собственной совести и победила ее. Жажда свободы была похожа на яростный, почти физический натиск изнутри; я чувствовала, как конвульсивно сжимаются то сердце, то горло. Мне трудно было дышать. Я распалялась все больше и больше. Я говорила, что не переношу лжи и притворства, ненавижу неискренность. Я знаю, что они любят друг друга, и пусть любят, я не буду им мешать.
— Ты сошла с ума, ты сошла с ума! — воскликнул Лесли. Теперь он силой остановил меня под фонарем. Я видела сверкающую, как сахарная пудра, дождевую пыль на его волосах, лбу и переносице длинного носа. Взгляд его широко открытых глаз казался потерянным, длинные слипшиеся от дождя ресницы торчали, словно иглы. И вдруг с его губ слетели роковые слова.
— Я не виноват, что она в меня влюблена. При чем здесь я?
Это самодовольство, заглушить которое не в силах была даже инстинктивная осторожность в минуты опасности (я хорошо знала, что Мэйбл не была в него влюблена), помогло мне расправиться с последними угрызениями совести. Я заявила, что нет смысла говорить теперь об этом. Отношения наши испорчены; я давно это поняла, понимал и он.
Есть ли на свете люди более бессердечные и более лишенные воображения, чем разлюбившие юноша или девушка? Потом, много лет спустя, когда я сама оказалась в роли покинутой, мне пришлось вспомнить, как я поступила с Лесли, и я испытала мучительную жалость к нему и отвращение к себе. Но сейчас непреодолимое желание быть свободной придало мне решимости. Я попросила Лесли не провожать меня. Я сама доберусь домой.
— Тебе нельзя идти одной через парк в такое позднее время. Здесь много всяких подозрительных личностей!
— И все же я рискну, — ответила я и вдруг бросилась бежать.
Мелкий дождик внезапно перешел в ливень. Вместо того чтобы бежать по аллее, я свернула напрямик через пустырь, где было совершенно темно, так что единственным ориентиром мне служили далекие огни фонарей на Вест-Сайд.
Лесли потерял меня из виду. Я слышала его испуганный и отчаянный крик:
— Кристи! Не глупи, вернись! Что скажет твой отец!.. — Звук, словно след, протянулся через вертикальные струи дождя, далекий и слабый, тут же поглощенный временем; слышен был лишь плеск воды, шорох ночи и ропот деревьев под беспощадными потоками.
От влажной травы чулки и подол платья стали мокрыми; пропитавшиеся водой туфли громко хлюпали. Но мне было хорошо. Прохлада и темнота казались необыкновенными и чудесными. Наконец-то я была свободна, свободна, как воздух. Мне казалось, что я бегу босиком по берегу неведомого моря на самом краю земли, где никто не знает меня и я не знаю никого. Ибо в короткие минуты, проведенные мною на большом пустыре, никто, ни одна душа на свете, не знала, где я. Потом много раз в жизни я испытывала чувство полной свободы. Помню, как однажды, после пережитых испытаний и горя, случайно очутившись на Грейс-Инн-роуд, я шла и думала: «Никому меня не найти здесь. Никто не может написать мне, позвонить по телефону или просто догадаться, где я».
На этой лондонской улице, менее чем в двух милях от своего дома, я была так же далеко от всех, как если бы очутилась в пустыне Азии. И при мысли об этом сковывавшие меня цепи упали, и я почувствовала облегчение и радость человека, поднявшегося с постели после долгой, изнурительной болезни и обнаружившего вдруг, что руки и ноги вновь ему послушны, что он снова хозяин собственного тела, снова здоров.
И все же, мне кажется, чувство, с такой силой охватившее меня в ту ненастную дождливую ночь на восемнадцатом году моей жизни, было чем-то большим, чем простая радость освобождения. Это было еще и сознание того, что я нашла в себе силы отвергнуть ненастоящее и мне теперь не надо принимать с благодарностью лишь то, что мне дают. Позднее в жизни я так настойчиво хотела любви, что готова была бороться за нее со всей одержимостью, когда без сожалений выбрасывают за борт гордость, как пустое ребячество и пережиток; и тогда меня утешала мысль, что и я когда-то сделала свой выбор и что если сейчас мне отказывают в любви, то я должна принять это как жестокую справедливость судьбы. Но это уже совсем другая история и отнюдь не та, о которой мне хотелось бы вспоминать. Как я уже сказала, нас больше всего мучают наши мелкие проступки, потому что мы достаточно благоразумны, чтобы держать память о больших под замком.
Произведения
Критика