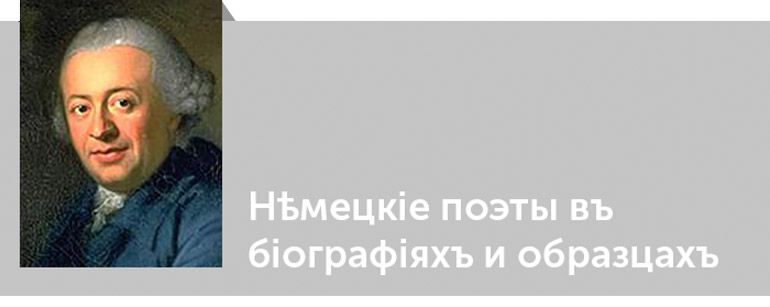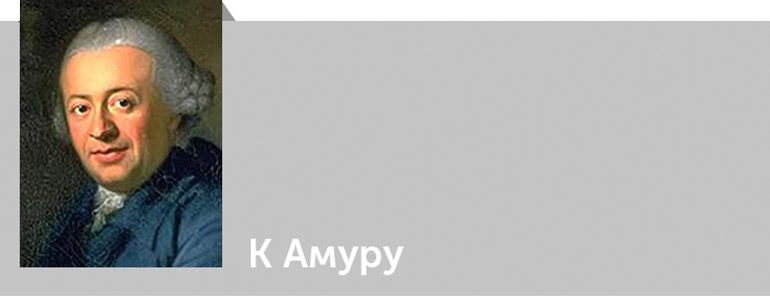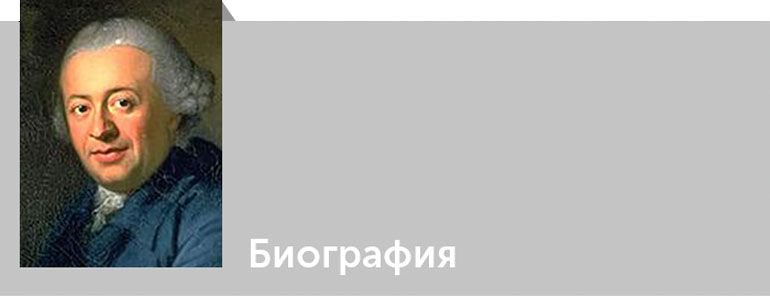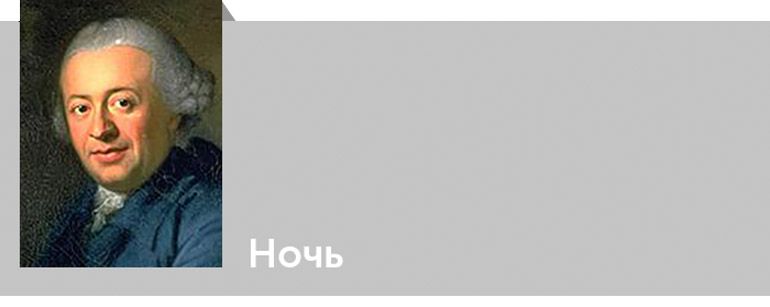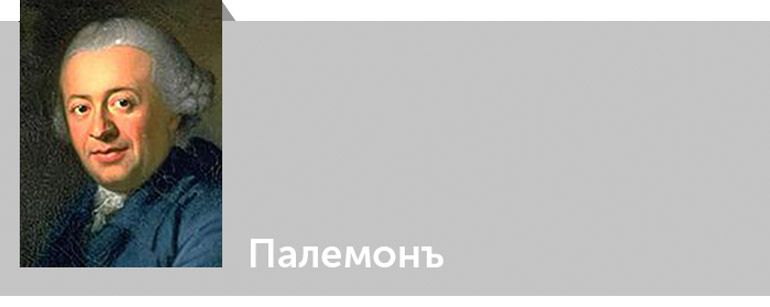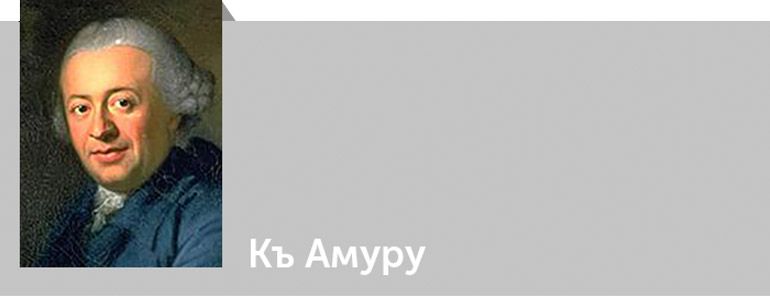Разновидности идиллии в творчестве Карамзина
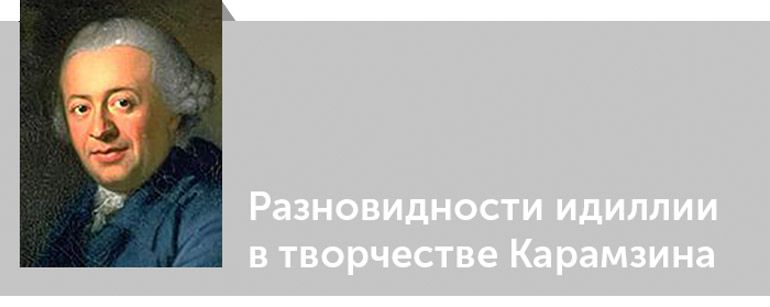
А. Кросс
В 1783 г. впервые была опубликована в русском переводе идиллия Соломона Геснера «Das hölzerne Bein».1 С точки зрения истории русского «геснеризма» этой публикации можно было бы не придавать особого значения, не будь она первым печатным трудом Н. М. Карамзина, в то время шестнадцатилетнего сержанта гвардейского Преображенского полка.
Интерес к Геснеру в России возник десятилетием раньше, когда переводы пяти его идиллий были напечатаны в «Вечерах»,2 журнале, издаваемом кружком М. М. Хераскова. И сам характер материала «Вечеров» — пристрастие к пасторальной тематике (стихотворные и прозаические идиллии и эклоги), переводы из Шекспира и Юнга, — и идеологические установки программных статей журнала не только свидетельствуют о начале сентиментализма в России, но в какой-то степени предвосхищают карамзинский «Московский журнал» (1791—1792), ставший впоследствии трибуной этого литературного направления. Переводы из Геснера в дальнейшем появляются в таких журналах, как «Санкт-Петербургский вестник» (1778—1781) и «Модное ежемесячное издание» (1779); на протяжении 70-х и 80-х годов они выходят также многочисленными отдельными изданиями. Известность Геснера достигла своего апогея в 90-е годы XVIII в., однако увлечение им продолжалось и позднее, вплоть до конца 20-х годов XIX в.3
Популярность Геснера — один из аспектов более общего интереса к идиллии, как таковой, образцы которой обнаруживались и в творчестве древних, например Феокрита, и современных писателей типа мадам Дезульер (Mme Deshoulieres). Идиллия стала излюбленным жанром классицизма; она обрела теоретическое полноправие под пером Попа в Англии,4 Буало во Франции5 и Сумарокова в России.6 Принадлежа к среднему из трех стилей классицистической поэтики, идиллия тем самым была гарантирована от крайностей как высокого, так и низкого стиля, считалась эталоном чистоты и сладкозвучности языка (столь ценимых, по общему мнению, прекрасным полом) и потому была с готовностью принята на вооружение практиками и теоретиками сентиментализма. Хотя идиллия сама по себе превратилась в один из характерных жанров этого литературного направления, ее влияние — и тематическое, и стилистическое— самым явным образом сказалось и на развитии ведущего жанра прозы конца XVIII в. — сентиментальной повести.7
В задачи настоящей статьи не входит изучение роли идиллии в русской литературе XVIII в.; мы будем говорить только об идиллии в творчестве Карамзина, постараемся обосновать интерес Карамзина к этому жанру, рассмотрим его критические суждения о Геснере, принадлежащие Карамзину переводы и переделки оригинальных идиллий и использование тематических и стилистических мотивов идиллии в его собственном творчестве. Наконец, мы попытаемся связать идеологический смысл преобразования идиллии у Карамзина с эволюцией его мировоззрения в 90-е годы XVIII в. и в первые годы царствования Александра I.
1
«Деревянная нога», как указывает ван Тигем,8 занимает среди идиллий Геснера особое место, так как в основу ее положен эпизод из истории Швейцарии. В силу этого обстоятельства она не привлекала внимания переводчиков, предпочитавших идиллии более традиционного, условного плана. Первый и единственный русский перевод этой идиллии в XVIII в. — перевод Карамзина (1783). Вторично русскому читателю ее предложил Иван Тимковский, выпустивший двадцать лет спустя полное собрание сочинений Геснера в своих переводах.9 Тем не менее выбор Карамзина можно было бы считать всего лишь данью литературной моде, если бы не то обстоятельство, что его литературные вкусы сформировались в школе профессора И. М. Шадена в Москве, где Карамзин воспитывался в 1777—1781 гг. Шаден привил юноше любовь к немецкому языку; 10 в школе читались басни Геллерта,11 и, разумеется, в списках рекомендованного чтения значились также сочинения Геснера, столь близкого к Геллерту по стилю и тематике.12 О восторженном отношении Карамзина к Швейцарии можно судить по примечанию, которым он снабдил свой перевод «Vom Ursprung des Übels» А. фон Галлера (A. von Haller), опубликованный в 1786 г.: «Под сими счастливыми тварями разумеет Галлер альпийских пастухов. Все, слышанное мною от путешествовавших по Швейцарии о роде жизни их, в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливцах часто побуждало меня восклицать: „О смертные! почто уклонились вы от начальной невинности своей! почто гордитесь мнимым просвещением своим!“».13 Сходные чувства побудили его при переводе «Деревянной ноги» сделать весьма показательное добавление к тексту Геснера. Фразу оригинала «Freyheit, Freyheit beglückt das ganze Land!»14 он передал следующим образом: «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю сию страну».15
Ключ к оценке природных красот Швейцарии, достоинств ее республиканской системы и швейцарского национального характера Карамзин извлекал из сочинений Геснера, Галлера и Жан-Жака Руссо. Проникнувшись их идеями, Карамзин торжественно именовал Швейцарию «землей свободы и счастия».16 В параллель с известным эпизодом в «Исповеди» Руссо — «En entrant sur le territoire de Berne, je fis arreter; je descendis, je me prosternai, j’embrassai, je baisai la terre, et m’ecriai dans mon transport: Ciel! protecteur de la vertu, je te loue, je touche une terre de liberte!»,17 — Карамзин писал: «Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна, и в восторге целовал землю».18
Пребывание в Швейцарии представлялось Карамзину возвратом к золотому веку человечества, поэтому швейцарских крестьян и пастухов он склонен был воспринимать идиллически. Аккуратность, с которой крестьянин вымыл кружку, подавая автору напиться, способна была вызвать у него бурный взрыв эмоций: «Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями! Я с радостию отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми истинными удовольствиями — теми, в которых участвует сердце и которые нас подлинно счастливыми делают, — наслаждались люди и тогда, и еще более, нежели ныне...».19 Все, что наблюдал Карамзин в сельской Швейцарии, он неизменно пытался свести к формуле: простая, естественная жизнь равняется добродетели и счастью. Разделив трапезу с молодыми пастухами, он вспоминал: «Я говорил им, что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится и что я хочу остаться у них и вместе с ними доить коров»;20 описывая крестьянскую свадьбу в тонах геснеровой идиллии, он восклицал: «Как нежно чувство в альпийских пастушках! как хорошо понимают они простой язык сердца!».21
В свете этого восторженного преклонения перед Швейцарией карамзинский перевод «Деревянной ноги» представляется вполне логичным. Он важен не только как свидетельство идейной близости обоих авторов, но и как проба переводческих и стилистических возможностей Карамзина. Нельзя сказать, чтобы Карамзин блеснул здесь талантом переводчика: русский текст, хотя в целом он точно воспроизводит оригинал, лишен простоты и гармоничности последнего. Так, непритязательные слова старика «ein Trunk frisches Wasser wird mich erquicken»22 Карамзин передает напыщенно-официальной фразой: «свежая вода приведет ослабшие мои силы в прежний порядок».23 В отличие от позднейшей стилистической манеры, равно присущей и его собственным, и переводным произведениям, Карамзин преподносит читателю корявые и неблагозвучные строки. Например, такие: «Потеряние некоторых из вас своих отцов, коих память должна пребыть незабвенна в ваших сердцах, сделало, что вы вместо чтоб ходили повеся голову, страдая под игом рабства, взираете ныне с радостию на восходящее солнце, и утешительные пения распространяются повсюду».24 В оригинале вместо этого мы обнаруживаем два стройных предложения: «Das mancher eurer Väter, so sprach er, voll Narben und zerstümmelt ist, das sollt ihr Gott und ihnen danken, ihr Jungen. Muthlos würdet ihr den Kopf hängen, statt jetzt an der Sonne froh zu sein, und mit muntern Liedern den Wiederhall zu rufen».25 Этого мало. Карамзин склонен добавлять к тексту словесные украшения сентиментального характера. Так, первые строки идиллии Геснера «Auf dem Gebürge, wo der Rautibach im Thal rauscht, weidete ein junger Hirte seine Ziegen»26 у Карамзина приобретают такой вид: «На горе, с коей текущий источник своими струями орошал близлежащую долину, пас молодой пастух своих коз».27
2
Карамзин, по-видимому, скоро позабыл свой юношеский перевод из Геснера, но симпатию и интерес к творчеству швейцарского писателя сохранил на многие годы. Геснер умер в 1788 г.; в следующем году Карамзин, который теперь вместе с А. А. Петровым редактировал новиковское «Детское чтение», опубликовал в своем переводе идиллию, посвященную памяти Геснера, снабдив перевод послесловием, где в стихах и прозе воздавалась дань покойному писателю.28 В ближайшем номере журнала появился перевод идиллии Геснера «Идас и Микон» («Idas,Мусоп»), принадлежащий, по всей вероятности, самому Карамзину.29 Хотя язык этого перевода значительно очистился по сравнению с «Деревянной ногой», в нем тоже присутствовала та «смесь славенских выражений с оборотами, свойственными только немецкому языку», которую отмечал Тимковский, говоря обо всех первых русских переводах из Геснера.30
В сочинениях Карамзина, вышедших после его возвращения из путешествия по Европе, мы находим многочисленные ссылки на Геснера. Как-то раз Карамзин прочитал одну из идиллий Геснера поблизости от места закладки памятника писателю; под впечатлением этого события в письме из Цюриха («Письма русского путешественника») он посвящает целый хвалебный гимн человеку, чьи сочинения и личные добродетели, по мнению Карамзина, должны обеспечить ему бессмертие.31 Такой же энтузиазм вызвал у него вид памятника Геснеру в Базеле,32 а по другому поводу он самым подробным образом и с полным сочувствием цитировал восторженные отзывы Рамлера и Тоблера о швейцарском писателе.33 В числе трех переводов, сделанных Карамзиным из «Характеристик» Мейстера и напечатанных в 1792 г. в «Московском журнале», была и биография Геснера.34 В ряде ранних стихов Карамзина содержатся упоминания о «швейцарском Феокрите»,35 а в его очерке «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1793) мы находим два весьма характерных высказывания о Геснере.36 Наконец, в важной программной статье «Что нужно автору» (1793) Карамзин говорит о личности Геснера как о лучшем подтверждении своего тезиса относительно того, что великий писатель непременно должен быть добродетельным, гуманным и великодушным в повседневной жизни: «Ужели думаете вы, что Геснер мог бы столь прелестно изображать невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии любезные черты были чужды собственному его сердцу?».37
Среди всех суждений Карамзина о творчестве Геснера — как оригинальных, так и заимствованных у иностранных авторов — особую важность имеют замечания стилистического характера, поскольку они связаны с его собственной писательской практикой. В творчестве Геснера Карамзина более всего привлекала непринужденность, легкость и простота языка и «какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов».38 Такой взгляд на поэтическую прозу Геснера запечатлен в переводе этюда Мейстера: «... Геснерова проза в рассуждении гармонии не уступает никаким стихам,. и для сочинений такого рода еще приличнее».39 Карамзин и сам пытался привить русской прозе гибкость и музыкальность: если в период его работы в «Детском чтении» это были только поиски и эксперименты, то в период, связанный с «Московским журналом», уже можно говорить о бесспорных победах. Современников Карамзина покорил его новый слог. А. Т. Болотов превозносил «сладость и особливую приятность, господствующую во всех его сочинениях и слоге».40 С. Н. Глинка писал о том, что Княжнин горячо одобрял «новый, живой, одушевленный слог»41 Карамзина, а Ф. Н. Глинка вспоминал, как молодые петербургские кадеты читали и выучивали наизусть карамзинскую «музыкальную прозу и стихи, так легко укладывавшиеся в памяти».42
Хотя сочинения Геснера сыграли заметную роль в становлении прозаического стиля Карамзина, теперь Карамзин как стилист ощущал свою самостоятельность и занял по отношению к Геснеру новую позицию — скорее соперника, нежели подражателя. Об этом можно судить и по цитате из Экушара Лебрена (Ecouchard Lebrun), которую Карамзин предпослал в качестве эпиграфа «Пантеону иностранной словесности»:
C'est la grâce, c'est l'harmonie
Que doit rendre un libre Génie.
Le plus fidèle traducteur
Est celui qui semble moins l'être:
Qui suit pas-à-pas son auteur,
N'est qu'un valet qui suit son maître.43
Карамзин начал проводить эти принципы в жизнь и в 1791 г. выступил в качестве полноправного соперника Геснера, напечатав идиллию «Палемон и Дафнис».44 Это произведение, считающееся обычно оригинальным, на самом деле представляет собой искусную переделку идиллии Геснера «Der Sturm».45 Карамзин не стремится воспроизвести все до одной детали геснеровой идиллии; пастухам он дает другие имена (Палемон и Дафнис вместо Лакон и Баттус), однако в целом сохраняет без существенных изменений место действия, сюжет и мораль. Два пастуха оказываются свидетелями шторма, во время которого тонет корабль и погибает вся команда. Из этого происшествия извлекается мораль: будь доволен собственным жребием и не завидуй чужой судьбе, какой бы привлекательной на первый взгляд она ни казалась. Оригинальность Карамзина состоит в том, что он, независимо от Геснера, сообщил идиллии определенную идейную направленность, которая выразилась в особо тщательной разработке ряда мотивов, ставших центральными. Хотя обе идиллии начинаются почти одинаково, Карамзин в подробностях описывает место действия, всячески подчеркивая безмятежное очарование обстановки, в которой живут герои, с тем чтобы усилить эффект надвигающегося бедствия. Палемон и Дафнис наперебой завидуют матросам, полной приключений кочевой жизни этих людей; автор дает им высказаться,— и только после этого начинают сгущаться тучи; близится шторм (идиллия Геснера открывается непосредственно картиной надвигающейся бури). Далее Карамзин следует за Геснером лишь в узловых моментах, не задаваясь целью дословно воспроизвести описание бури. Умолкают птицы, вокруг темнеет, поднимается ветер, море покрывается пеной, сверкает молния. У Геснера: «Schon ist das Gewitter da; schon toben die Wellen an unserm Ufer, und die Winde heulen durch die gebogenen Wipfel».46 У Карамзина: «Уже вблизи шумит буря — свистят ветры — море волнуется».47 Корабли погибают в разъяренной морской пучине. Свидетели катастрофы и у Геснера, и у Карамзина реагируют на нее сходным образом: первая их мысль — об осиротевших семьях моряков. Перед читателем возникает образ вдовы, стоящей на берегу в окружении малолетних детей, лишившихся отца; его сменяет другой образ — трупы утонувших матросов во власти морских чудовищ и хищных птиц. У Геснера: «...denn euch werden Raubvögel am Ufer fressen, verschlingen die Ungeheuer des Meers euch nicht».48 У Карамзина: «Дафнис. Или алчные киты поглотят их. Палемон. Или хищные птицы исклюют их на берегу необитаемом».49 За этим следует переход к морализирующей концовке. У Геснера Баттус восклицает: «О Götter, laßt immer mich ruhig in armer Hütte wohnen! Zufrieden mit wenigem, nähre mein Anger mich, und mein kleines Feld und meine Heerde». А Лакон откликается: «Strafet mich Götter wie diese, wenn je Unzufriedenheit in meinem Busen seuft; wenn ich je mehr wünsche, als was ich habe: Ruhe und massige Nahrung!».50 Пастухи у Карамзина тоже испытывают духовное очищение: «Палемон. Простите нам, милосердые боги, что мы хотя на минуту были недовольны нашею долею, и желали из суетного любопытства — погибнуть в волнах! Дафнис. Простите, простите нам, милосердые боги! Впредь мы никогда не будем мучить себя воображением отдаленных удовольствий, за которые — увы! — так дорого платить должно».51
Далее Карамзин снова отступает от версии Геснера. У Геснера пастухи находят труп юного матроса и хоронят его на берегу. Позднее они сооружают храм в честь бога Пана на деньги, вырученные от продажи золотого ларца, который волны выбросили на берег. Эта заключительная сцена Карамзину показалась излишней; для него важнее всего мораль — «довольствуйся своей судьбой», и до самого конца идиллии он заставляет Палемона и Дафниса изощряться друг перед другом в изъявлениях покорности и успокоенности.
Здесь очевиден тот более широкий смысл, который хотел придать своему произведению Карамзин. Его идиллия не просто очередная вариация на избитую тему пасторальной литературы. Он предостерегает не против бури на море, но против бурь французской революции; он обращается к соотечественникам с призывом довольствоваться своим нынешним положением и не следовать примеру французов, ибо это неминуемо повлечет за собой страшные бедствия. Такое толкование подтверждается, в частности, тем, что в произведениях Карамзина аллегорический образ бури и стороннего наблюдателя использован еще дважды — оба раза в применении к Франции. В «Письмах русского путешественника» Карамзин обращался к Парижу со следующими прощальными словами: «Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин Вселенной, смотрел на твое волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное Море».52 Позднее, в 1803 г., он писал в очерке «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» об уроках, которые дала ему французская революция. Здесь мы тоже находим знакомый образ, правда, в несколько измененном виде: «Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другие предсказали ее с разительною точностию; гром грянул во Франции... Мы видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным!».53
Восторженное отношение Карамзина к Геснеру с наибольшей силой проявилось именно в «Палемоне и Дафнисе», хотя влияние этого писателя чувствуется и в других произведениях Карамзина, напечатанных в «Московском журнале», в особенности в его поэмах в прозе, таких, как «Ночь»,54 и в повести «Наталья, боярская дочь».55 Вещь, напечатанная в этом же журнале без фамилии автора под названием «Наводнение. Отрывок»56 и, по всей вероятности, тоже принадлежащая перу Карамзина, содержит отголоски другого произведения Геснера — «Ein Gemälde aus der Sündflut», и ее главный герой — пастух Милон.
К этому следует добавить, что Карамзину скорее всего принадлежит еще один перевод из Геснера. В 1796 г. в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» был напечатан перевод, озаглавленный «Идиллия. Зефиры (из Геснера)» и подписанный инициалами H.К.57 Неустроев высказал предположение, что Карамзин сотрудничал в этом журнале,58 однако ни в одном случае не смог установить его авторство. По данным Масанова, Карамзин только однажды использовал в качестве подписи инициалы Н. К.,59 хотя довольно часто подписывался одной буквой К., печатаясь в «Московском журнале». И тем не менее стиль перевода заставляет предполагать авторство Карамзина: по сравнению с позднейшим переводом Тимковского он гораздо более лиричен и отличается обилием параллельных инверсий, что тексту Тимковского не свойственно.
В заключение вопроса о связях Карамзина с Геснером можно отметить тот интересный факт, что Тимковский тоже сотрудничал в «Приятном и полезном препровождении времени». Он несомненно был знаком с Карамзиным и, по всей вероятности, именно Карамзина имел в виду, когда писал в предисловии к изданию сочинений Геснера в своем переводе: «Сии причины (т. е. нерегулярность и неровное качество ранних переводов из Геснера, — А. К.), также и одобрение со стороны известнейших литераторов наших, побудили меня предложить публике Полное собрание сочинений г-на Геснера».60
3
Увлечение Геснером было одним из важных аспектов интереса Карамзина к пасторальному жанру. Подтверждение этому мы находим в его поэме «Поэзия», написанной в 1787 г., но опубликованной только в 1792г.61 Это произведение не что иное, как перечень имен поэтов, к которым Карамзин испытывал особое пристрастие в молодости. Уже давно отмечалось, что в его поэтическом пантеоне отсутствуют французы; не менее интересен тот факт, что преобладающее место там отводится поэтам пасторального направления. Феокрит, Бион, Мосх, Вергилий, Овидий, Геснер и Джемс Томсон — все эти поэты прославились тем, что воспевали красоту природы и золотой век. Карамзин особенно почитал Томсона («Ты выучил меня природой наслаждаться...62) и перевел для «Детского чтения» все четыре его «Времени года». Томсон в свое время оказал общепризнанное влияние на Геснера,63 и Карамзин сочувственно относился к тому, что роднило английского и швейцарского поэтов, — к их умению наслаждаться природой, к их оптимистической вере в доброту и гармонию мира.
Хотя в целом для Карамзина характерен оптимизм и склонность к преувеличенно восторженным оценкам, иногда он бывал не чужд разочарованности и меланхолическим настроениям — об этом говорит, например, его «Весенняя песня меланхолика»64 и тот факт, что ему нравились «Ночные мысли» («Night Thoughts») Юнга. В этой связи приобретает значение перевод Карамзина из Христиана Вейсе (Christian Weiße) «Аркадский памятник, сельская драма в одном действии». Можно предположить, что Карамзина привлекло здесь известное сходство с миром геснеровых идиллий; однако мораль Вейсе скорее сродни масонской философии. Теоретически Вейсе стоит за идеалы и высокие порывы, связанные с мифом об Аркадии, но в то же время признает, что истинное счастье можно обрести только в самом себе:
Не мучьтесь никогда желаньем —
Вы, юные сердца, —
Найти Аркадию под солнцем!
Вы можете найти
Аркадию в душе спокойной.
Ищите там ее.65
У Карамзина мы наблюдаем сочетание наивного подхода к Аркадии и золотому веку со взглядами вполне трезвыми и практическими. Он соглашался с тем, что золотой век — иллюзия, и одновременно поддавался очарованию этой иллюзии; он утверждал, что счастье зависит только от самого себя, и все же пытался указать человечеству какие-то универсальные пути к счастью.
Только имея в виду это двойственное отношение Карамзина к золотому веку, можно начинать разговор о «Бедной Лизе», произведении, слава которого вполне заслужена. Булич отозвался о «Бедной Лизе» так: «... это воспоминание Карамзина из мира геснеровых идиллий».66 Действительно, элементы пасторали играют в повести главенствующую роль, но писатель использует их не просто как декорацию: он вплетает их в сюжет и создает убедительную мотивировку трагической развязки. Вот как описывается впечатление, произведенное Лизой на Эраста: «Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. „Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям”,— думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет».67
Здесь очевиден не только авторский скептицизм относительно того, существовал ли вообще золотой век, но и то, что восторженный пыл Эраста, по всей вероятности, быстро остынет. Эраст и сам сознает, что играет роль. Другое дело Лиза: ей тоже рисуются идиллические картинки, но здесь они вызваны совсем иными причинами: «Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: „Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом. Она мысленно произносит слова, с которыми могла бы обратиться к любимому, — но тут же прерывает себя: „Мечта!”».68 Пастухи и пастушки возникают в Лизином воображении именно потому, что она сознает невозможность счастливого союза с Эрастом; для нее это не условные книжные персонажи, но частица ее мира, люди, среди которых она могла бы обрести счастье. В ходе повести оба эти представления смешиваются и взаимодействуют, причем на первый план выступает заведомо выдуманный мир Эраста. Когда Эраст приезжает к Лизе, Карамзин замечает: «мечта ее отчасти исполнилась»;69 «отчасти» — потому, что Лиза мечтала о большем: Эраст действительно отыскал ее и ласково на нее взглянул, но он как был, так и остался барином. Дальнейшие их отношения развиваются совершенно в духе идиллии; всякий раз они встречаются на берегу пруда, и после свидания Лиза возвращается в хижину своей матери, а Эраст — в Москву, и для обоих это означает возврат к реальной жизни. Эраст просит Лизу не выдавать тайну их любви старушке-матери — это разрушило бы полноту иллюзии, в которую он сам уже почти успел поверить: «Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. „Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во з\о любви ее и буду всегда счастлив!"».70 Автор тут же укоряет Эраста за безрассудство: разве может человек знать свое сердце и отвечать за его движения? Тем самым Карамзин подготавливает читателя к будущим печальным событиям. Старушка-мать, которой нравится молодой барин, не надеется на его брак с Лизой и хочет выдать дочь за посватавшегося к ней богатого крестьянина. Узнав об этом, Эраст по всем правилам идиллии начинает уверять Лизу, что никогда ее не покинет: «... по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю».71 Лиза смотрит на это более трезво и отвечает: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — «Почему же?» — «Я крестьянка». Социальный момент введен не случайно — за ним последует и любовное разочарование. Лиза отдается Эрасту, но в высшем наслаждении любви уже кроется начало конца. Из мира идиллии Эраст возвращается в мир давно знакомых ощущений: «Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы».72 Таким образом, Эраст неизбежно должен оставить Лизу. Несмотря на минутные порывы искренности и запоздалое раскаяние, он являет собой законченный тип эгоиста и клятвопреступника.
Самобытность Карамзина, избравшего для своей повести малооригинальную тему, состоит как раз в том, что он сумел искусно показать разрыв между литературой и действительностью, между идеалами и человеческой природой. Он воплотил в художественной форме характерное для него двойственное отношение к мифу о золотом веке. Вместе с тем «Бедная Лиза» свидетельствует о дальнейшей разработке тематики и художественных средств идиллии в творчестве Карамзина. В опыте «О свойстве идиллии», опубликованном анонимно в 1795 г., его автор рассуждает о сущности характеров, изображаемых в идиллии, и заканчивает очень многозначительными словами: «невинная пастушеская любовь должна быть чужда всех пороков, от развращения городского вкравшихся».73 Карамзин использовал в «Бедной Лизе» именно этот конфликт двух культур и тем самым осуществил переход от традиционной идиллии к сентиментальной повести.
4
Завершая разговор о видах идиллии у Карамзина, следует остановиться еще на одном аспекте и посмотреть, каким образом неустойчивые взгляды писателя на Аркадию и золотой век отразились в его публицистике и беллетристике после «Бедной Лизы». В период работы в «Московском журнале» Карамзин, который не принимал революцию ни в теории, ни в ее практическом французском варианте, все же не терял присутствия духа и чувства меры: как его герой-пастух, он невозмутимо глядел издалека на бушующую стихию. Дальнейший ход французской революции, в особенности террор 1793 г., сильно подействовал на Карамзина; все это, в сочетании с личными невзгодами, привело к кризису его философии.
Этот кризис не замедлил сказаться на литературной работе Карамзина. Начиная с 1794 г. Карамзин издает альманах «Аглая». В его первую часть, вышедшую весной 1794 г., попали произведения, большинство которых было написано еще до середины 1793 г., однако по второй части, появившейся в 1795 г.; уже чувствуется, насколько глубоко было разочарование писателя. Вторая часть «Аглаи» сделала достоянием широкой публики то, что раньше Карамзин решался высказать лишь в частных письмах к И. И. Дмитриеву.74 Правда, этого можно было ожидать уже после выхода первой части, в которую был включен очерк Карамзина «Нечто о науках, искусствах и просвещении», где чувствуется глубокая тревога писателя: «...может быть, настанет златый век поэтов, век благонравия, — и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет добродетель на светлом троне».75 В этом же очерке автор снова разоблачает миф об Аркадии: «Нам будут говорить о Сатурновом веке, счастливой Аркадии... Правда, сия вечно цветущая страна, под благим, светлым небом, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любят друг друга, как нежные братья, не знают ни зависти, ни злобы, живут в благословенном согласии, повинуются одним движениям своего сердца и блаженствуют в объятиях любви и дружбы, есть нечто восхитительное для воображения чувствительных людей; но — будем искренны и признаемся, что сия счастливая страна есть не что иное, как приятный сон, как восхитительная мечта сего самого воображения».76
Для Карамзина характерно то, что в качестве поборника просвещення он верил в движение человечества от варварства и невежества к будущему «веку благонравия», но как писатель-беллетрист тяготел к сентиментальной иллюзии «романтического прошлого». Уже в повести «Наталья, боярская дочь» он сделал попытку противопоставить старую Русь идеальной Аркадии, а в «Лиодоре» со вздохом сожаления вспоминал о том не вполне четко датируемом периоде российской истории, когда дворяне обладали истинными добродетелями, впоследствии безвозвратно утраченными.77 В повести «Афинская жизнь», включенной во вторую часть «Аглаи», Карамзин вновь обращается к прошлому — на этот раз для того, чтобы отвлечься от ужасов настоящего, отчаявшись, что наступит когда-либо тот золотой век, о котором он так недавно мечтал. Занимательные картины жизни древних Афин могли, по его мнению, временно заслонить «ужасное безумство наших просвещенных современников».78
Утрата оптимизма и веры во врожденную доброту человека— вот что отличает стихи и прозу второй части «Аглаи». В каком-то смысле это карамзинский «Кандид». Эпиграф из Монтеня подсказывает подобную аналогию: «Je veux que la mort me trouve plantant mes choux; mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait».79 Тема утраченных иллюзий настойчиво звучит на протяжении всего тома. В посвящении Плещеевой Карамзин пишет: «Исчезли призраки моей юности...»,80 и, хотя он по-прежнему заявляет о своей любви к человечеству и желании способствовать просвещению, в «Послании к Дмитриеву» он признается:
Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет.81
Спасения он ищет в любви истинных друзей; отворачиваясь от мира, где попирается добродетель, он жаждет «тихого крова»:
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли.82
Как бывало и раньше, Карамзин обретал утешение в литературе, но теперь это превращалось в самоцель, в намеренный отрыв от действительности:
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов!83
Эту идею он развивает в письме к Дмитриеву (1796): «Поэт имеет две жизни, два мира: если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магометанин в раю с своими семью Гуриями. Vive etscribe!».84 Раньше Карамзину удавалось совмещать свой воображаемый мир с реальностью: созерцая настоящее, он обращался мыслями к идиллическому золотому веку и оптимистически смотрел на будущее в ожидании новой Утопии. Теперь же пессимизм заставил его замкнуться в своем частном мирке; он отказался и от золотого века, и от надежды на Утопию для всех. Во втором издании «Писем русского путешественника» (1797) восторженный пассаж, посвященный золотому веку, Карамзин сопроводил сноской: «Мечта воображения», — а в третьем издании заменил ее загадочным вопросом: «Когда же?».85 Наконец, в поэме «Протей» (1798) он начисто отверг Аркадию:
В Аркадии своей ты был с зверями равен,
И мнимый век златой, век лени, детства, сна,
Бесславен для тебя, хотя в стихах и славен.86
Однако даже в конце 90-х годов борьба пессимистических и оптимистических взглядов у Карамзина продолжалась. Она получила выражение в переписке Мелодора и Филалета — «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» (1795), а позднее— в «Разговоре о счастии» (1797) между этими же двумя персонажами, каждый из которых воплощал крайние взгляды автора. Потрясенный смертью первой жены, в 1803 г. Карамзин напишет: «...оптимизм есть не философия, а игра ума»;87 но пока что — в сфере не личной, а общественной жизни — он удерживается на оптимистических позициях. В октябре 1796 г. Карамзин писал князю А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии».88 Восшествие на престол Павла I в декабре того же года на какое-то время воскресило былые иллюзии Карамзина относительно возможности золотого века: «Для нас течет Астреин век».89 Павел жестоко обманул надежды писателя, но это не помешало ему с еще большим энтузиазмом приветствовать Александра I:
У нас Астрея! восклицаю:
Или воскрес Сатурнов век!..90
В произведениях, созданных в первые годы царствования Александра, Карамзин выступает как политический публицист. В двух одах, посвященных Александру, и в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине II» (все три—1801 г.) возникает еще одна, последняя, разновидность карамзинской идиллии. Это картина России, которой правит мудрый монарх; преданные государю и исполненные добродетелей дворяне, растущая буржуазия и крестьяне рьяно выполняют свои обязанности: каждый член общества вносит посильный вклад во всеобщее процветание и довольствуется своим социальным положением. Иначе говоря, вместо ненавистных ему западных образцов республиканского строя и конституционной монархии Карамзин предлагает собственный вариант самодержавной Аркадии.91
***
Литературная деятельность Карамзина началась со скромного перевода идиллии Геснера, а закончилась серией статей и очерков, которые в совокупности образуют, если можно так выразиться, политическую идиллию широкого масштаба. Эти два этапа, начальный и завершающий, служат лучшей иллюстрацией многосторонних задач, которые были поставлены в настоящем исследовании.
В первых двух разделах мы пытались показать интерес Карамзина к творчеству Геснера, используя прежде всего перевод «Деревянной ноги» и переделку «Бури», а также привлекая различного рода отзывы Карамзина о швейцарском писателе. Одновременно мы старались привлечь внимание к причинам идейного характера, которые побудили Карамзина выбрать именно эти идиллии. В третьем разделе рассматривалось отношение Карамзина к пасторальному жанру в широком смысле, в частности к такому его представителю, как Томсон, и предлагался анализ «Бедной Лизы» — повести, которая представляет собой очередной шаг вперед в жанре идиллии и одновременно отражает раздумья Карамзина о последствиях «идиллического образа мыслей». Материал четвертого раздела — позднейшие сочинения Карамзина; в произведениях этого периода воплотилось намечавшееся и раньше неустойчивое отношение автора к Аркадии и мифу о золотом веке и отразился кризис мировоззрения Карамзина, вызванный террором, который последовал за французской революцией. В целом настоящее исследование демонстрирует интерес Карамзина к жанру идиллии со всеми его литературными, философскими и политическими наслоениями и рассматривает разновидности идиллии в его собственном творчестве.
Примечания
1 Деревянная нога, швейцарская идиллия гос. Геснера. Переведено с немецкого Никол<аем> Карамз<иным>, СПб., 1783.
2 Вечера, 2 части. СПб., 1772—1773; ч. I, стр. 60—62, 177—179, 200— 204; Ч. II, стр. 17-20, 49—51.
3 См.: Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Гослитиздат, Л., 1938, стр. 250; В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II. М., 1916, стр. 483—486.
4 A Discourse on Pastoral Poetry (1704). The Poems of Alexander Pope, edited by John Butt. London, 1965, рр. 119—123.
5 L’Art poetique (1674). Oeuvres completes de Boileau, t. II. Paris, 1939. рр. 89—90 (СТИХИ 1—37).
6 Эпистола о стихотворстве (1747). А. П. Сумароков, Избранные произведения. «Библиотека поэта». Большая серия. Л., 1957, стр. 117—118.
7 К. Скипина. О чувствительной повести. В кн.: Русская проза. Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926, стр. 34—41.
8 P. van Tieghem. Les Idylles de Geßner et le reve pastoral dans le preromantisme europeen. Revue de literature compare, t. IV, Paris, 1924, p. 52.
9 Полное собрание сочинений г-на Геснера. С немецкого перевел Иван Тимковский. 4 части. М., 1802—1803; ч. I, стр. 279—291.
10 Переписка Карамзина с Лафатером. СПб., 1893, стр. 4.
11 Московский журнал, 1791, ч. II, стр. 308—309.
12 Хотя Карамзин не упоминает прямо о том, что с Геснером он познакомился в школе Шадена, он сообщает, что читал его сочинения «с самих детских лет» (Детское чтение, 1789, ч. XVII, стр. 200).
13 О происхождении зла, поэма великого Галлера. Перевод с немецкого. М., 1786, стр. 11.
14 Salomon Geßner, Schriften, Bd. 2. Zürich, 1778, S. 94.—В дальнейшем: Geßner.
15 Деревянная нога, стр. 7 (разрядка моя,— А. К.).
16 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 65.
17 Jean-Jacques Rousseau. Les Confessions. Paris, 1964, p. 692.
18 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 168.
19 Там же, 1792, ч. V, стр. 350.
20 Там же, стр. 45.
21 Там же, стр. 357—358.
22 Geßner, Bd. 2, S.94.
23 Деревянная нога, стр. 5 (ср. у Тимковского: «холодная вода освежит мои силы» — ч. I ,стр. 281).
24 Там же, стр. 6—7.
25 Geßner, Bd. 2 , S. 94.
26 Там же, стр. 93.
27 Деревянная нога, стр. 3.
28 Детское чтение, 1789, ч. XVII, стр. 200. — Еще до того как Карамзин стал в 1787 г. редактором» этого журнала, в нем были напечатаны переводы четырех идиллий Геснера: 1785, ч. III, стр. 44—47 и 76—78; 1786, ч. VI, стр. 202-206; ч. VII, стр. 3—11).
29 Детское чтение, 1789, ч. XVIII, стр. 110—112.
30 Полное собрание сочинений г-на Геснера, ч. I, стр. V.
31 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 322—325.
32 Там же, стр. 78—79.
33 Там же, ч .II, стр. 36—37; ч. IV, стр. 315—316.
34 Там же, ч. VI, стр. 285—294.
35 Сочинения Карамзина, т. I (стихотворения). Пгр., 1917, стр. 15, 71, 117.
36 Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, т.II.Изд. «Художественная литература», М.—Д., 1964, стр. 139, 141.
37 Там же, стр. 121.
38 Московский журнал, 1791, ч. II, стр. 36.
39 Там же, ч. VI, стр. 290.
40 Н. Губерти. Андрей Тимофеевич Болотов как критик и рецензент литературных произведений. Библиограф, 1885, NoNo 9—10, стр. 38.
41 Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895, стр. 77.
42 К. А. Грот. Н. М. Карамзин и Ф. Н. Глинка. Материалы к биографиям русских писателей. СПб., 1903, стр. 4.
43 Пантеон иностранной словесности. 3 части. М., 1798, первая страница всех трех частей (из дальнейших изданий эпиграф был исключен).
44 Московский журнал, IV, стр. 278—286.
45 Geßner, Bd. 2, SS. 70—74. — Позднее эта идиллия публиковалась в переводе Ивана Вышеславцева (Приятное и полезное препровождение времени, 1798, ч. XIX, стр. 254—259) и Тимковского. Любопытно, что Вышеславцев тоже изменил имена пастухов — у него их зовут Мизис и Ламон, — в остальном дав точный, хотя и несколько деревянный перевод.
46 Geßner, Bd. 2, S. 71.
47 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 282.
48 Geßner, Bd. 2. S.72.
49 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 283.
50 Geßner, Bd. 2, SS.72—73.
51 Московский журнал, 1791, ч.IV,стр. 283—284.
52 Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, т. I, стр. 507.
53 Там же, т. II, стр. 269. — Интересно отметить, что в «Хронике Константина Манасия» (греческий оригинал XII в., церковнославянский перевод XIV в.) часто встречается образ бурного моря и, за исключением одного случая, он всегда символизирует бурные политические события (см.: D. Cizevskij. History of Russian Literature from the Eleventh Century to the End of the Baroque. 2-nd ed. S.-Gravenhage,1967, p.158).
54 Ср. «Ночь» (Московский журнал, 1792, ч.V, стр. 271—277) и «Die Nacht» Геснера.
55 Поливанов указал на сходство начальных страниц этой повести и «Первого шкипера» («Der erste Schiffer») Геснера (Избранные сочинения Н. М. Карамзина с биографическим очерком, вводными заметками, примечаниями историко-литературными, критическими и библиографическими и алфавитным указателем Льва Поливанова, т. I, М., 1884, стр. 380—381).
56 Московский журнал, 1791, ч. IV, стр. 236—240. — Заслуживает внимания тот факт, что обе эти вещи — «Die Nacht» и «Ein Gemälde aus der Sündflut» — удостаиваются особой похвалы в этюде Мейснера о Геснере.
57 Приятное и полезное препровождение времени, 1796, ч. XII, стр. 22—24.
58 А. Н. Неустроев. Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому разысканию о них. СПб., 1898, стр. 281.
59 И. Ф. Mасанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. II. Изд. Всесоюзной книжной палаты, М., 1957, стр. 219. — Единственный современник Карамзина, который тоже подписывался инициалами Н. К., — это Николай Степанович Краснопольский; однако не существует никаких свидетельств о том, что он печатался в журналах этих лет (там же, стр. 220).
60 Полное собрание сочинений г-на Геснера, т. I, стр. V—VI.
61 Московский журнал, 1792, ч. VII, стр. 260—275.
62 Сочинения Карамзина, 1917, стр. 11.
63 Geßner, Bd. 2, S. 187.
64 Детское чтение, 1789, ч. XVIII, стр. 63—64.
65 Там же, стр. 150.
66 Н. Н. Булич. Биографический очерк H. M.Карамзина и развитие его литературной деятельности. Казань, 1866, стр. 108.
67 Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, т. I, стр. 610—611.
68 Там же, стр. 611.
69 Там же, стр. 612.
70 Там же, стр. 614.
71 Там же, стр. 615.
72 Там же. стр. 616.
73 Приятное и полезное препровождение времени, 1795, ч. VII, стр. 100.
74 Письма H. M. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, стр. 42, 48, 57.
75 H. M. Карамзин, Избранные сочинения, т. II, стр. 141.
76 Там же, стр. 130.
77 Московский журнал, 1792, ч. V, стр. 315.
78 Сочинения Карамзина, т. III, СПб., 1848, стр. 435.— См. также статью автора настоящего исследования «H. M. Карамзин и „Путешествие юного Анахарсиса" аббата Бартелеми» (A. G. Cross. N. M. Karamzin and Barthélemy's «Voyagedu jeune Anacharsis». The Modem Language Review, v. LXI, 1966, No. 3, pp.467—472).
79 Аглая, ч. II. М„ 1795, титульный лист.
80 Там же, стр. 5.
81 Сочинения Карамзина, 1917, стр. 96.
82 Там же, стр. 98.
83 Там же, стр. 114.
84 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 69.
85 Ср.: В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1898, стр. 214.
86 Сочинения Карамзина, 1917, стр. 240. — Эту же точку зрения он повторно высказал в «Гимне глупцам» (1802) (там же, стр. 281).
87 Сочинения Карамзина, т. III, 1848, стр. 327.
88 Русский архив, 1878, стр. 1323.
89 Сочинения Карамзина, 1917, стр. 163.
90 Там же, стр. 274.
91 См.: A. G. Cross. N. M. Karamzin's «Messenger of Europe» (Vestnik Yevropy), 1802—3.Forum for Modern Language Studies, 1969, v. V, N 1,pp.1—25.