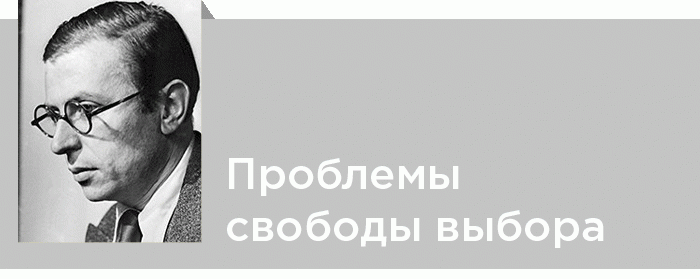Жан-Поль Сартр: искусство как способ экзистенциальной коммуникации
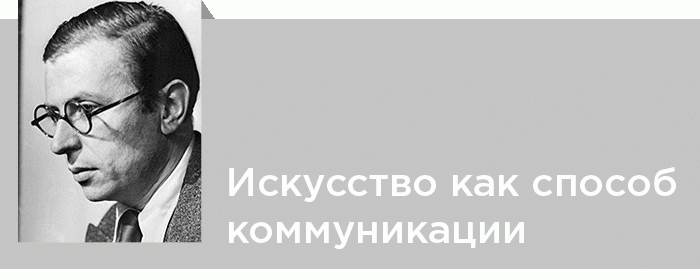
Г. К. Косиков
Проблема межличностной коммуникации — важнейшая в экзистенциализме, однако разными философами она решается существенно по-разному. Что касается Сартра, то его позиция во многом выросла из полемики с «фундаментальной онтологией» М. Хайдеггера.
В «Бытии и времени» Хайдеггера одним из основных является понятие Mit-sein — «бытие-с», «со-бытиё», «бытие-с-другим», трактуемое как взаимное «попечение» индивидов друг о друге. Вот почему, замечает Сартр, хайдеггеровское «со-бытиё» есть такое «мы-бытие», которое более всего напоминает дружную команду гребцов, устремленных к единой цели и в каждом слаженном взмахе весел сливающихся в порыве единодушия: Mit-sein — это «онтологическая солидарность» автономных индивидов, находящихся в отношении прямого или опосредованного сотрудничества. Хайдеггеровское «со-бытие», таким образом, отличается как от гегелевско-гуссерлевского «бытия-для», предполагающего, по характеристике Сартра, «взаимное признание и взаимную борьбу» индивидов, так и от буберовской «сферы „между"», размыкающей границы индивидуальной автономии субъектов и открывающей область экзистенциальной сопричастности всех людей.
Этот мотив сопричастности, переключающий проблематику человеческой интенциональности из субъект-объектного в субъект-субъектный план, является одним из важнейших в работах современных философов экзистенциалистского и персоналистского толка — таких, как М. Шелер, Г. Марсель, М. Бубер, К. Ясперс, Э. Левинас, Э. Мунье и др. — в той мере, в какой они подчеркивали, что подлинная коммуникация есть не что иное, как встреча, когда свобода одного «я» сотрудничает со свободой другого «я», когда человеческое общение утверждает и умножает бытие каждого, когда, говоря словами К. Ясперса, «человек находит в мире другого человека как единственную действительность, с которой он может объединиться в понимании и доверии». Идеал индивидуального бытия, таящего в себе фундаментальную связь с «другим», знает и Сартр; он называет этот идеал «любовью», т. е. «таким слиянием сознаний, при котором каждое из них сохраняет свою инаковость с тем, чтобы утвердить другое сознание».
Вот здесь-то и коренится проблема, поставленная Сартром. Если характеристика «со-бытия» как нашего изначально-подлинного «бытия-в-мире» верна именно в онтологическом, априорном плане, то следует ли отсюда, что она верна и в плане онтическом, апостериорном, жизненно-практическом?
Автор «Бытия и небытия» отвечает на этот вопрос отрицательно. Во-первых, замечает он, неопровержимый эмпирический факт состоит в том, что «другой» — это всегда чье-то конкретное автономное существование, не зависящее от меня и мне предшествующее — точно также, как я предшествую ему, а потому, вопреки Хайдеггеру, «другого встречают, его не конституируют». Во-вторых, именно в силу того, что любой другой «с неизбежностью предстает моему C-ogito как не являющийся мною», подлинно первичным оказывается вовсе не отношение онтологической солидарности сознаний, а отношение их взаимной негации, как бы затушевываемое Хайдеггером, чье «отношение со-бытия ни в коем случае не способно разрешить конкретно-психологическую проблему признания другого».
Между тем, по Сартру, в «конкретно-психологическом», т. е. онтическом плане следует говорить не о «бытии-с-другим», а о «бытии-для-другого», понимаемом не как солидарное «мы», а как разобщенность «я» и «ты», находящихся в процессе безысходной борьбы. Эта борьба описывается Сартром в терминах садомазохизма: садист — это человек, умерщвляющий субъективность партнера, превращающий его в пассивный предмет, при помощи которого он доставляет себе наслаждение, тогда как мазохист, напротив, сам предпринимает добровольную попытку сделаться «вещью-для-другого». В обоих случаях подлинная коммуникация, подлинная «любовь», когда любящий сохраняет собственное «я» и вместе с тем отдает его во власть другому «я» любимому, оказывается невозможной. Вот почему, утверждает Сартр, «на практике единение с другим недостижимо», и стало быть, «сущность отношений между сознаниями — это не Mit-sein, это конфликт». «Конфликт — таков изначальный смысл бытия-для-другого».
Однако неизбывен ли этот конфликт? Означает ли нарисованная Сартром оптическая картина интерсубъективности, что философ отказывает человеку в онтологической способности к непосредственной коммуникации? Возможно ли такое отношение между экзистенциями, при котором ни одна из них не овеществляет другую, не отчуждает ее свободу?
Такое отношение возможно, отвечает Сартр, все дело лишь в том, что в обыденном общении оно возникает чрезвычайно редко — как правило, в экстремальные моменты наивысшего напряжения духовных сил индивидов, между тем как существует огромная область культуры, по самой своей природе открывающая индивидов навстречу друг другу. Эта область — искусство.
Еще в работе «Воображаемое» (1939) Сартр подчеркивал, что одна из особенностей художественного творчества в том, что оно создает вымышленные, ирреальные объекты — квази-объекты. Реально в произведении искусства перед нами присутствует только «материал»: краски и линии — в живописи, тело актера — в театре, последовательность физических звуков — в музыке, типографские значки, нанесенные на бумагу, — в литературе; однако эстетические эмоции мы испытываем не к этим «аналогам» художественных образов, а к самим образам - к Карлу VII, нарисованному на картине, к Гамлету, изображаемому актером, к «Седьмой симфонии», к персонажам романа, т. е. именно к квази-объектам, возникающим в сознании воспринимающего всякий раз, как он дает себе «воображающую установку»: произведение искусства есть «материальная вещь, время от времени посещаемая ирреальным, которое есть не что иное, как изображенный предмет».
Неантизируя реальный мир («не персонаж реализуется в актере, а актер ирреализуется в персонаже»), художественный образ принадлежит совершенно особому — «нейтральному» — виду бытия, ибо здесь «воображающее сознание», с одной стороны, безусловно полагает свой объект, но с другой — полагает его именно как несуществующим.
Таким образом, уже сам факт ирреальности любого «художественного мира» вырывает нас из привычных отношений повседневной коммуникации.
Во-первых, в творческом акте силовые линии интенциональности располагаются не в плоскости «я — другой», но в плоскости «я — мог произведение»: свобода субъекта оказывается употреблена не на отчуждающую объективацию «другого», а на объективирование его собственной экзистенции путем создания вымышленной действительности. Художественный поступок, в отличие от жизненно-практического, позволяет автору превратить свое ускользающее «существование» в твердое «бытие», воплотить «экзистенциальный проект», но сделать это не за счет изменения реальной ситуации в мире, а за счет внесения в него нового смысла, как раз и воплощенного в произведении.
Во-вторых, однако, этот смысл навсегда останется потенциальным, если не станет достоянием той или иной аудитории. Вот почему, говорит Сартр, из недр любого полотна, любой статуи, любой книги доносится настоятельный зов: образы взывают о том, чтобы «воображающее сознание» зрителей, читателей, слушателей их актуализировало. Без такой актуализации эстетический объект низводится до уровня бессмысленного материального предмета. Произведение возникает к бытию в акте эстетического восприятия: «Искусство существует для другого и при посредстве другого».
Итак, с одной стороны, поскольку творческий акт направлен не на отчуждение свободы «другого», а на замещение реальных предметов ирреальными «квази-объектами», то он по самой своей сути лишен ядовитого жала, способного обездвижить партнера по коммуникации; с другой стороны, именно в силу своей вымышленности, а значит, принципиальной изъятости из реального мира, эти объекты не несут в себе никакой угрозы, тем самым сообщая произведению свойство открытости: действительность, созданная воображением писателя, говорит Сартр, вызывает у читателя чувство доверия, он получает возможность безбоязненно погрузиться в смысловой мир произведения, добровольно населить свое экзистенциальное пространство образами, мотивами и т. п., порожденными чужой экзистенцией. Иначе говоря, происходит тот самый акт эстетического восприятия, который еще во времена Дильтея получил название «понимания» («вчувствования», «вживания»), когда для читателя возникает возможность «бытия-вне-себя» через сопричастность миру произведения, в результате чего и рушится онтический барьер между двумя «я» — «я» писателя и «я» читателя.
Автор и читатель, утверждает Сартр, нуждаются друг в друге. Автор не может обойтись без читателя, который один только способен «затеплить» тот — предстоящий ему — материальный объект («аналог»), который еще должен стать «произведением» («писатель пишет, чтобы воззвать к свободе читателей, нуждаясь в этой свободе потому, что она наделяет существованием его произведение»). Для читателя же акт творческого «воссоздания» этого произведения оказывается единственным средством, позволяющим ему присвоить чужие смыслы и тем самым выйти из самозамкнутости, расширить горизонт своего внутреннего мира. («Человек приводит себя в состояние доверчивости, отдается этому чувству и, хотя в конце концов безраздельно — словно в сновидение — в него погружается, тем не менее ни на секунду не утрачивает сознания своей свободы».) «Чудо литературы», — замечает по этому поводу Симона де Бовуар, — заключается в том, что здесь «чужая истина становится моей собственной, не переставая от этого быть чужой», а потому искусство — это «единственная форма коммуникации, способная сообщить мне то, что коммуникации не поддается, т. е. позволяющая ощутить вкус чужой жизни».
Таким образом, именно активное со-участие читателя и писателя, совместное проживание ими одной и той же ирреальной ситуации, созданной в произведении, позволяет преодолеть безысходный садомазохистский конфликт, господствующий на онтическом уровне, и тем самым приблизиться к онтологическому идеалу «со-бытия», или, на языке Сартра, человеческой «тотальности», когда каждый из нас обретает подлинность своего бытия в «другом» и через «другого».
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 1995. – № 3. – С. 163-168.
Произведения
Критика