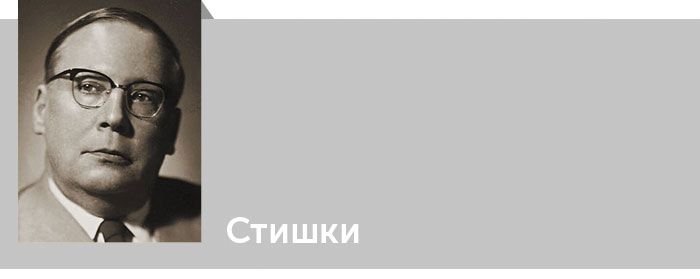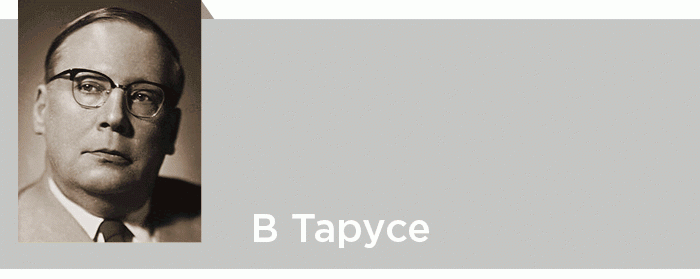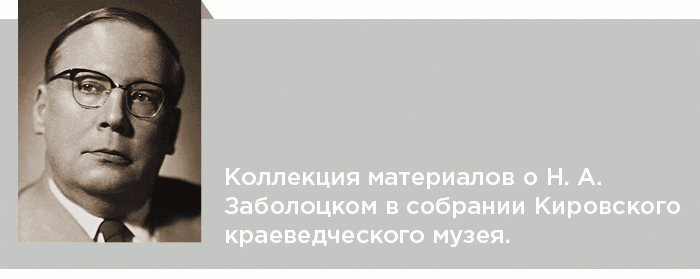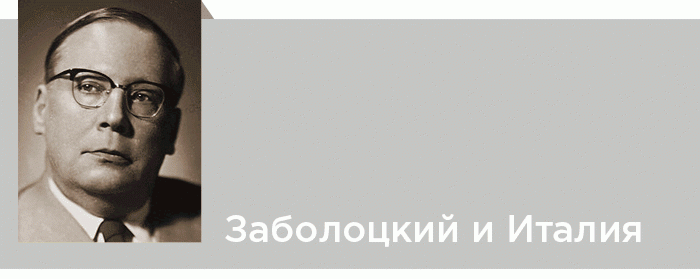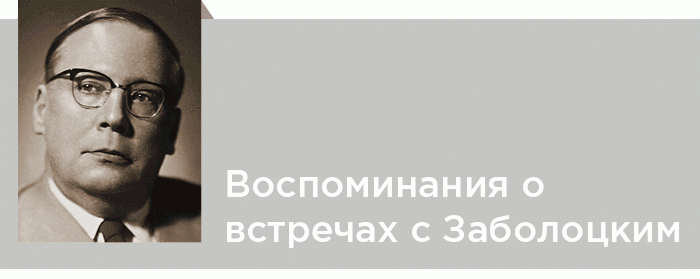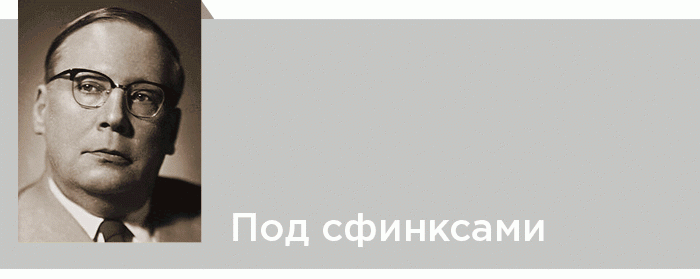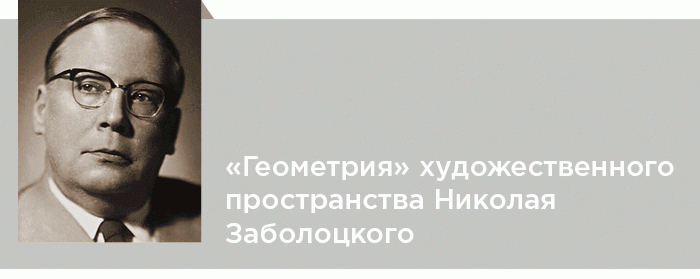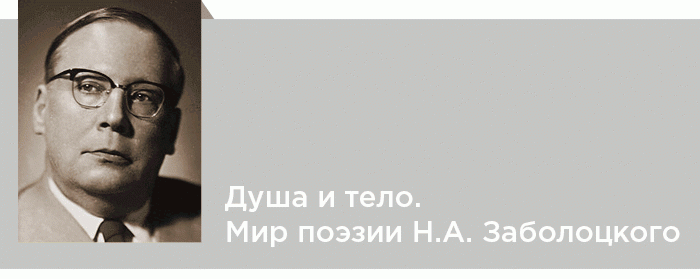Поэтика раннего Заболоцкого
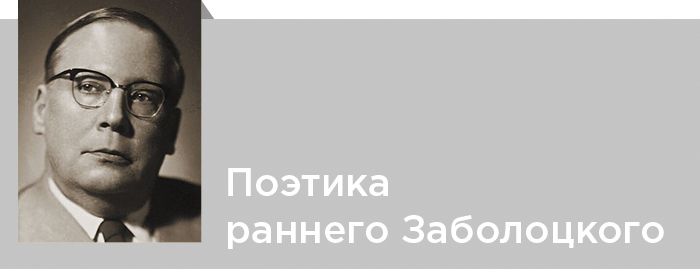
Герман Власов
БЫТОВОЙ СИМВОЛИЗМ И МЕТАФОРИЗМ «СТОЛБЦОВ»
Исследователи творчества Н. А. Заболоцкого, равно как и его современники, не раз отмечали скептическое отношение поэта к проявлениям мещанства[1]. В наибольшей степени это присуще раннему Заболоцкому, различившему в реалиях НЭПа несиюминутную проблематику – вытеснение традиционной культуры хаосом бездушных предметов. Будучи сыном земледельца, молодой автор «Столбцов»[2] потомственно тяготеет к Природе, к деревенскому, а не к городскому укладу. Ирония Заболоцкого в наибольшей степени свойственна именно его «городским» столбцам, перенасыщенным предметами быта – самовар, домашняя утварь, бутылки, паникадило, «билетов хрупкие дощечки», «штаны и башмаки» чиновников. Отдельно стоит сказать про описание разного рода снеди, кушаний, подчас не уступающее гоголевскому. Гротескный город Заболоцкого театрален, даже карнавален, а его жители увлеченно играют свои короткие роли. Персонажи города-театра меняются местами, но остаются рабами замкнутого пространства (ср. круглый цирк, театр, стадион). Природа великодушна и серьезна, а пространство игры, созданное человеком, таит опасность для него самого – даже футбольный мяч в стихотворении «Футбол» легко трансформируется в округлость головы форварда. Случаен ли этот круговорот?
Заболоцкий пишет столбец «Новый быт», где фактически говорит о неистребимой страсти человека к собиранию вещей. Хотя младенец, олицетворяющий новый быт, прямо из купели «садится в комсомол», – ничто человеческое ему не чуждо. Он женится, а затем обрастает всеобщими атрибутами – с той только разницей, что они удовлетворяют его ежедневные потребности. На столе появляются осетр, варенье, боржом, вино (пусть солдатское) и халва. Присутствие же попа сменяется карточкой вождя. Позднее (в столбце «Самовар») Заболоцкий и вовсе называет самовар «владыкой брюха», драгоценным попом комнат.
Вместе с тем, не принимая мещанства, Заболоцкий намеревается выстроить его своеобразную систему и иерархию. Самовар – «архимандрит чайников» и «император белых чашек», хотя почитание его есть перевернутое представление о мире (вогнутая поверхность отражает лицо наоборот). Горожане живут в замкнутом пространстве, собирая и «выворачивая наизнанку» символы окружающей его природы, богоданного мира (горка для посуды красноречиво сравнивается с горой Арарат).
Заметим, что композиция «Столбцов» поддерживает направление от центра к периферии (где центр – город), и логика финальных текстов ведет за пределы «центра». Заболев или отходя ко сну, отдельные персонажи книги догадываются, что за границами города они связаны с другими живыми существами. Так, больной в стихотворении «Болезнь» принимает жену за лошадь, а лирический герой «Бродячих музыкантов» видит в коте «дух седьмого этажа» и даже называет себя последователем кота-подвижника: «И я на лестнице стою, / Такой же белый, важный. / Я продолжаю жизнь твою, / Мой праведник отважный» («На лестницах»).
Ритм города и его карнавальный апофеоз – современный фокстрот – не могут, однако, породить нечто жизнеспособное. Если плод пекарни – младенец-хлеб, поднимающий руки и произносящий слово («Пекарня»), то играющий музыкант
Родил в последнюю минуту
Прекраснейшего из калек --
Женоподобного Иуду.
Не тронь его и не буди,
Не пригодится он для дела --
С цыплячьим знаком на груди
Росток болезненного тела…
(«Фокстрот»)
Пожалуй, максимум бытовых деталей можно найти в стихотворении «Свадьба», которое было написано Заболоцким после женитьбы друга. Достаточно перечислить, что подается на стол: ковриги, пироги, кулебяка, цыпленок (синий от мытья), закованный «в звон капусты» и одетый томатами. Причем цыпленок, помещенный на свадебном столе, сравнивается с покойником, над которым крестом опускается веточка сельдерея. Праздник, его карнавальное роскошество (с «парящей на крылышках» моралью, женихом, позабывшим звон копыт, попом «с большой гитарой на плече») кажется неуместным на фоне «грозного сна» молчания. Заболоцкий не обходит иронией и слабую половину человечества, столь укорененную в мещанской психологии:
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Вообще, женщины (взятые во множестве) у Заболоцкого – мещанки: его кошки «жмутся друг к дружке» («На лестницах»), а «девочки, носимы вместе» пытаются соблазнить умного младенца, идущего по пути учения («Незрелость»).
Наконец, огромный дом из «Свадьбы» с пробивающимся изнутри лучом летит в пространство бытия, где правит закон «труда и творчества». Мещанский быт неистребим, потому что есть Народный Дом – «курятник радости» и «амбар волшебного житья», где мальчик кормит «дамочку» орехами (ранее «умный младенец» «Незрелости» по-библейски сталкивался с соблазнительницами, когда полз наверх сквозь листья ореха), и весь город Ивановых.
Чиновники нового быта едут на службу в трамваях, а где-то их ждут «сирены в клубках оранжевых волос» и девки, «одетые дуньками», готовые жить в домах, где стулья ставят в ряд и всегда наготове трехэтажный самовар «в железных латах». Мещанство непобедимо как инстинкт, как удаль, с которой Иванов в который раз «целует девку».
Нагромождение образов, их пестрота и лубочность, характерные для начала сборника, постепенно рассеиваются… – и вот уже сама ткань стиха становится более пластичной. Читатель отдаляется от города и встречается с миром животных, которые не спят, но «во тьме ночной / Стоят над миром каменной стеной» («Лицо коня»).
Животный мир обладает сознанием и чувствами, но волею судьбы он бессловесен. Человек, увидев «лицо волшебное коня» должен был бы вырвать свой «бессильный» язык и отдать его коню. Тогда бы мы услышали
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.
Вырванный язык – первый этап превращения речетворца в пророка. Но для спасения животных необходим и сам творческий акт. Без его осуществления лошадь продолжает глядеть «покорными глазами / В таинственный и неподвижный мир».
Деревенская природа, где «речка девочкой невзрачной» прячется между трав, также вынуждена страдать. Животные не имеют названия – никто их еще не называл, и человек (художник) может осмыслить и преобразить изначальную суть вещей, обогреть природу, чтобы она не улыбалась «как высокая тюрьма» («Прогулка»). Девственность природы – сквозная тема лирики поэта. Десятилетия спустя она отзовется в образе девически зардевшейся орешины («Сентябрь») – и даже в образе некрасивой девочки, сохранившей в себе природную грацию. Превращение девочки в городскую разухабистую «девку», исчезновение девических черт в «дамочке» – вот неутешительный итог для тех, кто разрушает однородное обаяние природной жизни.
Только через творческий акт однообразный человек, а не «человек – владыка планеты» и «государь деревянного леса» способен понять Природу, воссоединиться с окружающим его миром животных и деревьев. Поэт – тот, кто
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова <…> кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.
(«Искусство»)
Не предмет как таковой, но душа предмета (Логос) должна стать ценностью для очеловеченного мира. В творчестве человек способен увидеть слаженное единство живого мира, где, «смешавшись в общем танце», разрозненные единицы живого становятся целым. На это постижение направлено дальнейшее развитие Заболоцкого (его движение «из города», за пределы профанного мира). Духовная эволюция поэта, подкрепленная тесным сотрудничеством (и спорами) с обэриутами, а также перепиской с вдохновителем русского космизма К. Э. Циолковским[3], обретет свою словесную плоть в таких уникальных произведениях как поэмы «Торжество земледелия»[4] (1931), «Безумный волк» (1931) и «Деревья» (1933).
В «Утренней песне», стихотворении 1932 года мир на рассвете предстает перед Заболоцким единым, а счастье – бессмертным. Налицо сознательно сделанный философско-религиозный выбор. Как писал А. Пятигорский, «...если ты уже выбрал философствование, то дороги назад, в нормальную жизнь, нет. И если ты попытаешься вернуться, то найдешь не жизнь, а то, что гораздо ниже и хуже жизни, и это будет гибелью тебя, который выбрал»[5].
Здесь уместно проанализировать «Утреннюю песню» Заболоцкого, сравнив ее со стихотворением Б. Л. Пастернака «Рассвет» (1947). О сходстве двух поэтов – особенно в поздний период творчества – написано немало[6]. Момент полистилистики или даже духовного преображения, кажется, пронизывает оба стихотворения. Можно сказать, оба они «не от мира сего» или трансцендентны. Этим отчасти объяснима декларативность обоих текстов, где их авторы свидетельствуют о подлинности переживания, и где стилистика и язык выдержанны в духе и манере письма каждого.
Пастернак, исходя из христианских убеждений, говорит «Ты значил все в моей судьбе...», вынося местоимение в начало строки и как бы пряча обращение к Богу[7]. У язычника или трансгуманиста Заболоцкого мы читаем, что «могучий день пришел»: появилось светлое начало, могущее собрать мозаику, так причудливо пляшущую (каждый ее фрагмент по-своему) в вышедших на шесть лет ранее «Столбцах». Действующие лица у Заболоцкого не кричат, не мычат, не издают нечленораздельные звуки, но поют. Утро скрепляет персонажи и детали стихотворения воедино, сообщает какой-то внутренний смысл (Пастернак) и музыку (Заболоцкий). Природа видна через отсветы на лицах людей и детей, через ветви деревьев. Найден некий звук или оттенок нездешней красоты – ключ для внутреннего преображения картины[8].
Различие, однако, в принципиально важных деталях: Пастернак пишет о городе, а Заболоцкий о деревенском доме (взгляде, наблюдении утра из квадратного окошка). У Пастернака городская улица зимним утром совпадает с «внутренним рассветом», с сопереживанием автора чужим людям, выбегающим на работу. Признание Пастернака, который «как от обмора ожил», звучит как бы вдогонку, вслед торопящимся к трамваям, оглашающим улицы звонками (подобным образом он «дает разъехаться домашним», ждет когда «никого не будет дома», а уже потом говорит главное). Персонажи Заболоцкого встречают рассвет, стоя вместе с людьми и животными, будто ожидая приглашения к танцу (не к этому ли шла его карнавальность?). Действующие персонажи у Пастернака подобны деталям хорошо отлаженного механизма в огромном городе с квадратами домов, линиями дорог, лестницами (зная об увлечении автора философией, напрашивается сравнение города с часами). Изображаемый мир Заболоцкого – мир деревянного и деревенского детства: сад, деревья, животные (снаружи) и люди (внутри дома). По лицам и радости людей и животных можно заключить о том, что «счастье человечества бессмертно». Заметим здесь, что Заболоцкий говорит о бессмертии именно счастья, какое возможно не в городском окружении «Столбцов» (часто вечернем и ночном), но на периферии, в деревне. Причем, именно на рассвете и в некоей летней «башенке», которую так и хочется поместить на вершину дерева. Если Пастернак удивляется слаженному и верному ходу огромного черно-белого (лежит снег) часового механизма, переживает за каждую его деталь и, таким образом, отдав всего себя без остатка, находит «свою победу», то Заболоцкий в редкие утренние часы может сложить детали большой головоломки и вызвать звук утренней песни.
Интересно, что оба поэта воспевают повседневность или быт. Ранее для Заболоцкого это было бы почти невозможным; но здесь его герои (даже, по-видимому, отрицательный козлик) поддаются общему энтузиазму[9]. Счастье это возможно, когда автор (человек) сопереживает другим, т.е. когда достигается созвучие нескольких настроенных (открытых гармонической музыке) инструментов. Элемент слаженности наблюдается везде – нет антагониста или дьявола (червя сомнения, грызущего яблоко в «Лодейникове»).
Оба поэта, начинавшие как модернисты, пережили трансформацию творчества (ранний и поздние этапы), политические и социальные потрясения, однако, остались верными себе, благодаря служению искусству и напряженной духовной работе. Оба, представляя соответственно «город» и «деревню», стали переделкинскими «дачниками», сажающими в свободное время картошку (последним текстом Заболоцкого стало «Не позволяй душе лениться...», а фактически завещанием Пастернака - строчки «... быть живым и только / Живым, но только до конца»[10]).
[1] Заболоцкий Н. Н. Поэзия, завещанная потомкам // Заболоцкий, Н.А. Столбцы и поэмы. Стихотворения. Москва, 1989, с. 3-10.
[2] Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы. – Ростов-на-Дону, 1999. "Ирбис".
[3] Заболоцкий Н. Н. Н. А. Заболоцкий после создания «Столбцов»: Конец 20-х - начало 30-х годов // Театр, 1991, № 11, с. 153-160.
[4] Заболоцкий Н. Н. К истории создания поэмы Н.А. Заболоцкого «Торжество Земледелия» // «И ты причастен был к сознанью моему…» Проблемы творчества Николая Заболоцкого: Материалы научной конференции к 100-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого. М.: РГГУ, 2005, с. 9 - 26.
[5] Пятигорский А. М. Философия одного переулка или история еще неоконченной жизни одного русского философа, рассказанная автором, а также некоторыми другими, более или менее русскими философами. М., 1992.
[6] См.: Кушнер А. Заболоцкий и Пастернак. // Новый Мир, 2003, № 9
[7] По свидетельству современников, критика рассматривала текст в духе «ленинианы». См.: Жирмунская Т.. Библия и русская поэзия. // http://imwerden.de/pdf/zhirmunskaya_bibliya_i_russkaya_poeziya_1999_text.pdf
[8] Ср. также со стихотворением Н. Гумилева: «Нет, ничего не изменилось / В природе бедной и простой, / Все только дивно озарилось / Невыразимой красотой». // Н. Гумилев. Электронное собрание стихотворения. http://gumilev.ru/verses/277/
[9] Интересное возражение можно найти в книге "Дневники" протоиерея Александра Шмемана: «Больше всего меня занимает — что делают люди, когда они "ничего не делают", то есть именно живут. И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. "Мещанское счастье": это выдумали, в это вложили презрение и осуждение активисты всех оттенков, то есть все те, кто, в сущности, лишен чувства глубины самой жизни, думающие, что она всецело распадается на дела». Протоиерей Александр Шмеман. Дневники. 1973-1983. Русский путь. 2009. ISBN 978-5-85887-330-3
[10] В этой связи можно вспомнить и «Волшебную скрипку» Н. Гумилева.