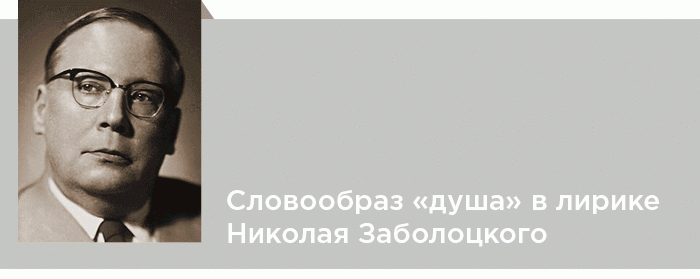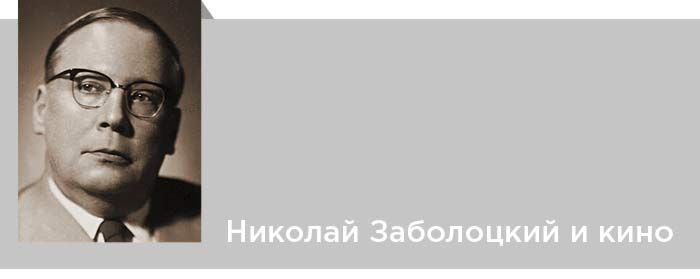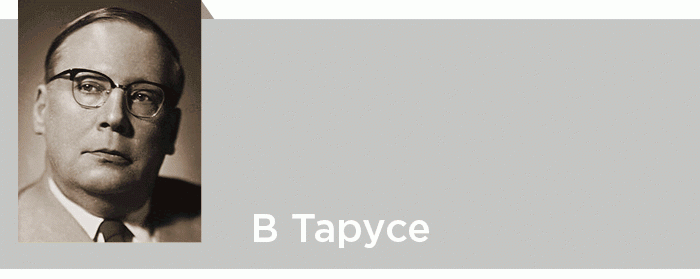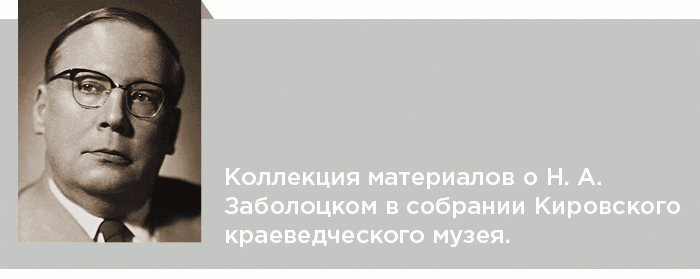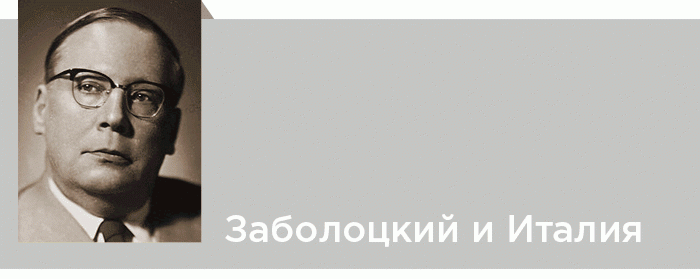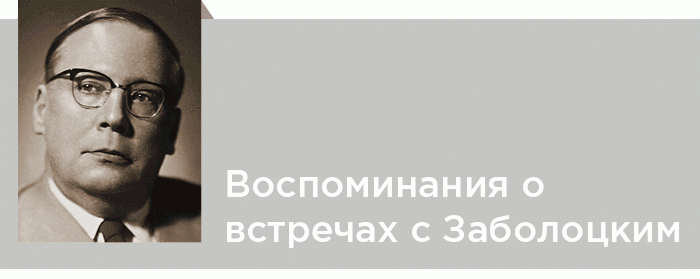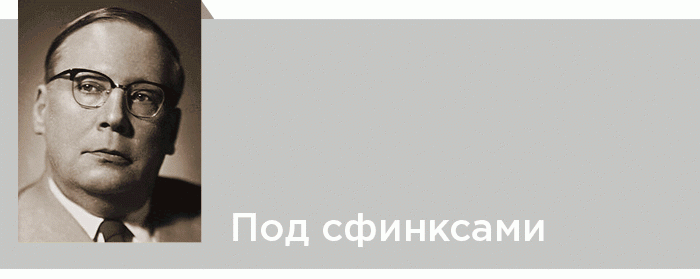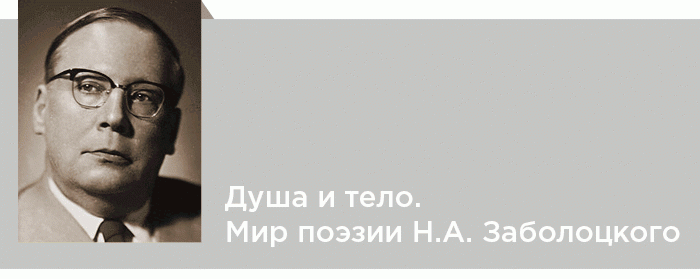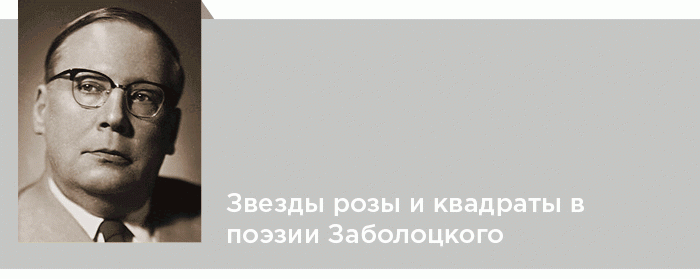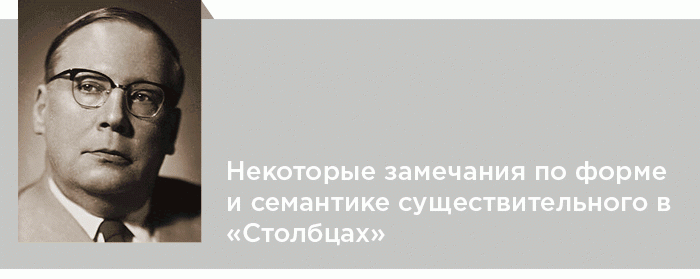«Геометрия» художественного пространства Николая Заболоцкого
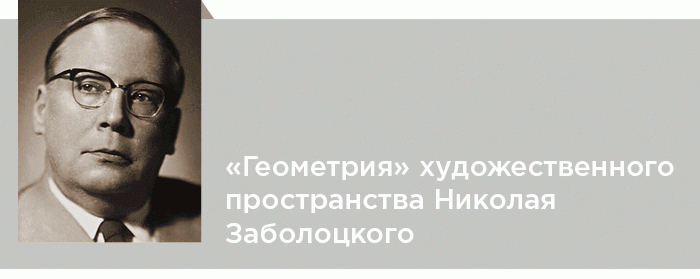
О позднем своем «классицизме» Заболоцкий сказал однажды Н. Роскиной, что и в традиционных формах выразимо то, что раньше он желал выразить в формах «резко индивидуальных». Легко увидеть здесь попытку некоего самовнушения: раз нельзя писать иначе, то поэту нужно принять возможное и уверовать в его необходимость. Но можно за этим признанием различить мотив для настоящего поэта более серьезный. Поэт в своем творчестве пришел к той внутренней ясности, которая требует сдержанности и простоты. Притом, что самый «корень» его творчества остался тот же.
В раннем Заболоцком «изнанка» его поэзии бросается в глаза: мир съехал с каких-то основополагающих основ. Быть может, и к науке поэта тянуло с такой силой потому, что там этот же процесс всемирного «вывиха» выразился нагляднее и очевиднее. В поэзии то же самое приходилось постигать интуитивно. Заболоцкий и пошел этим путем. С первых своих стихотворений.
Первая страница «Столбцов». «Белая ночь». И сразу — какие неожиданные образы:
...Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Мир странный, дробный, иногда похожий на какое-то нагромождение образов. При этом каждый образ — плотен, «мясист». Хохот сравнивается с попугаем, и сразу видится хаотичная траектория полета и слышится шум хлопающих крыльев. А ниже...
Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел, бела.
Ночь, т.е. что-то совершенно бесплотное, здесь ложится «вдоль по траве», как некий «предмет». Да еще «как мел, бела». Белая ночь — которую обычно и ощущаешь как особое свечение воздуха — здесь тверда, как мел.
Мир очень плотный, очень телесный. И словно сложенный из каких-то обломков. Здесь как у Вагинова — образы склеиваются в странные, неожиданные сочетания. Но у того основа была музыкальная. Если и можно различить в Вагинове живописное начало, то оно тоже какое-то полупризрачное. Не случайно Адамович обмолвился: поэзия Вагинова сродни живописи Чюрлениса, т.е. живописи с «музыкальной» основой.
Заболоцкий — плотен и мускулист. Часто — скульптурен. Часто его поэзию сравнивают с живописью Филонова. Они, и правда, одноприродны. Поздний Филонов — это именно «обломки» мира, составленные в новые сочетания.
Но с Филоновым Заболоцкого роднит не только это. Вспомним стихотворение «Лицо коня». Одухотворенное видение животного. И вспомним картину Филонова «Семья крестьянина»: изможденные лица людей, коня и пса. Животные так же худы и угрюмы, как и люди, и глаза их полны такой же мудрости, понимания горькой доли — не своей только, но всего земного бытия, как такового. За угрюмостью — мудрое спокойствие. Есть в русской литературе еще один подобный образ — из вариантов платоновского «Котлована»: «Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение»1.
Филонов, Платонов, Хлебников... Рядом с Заболоцким это имена не случайные. В русском новом искусстве начала века мы можем отчетливо увидеть две линии. Одна — это движение к абстрактному, как таковому: «Черный квадрат» Малевича или «Дыр бул щыл...» Крученых. Другая — странное, часто очень прихотливое сочетание сверхсовременного с архаическим. Это как раз Хлебников, Филонов, Платонов, Заболоцкий. Ряд можно раздвинуть: Скрябин с его «колокольными» звучностями, Рахманинов с ощущением исторического прошлого и хоровым началом в его мелодизме, Ремизов с «провалами» в древнерусскую книжность, Розанов, уловивший язык мыслей, т.е. человеческий праязык, Флоренский, пытавшийся проникнуть в суть понятия через этимологию слова и открывший обратную перспективу, Петров-Водкин, эту перспективу воплотивший в своей живописи... В картинах Петрова-Водкина мы видим что-то «футуристическое» и, одновременно, родственное древнерусской иконе. У Филонова — та же память о древнем, то же иконописное начало, но при еще более резкой «дробности» его мира. Здесь он шагнул не только в пространство «обратной перспективы», как Петров-Водкин, но и в какое-то предмирное начало. Совокупность разъятых форм, из которых еще не составился мир как Вселенная. То же мы увидим у Хлебникова. Здесь слово будто еще не имеет истории, но в нем трепещут те «потенции», которые лишь частично смогут воплотиться в будущих смыслах слова. У Заболоцкого — то же самое, но не в слове, не в «морфологии», а в связи слов и образов, в «синтаксисе». (Это вообще характерная черта обэриутов, но у Заболоцкого она особенно «выпирает» из-за «телесности» его ранней поэзии.)
Когда, чуть позже, Заболоцкий приходит к своей «натурфилософской» поэзии, его образы сохраняют свою «мускулистость». Но «пространство» этой поэзии становится более организованным. В стихах 30-х годов есть своя геометрия, и во многом она напоминает те «парадоксальные» пространства, которые известны математикам как «лист Мёбиуса» и «бутылка Клейна». По первому впечатлению может показаться, что сближение с этими математическими моделями художественного пространства лирики Заболоцкого — нечто придуманное, даже нелепое. Но речь идет здесь не о математике как таковой, но о некоторых образах математики, которые дают возможность увидеть художественный мир Заболоцкого под необычным углом зрения. Желание тем более объяснимое, что к математическим «реалиям» для объяснения самых разнообразных явлений прибегали — умея это делать весьма тонко и точно — и о. Павел Флоренский, и А.Ф. Лосев. Математика способна описать не только мир действительный, но и — если вспомнить название одной из поэм Вяч. Иванова — «миры возможного». Математическая модель может дать наглядное представление о вещах труднообъяснимых.
Известнейшее стихотворение Заболоцкого — «Вчера, о смерти размышляя...»:
...И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я.
Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.
Для Заболоцкого, поэта-натурфилософа, важна идея первоначала. Формы предшествуют телам (очевидный платонизм). Они — неистребимы. Некогда умершие тела существуют и в нынешнем мире. В камне — проступает «лик Сковороды». И тем самым хотя бы часть мудрости Григория Сковороды «светится» в глубине этого камня. Прошлое — присутствует в настоящем. В каменном рельефе — совмещение времен.
Если мы представим мир как «лист Мёбиуса», движение по этому листу — как движение во времени, то, двигаясь вдоль этой односторонней поверхности, рано или поздно придем в точку, «изнанкой» которой станет точка исходная. Там был — «лик Сковороды», здесь — камень, который в себе его ощущает. Эта геометрия обнаружится и у позднего Заболоцкого. В стихотворении «Можжевеловый куст»:
...Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
«Ее» улыбка, некогда увиденная поэтом, проступает сквозь сплетение ветвей. То же «прошлое в настоящем», только теперь образ утратил телесность, он прозрачен, немножко «размыт», он не «проступает», как «лик Сковороды» в стихотворении «Вчера, о смерти размышляя...», но «просвечивает».
Здесь и заметно отличие позднего Заболоцкого от раннего. После всех мытарств, через которые ему суждено было пройти, он получил дар видеть не «телесный» мир, но мир волн и энергий. Как в стихотворении «В этой роще березовой...» — один образ наплывает на другой, за ним светится третий. И та же сложная геометрия встает и здесь. Часто — не «лист Мёбиуса», односторонняя поверхность, которая похожа на «двустороннюю», но «бутылка Клейна». То есть односторонняя поверхность, похожая на обычное «трехмерное» объемное тело. Образ «бутылки Клейна» прост: вытянутое, изогнутое горлышко врезается в бок бутылки и выходит наружу через ее дно. Есть в физике модель маленьких «черных дыр», размером с атом, внутри которых находится целая Вселенная. Если в «бутылке Клейна», в том месте, где горлышко соприкасается с боковиной, мы заузим его до размеров атома, а там, где оно, расширяясь, выходит через дно, увеличим диаметр этого расширения до размеров Вселенной, мы и получим модель «вхождения» в такую неисчерпаемую «черную дыру». И в последних строчках стихотворения «В этой роще березовой...» мы эту геометрию тоже можем увидеть:
...С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.
Герой убит. Он уходит в «мир иной». Мир земной, в котором он находился, погружается в молчание («замолчит пулемет»). Пуля ударила в сердце. Но это и есть та самая точка, в которой живет новая Вселенная. И последняя строфа, которая начинается со строчки: «И над рощей березовой...», которая возвращает к началу стихотворения — рисует замкнутую поверхность, подобную «бутылке Клейна».
Особая «геометричность» художественного пространства позднего Заболоцкого бросается в глаза. Уже первые строки напоминают чертеж: «В этой роще березовой...», т.е. «здесь» (точка А), — «Вдалеке от страданий и бед...» («там», удаленная от А точка Б). Или — «Где-то в поле, возле Магадана, посреди опасностей и бед» (эта самая точка Б, место «страданий и бед» в стихотворении «В этой роще березовой...», место «опасностей и бед» в стихотворении «Где-то в поле, возле Магадана...»). Тут же: «Вкруг людей посвистывала вьюга» (точка и ее «эпсилон-окрестность»), подобная «геометрия» и в «Слепом»: «А вокруг старика молодые шумят поколенья...». В стихотворении «Лебедь в зоопарке» пространство расходится концентрическими кругами, как в параболоиде, поднимаясь от земли — к верхним этажам города:
И вся мировая столица,
Весь город сверкающий наш,
Над маленьким парком теснится,
Этаж громоздя на этаж.
Заболоцкий, побывавший на границе жизни и смерти, способен видеть даже мир «четырех измерений», мир, где подвижная координата времени превращается в четвертую координату пространства. Именно в стихотворении «Прощание с друзьями», где описывается мир загробный, то есть — вечность:
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.
В сущности — вспоминается мир «разъятых форм», из которых строились «Столбцы». А неподвижная орбита — застывший круг — это уже временная координата, переставшая быть процессом, превратившаяся в замкнутую линию.
То, что произошло с поздним творчеством Заболоцкого, — не просто литературное «опрощение», приближение к классическим литературным формам. Но и то поразительное усложнение зрения, точнее — утончение зрения, которое, по-видимому, и могло проявиться только после самых жестоких испытаний. С ним произошло то же, что вычитывается из его стихов: художественный мир «раннего» Заболоцкого становится «изнанкой» его позднего творчества. Но неожиданную «замкнутость» можно обнаружить при взгляде на все его позднее творчество.
Одно из первых стихотворений, которое он напишет в 1946 году, возвращаясь к нормальной жизни, — «Утро». Оно начинается со строки:
Петух запевает, светает, пора!
Крик петуха пробуждает к жизни Заболоцкого-поэта. Но этот образ и завершает его творчество. Стихотворение «Петухи поют». Здесь обретенная им многомерность зрения выразилась с предельным многообразием:
На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
С первых же строк — расширение пространства. Сараи, бани, гумна — во множественном числе, т.е. ветер движется повсеместно. «...Вздувает верхи» — т.е. и кроны деревьев, и кровлю, где солома колышется, и, быть может, провода «в соломе»... И тут же это «расширенное» пространство собирается в точку — в образ «петуха». Ее «звездочеты ночей — петухи» подобны точкам звезд на карте неба. От строки к строке образ петуха обретает все новые смысловые грани. Он вбирает далекое прошлое:
Я сравнил бы их темные души
С циферблатами древних часов.
Время здесь как бы обращается вспять, к истокам мира. И сами петухи обретают черты древних мудрецов. Гераклита называли «Темным», настолько он было непонятен современникам и потомкам. У Заболоцкого — «темные души», загадочные существа, знающие особый, никому более не ведомый язык.
«Здесь, в деревне...» —то есть сейчас, в нынешней обыденности:
...Трубным голосом огненный витязь
Из курятника чествует вас.
Древность, живущая в душе петуха, отзывается в настоящем. Тот же «лист Мёбиуса», который способен показать, как прошлое становится «изнанкой» настоящего. Но тут и «огненный витязь» — отсыл и к мифологическому василиску, этому странному метису, с чертами змеи и петуха. Василиск от петуха рождается, но крик петуха его и уничтожает. Сумрачный трепет мифа ощутим в этих строках. Но различим и «красный петух», образ пожара, который сопутствует историческим «изломам», революциям, войнам.
Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих...
Строки ведут к началу начал. Здесь слышится древность праисторическая, древность извечная. Это даже не просто нерасшифрованные письмена, но язык, который не может выразить человеческая письменность: «разум созвездий» живет в этих «вымерших стихах». И далее — «Семизвездье Большого Ковша», сжавшееся в «фокус». В душе петуха — огромный космос. Та воронка «бутылки Клейна», где вход «узенький», а выход — размером с мироздание.
«Изменяется угол паденья...» — т.е. земля поворачивается, звездный свет падает под другим углом. Заболоцкий видит петушиный крик «из космоса», где и сама земля — точка малая, а петух — точка на этой точке. «Напрягаются зренье и слух...» — не только петушиное зренье, петушиный слух, но зренье и слух всей земной жизни.
И, взметнув до небес оперенье,
Как ужаленный, кличет петух.
«Угол падения равен углу отражения». Вселенная вошла в микроскопическую точку — и тут же точка «взорвалась», разросшись до размеров Вселенной. Огромный мир входит в точку и «возвращается» из нее. Все мироздание видится как «колебательный процесс». Но «взметнув до небес оперенье» — это наплывает на эти строки и образ мирового пожара. То «слоение образов», которое присуще позднему Заболоцкому, и которое и отражает мир «волновой», а не «телесный».
«И приходят мне в голову сказки...» и далее. Сознание человека — призывается к древности, к умению услышать мгновение, увидеть его во временах и пространствах. И следом, в двух строфах, спрессованы исторические «изломы времен», то прошлое, которое отражается в настоящем — в душе петуха. Каждый такой «излом» — перекрутка «листа Мёбиуса». И следуют они один за другим.
«Пел петух каравеллам Колумба...» — то есть крик петуха запечатлел то мгновение, когда открылся новый мир; «Магеллану средь моря кричал...» — то есть тем, кто «замкнул» земной шар. В самом образе кораблей и мореплавателей петух опять сближается с вечностью — со звездным небом. Хотя о звездах в этих строфах ничего напрямую не сказано (еще один «наплыв» образа), но корабли тех времен шли «по звездам».
«Пел Петру из Коломенских далей...» — схвачен излом русской истории; «Собирал конармейцев в поход...» — еще один излом, и далее — «година великих печалей» и «эпоха железных работ» — и гражданская война, и стройка, и коллективизация, и вся трагическая и героическая советская история. За каждым мгновением, с «изнанки», — далекое прошлое (петровские времена «внутри» времен советских). С этой сложной космологией и историософией Заболоцкий подходит к последней строфе:
И теперь, на границе историй...
1958-й, как и вообще 50-е годы, конечно, стоит на границе истории. Заболоцкий мог не знать всех «изломов» своего времени, но ощущал его «кончиками пальцев». Из жизни уходит великое поколение: Андрей Платонов, Иван Бунин, Сергей Прокофьев, Георгий Иванов, и далее, далее... Он и сам — из этого поколения. И — в данную минуту — ощущает «изнанку прошлого» в настоящем», неуничтожимость прошлого, неуничтожимость своего времени, лики которого будут проступать сквозь всякое последующее «настоящее».
И теперь, на границе историй,
Поднимая свой гребень к луне,
Он, как некогда витязь Егорий,
Кличет песню надзвездную мне!
Петух, порождающий василиска, смесь петуха со змеей, здесь видится Георгием-победоносцем, поражающим змею. В мифологических представлениях крик петуха действительно убивает василиска. Мифологическое пространство замкнулось именно на «витязе Егорий». Но самое неожиданное не то, что в последней строке Заболоцкий предощущает свой уход в мир, где «неподвижна лунная орбита». Как все большие поэты — он не мог не чувствовать «зов вечности», как не мог не сказать о том, что скоро с ним произойдет. Ошеломляет другое. О собственной скорой кончине он говорит с религиозным пафосом. И — в мажоре.
Примечания
1 Платонов А.П. Котлован. Текст, материалы творческой истории. СПб.: Наука, 2000. С. 188.