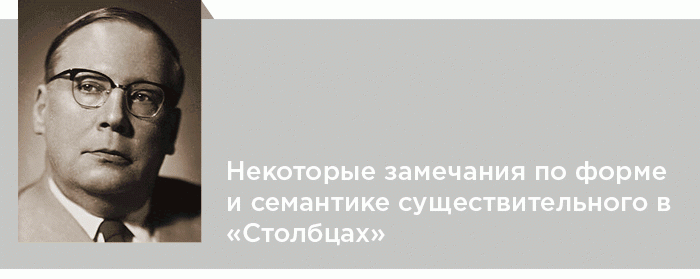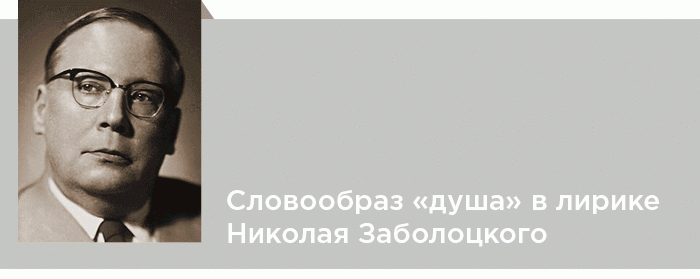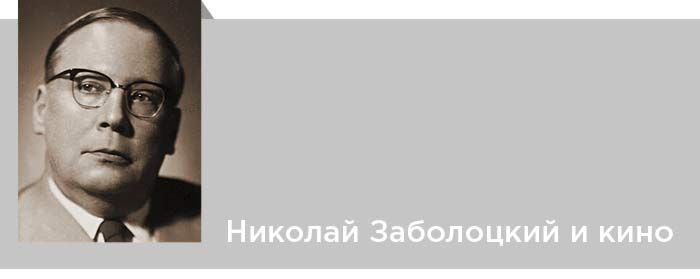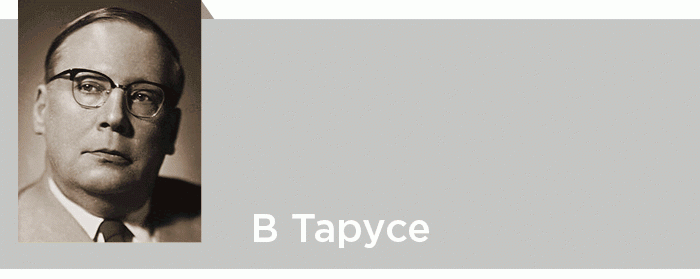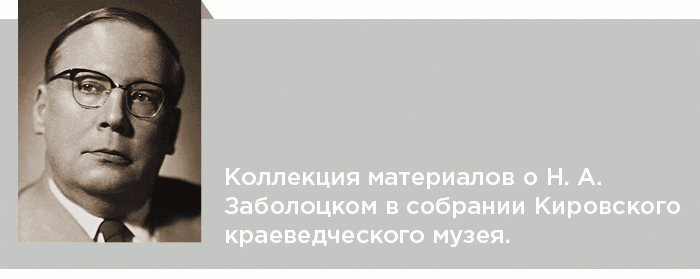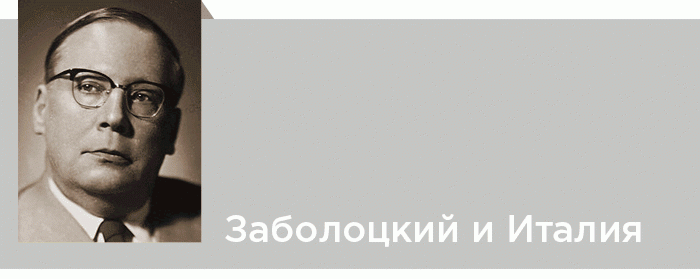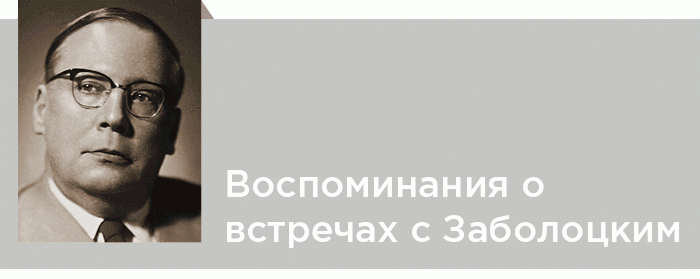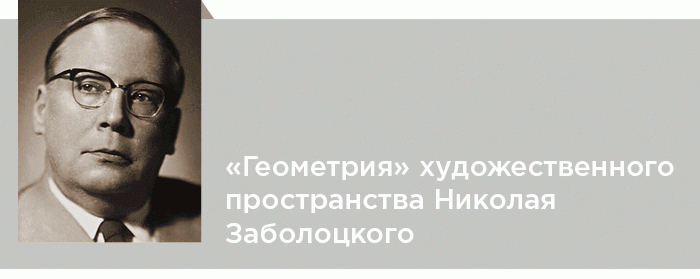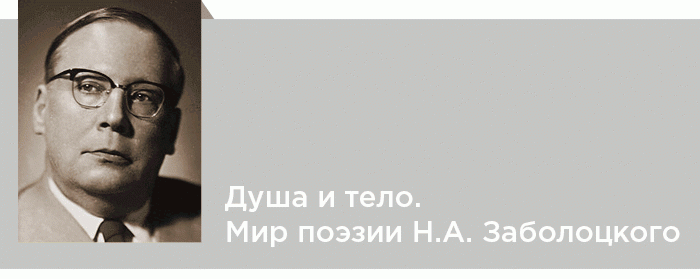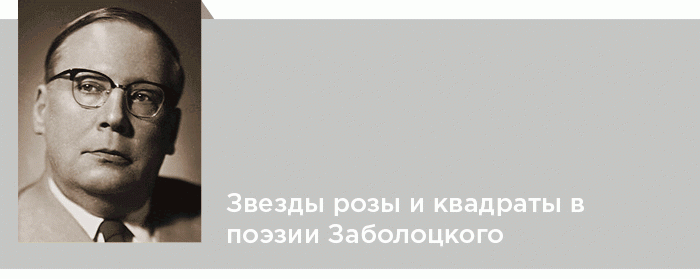Под сфинксами
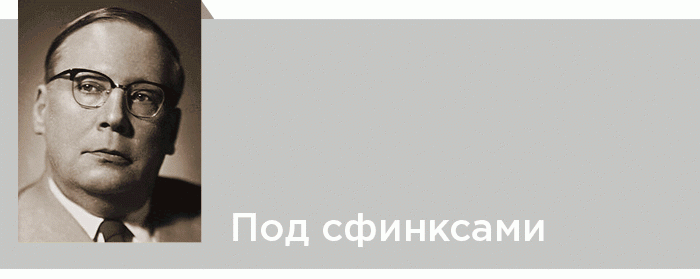
Евгений Рейн
(Москва)
ПОД СФИНКСАМИ
Давно замечена склонность событий и находок появляться попарно. Так вот дважды за три или четыре месяца возникла в моей жизни поэзия Николая Заболоцкого. Почти точно могу сказать, что было это в первой половине 1957 года. Та компания поэтов, с которой я был связан тогда, старательно разыскивала книги, уничтоженные или изъятые из обращения в сталинские годы. Но время уже расслабилось, прошел XX съезд, и в букинистических магазинах кое-что можно было отыскать, особенно при дружеском участии самих торговых книжников.
В магазине на углу Литейного и Жуковского работал наш общий приятель (кстати, замечательный знаток книги) Алик Рабинович. У него-то другой наш компанеец, Сергей Вольф, и достал «Столбцы». Книжечка эта считалась по тем временам редкостью. Вольф из рук ее не выпускал, и я специально приходил к нему домой на Подьяческую и часами перелистывал тоненький белый томик 1929 года издания.
А наверное к этому событие случилось в мае того же года. Стоял изумительный день питерской весны — солнечный, еще не жаркий, продутый ветром и светом. Мы назначили друг другу свидание на набережной, у сфинксов. Мы — это Лев Лосев, Володя Герасимов, Михаил Еремин, Владимир Уфлянд и Юра Михайлов и примкнувший к ним Рейн. И вот на это свидание Герасимов (человек очень замечательный, отдельный, про его стихи, если он их и писал, я не знаю ничего, но его уму, непостижимая образованность, страсть к систематизации и просветительству сыграла существенную роль в общей нашей юности)... так вот он где-то достал давний номер ленинградского журнала «Звезда», номер 2/3 за 1933 год. А в нем была опубликована поэма Заболоцкого «Торжество земледелия» и стихотворение «Меркнут знаки Зодиака...» Я будто бы сейчас вижу в руках у Володи этот журнал в серой бумажной обложке. И вот тогда же, на ступеньках Невы, под фиванскими сфинксами Герасимов прочел вслух эту поэму. Почему-то начало поэмы стало для Герасимова чем-то вроде шуточной расхожей поговорки. Где бы и с кем бы он ни встречался, вместо приветствия он серьезно спрашивал: «Не хороший, но красивый, это кто глядит на нас?»
Этим чтением я был просто потрясен. Постараюсь объяснить почему.
Во-первых, я уже прочел «Столбцы», кое-как я знал поэтическое происхождение Заболоцкого от Хлебникова. Но Хлебников был для меня все-таки архаичен и совсем другой крови. Никаких личных выводов из хлебниковской поэзии я сделать не мог. Надо заметить, и Пастернак почти в полном объеме, и доворонежский Мандельштам были нам уже известны. На какое-то время все мы стали «темными» поэтами, более того, невразумительность считалась даже неким хорошим тоном. «Главное, чтобы поэт сам что-нибудь имел в виду», — эту фразу я услышал от Ахматовой гораздо позже описываемых событий. Но что-то в этом роде я полагал и раньше. Однако тоска по новому, острому и выразительному реализму, видимо, уже томила и меня и моих приятелей. Самим нам открыть его было не под силу. И вдруг оказалось, что он уже существует, более того, он сочетается с нашей ежедневной жизнью, с нашим городом. Если я шел в гости к Лосеву, я от Международного проспекта (ныне Московский) сворачивал на Обводный канал. В субботние и воскресные дни у канала толклась бедная барахолка, то и дело разгоняемая милицией. По сути, я видел те же картины, что и Заболоцкий:
Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет, как кречет:
Маклак — владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движенье,
Толпу томит штанов круженье,
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвесть,
Вся прелесть и изнеможенье.
«Народный дом» (в дни моей молодости — кинотеатр «Великан»), пивная «Красная Бавария» (потом ресторан «Чайка») — все это было у нас под рукой, но все это уже стало поэтической собственностью Заболоцкого. Он открыл секрет новой оптики в поэзии. Это была четкая, карикатурная графика, несколько дурашливая, с законным и естественным словарем советского горожанина. В ней не было условных котурнов, но была наново открытая зоркость. Подражать «Столбцам» можно было только эпигонски, настолько очевидно сам поэт закрепил за собой свои новации. Но мало того, оказалось, что и от этой новой поэзии сам поэт вскоре отдалился. Он перешел к утопии и очаровательной «мелкой философии на глубоких местах». Уже в «Торжестве земледелия» он попытался с домашней наивностью предположить картину идеального мироустройства. Ни про Федорова, ни про Флоренского, ни про Вернадского мы тогда, конечно, ничего не знали. Для нас это были только стихи, сияющие от свежего поэтического сока, как переводные картинки нашего детства. Я все-таки написал несколько стишков «под Заболоцкого», они сохранились в старой тетради. Я описывал какую-то таинственную подворотню, через которую якобы можно было совершить магический полет во все концы света.
Войдешь туда, и плавно, плавно,
Сгребая воздух стилем «брасс»,
Бесповоротно и бесплатно
Ты понесешься на Кавказ.
Гляди-ка, домики и пляжи,
Гляди и пролетай вперед,
А там и девка пляску пляшет,
Пары разводит пароход...
И так далее. Но довольно скоро я опомнился. В том-то и талант, и открытие Заболоцкого, что он, как древний кочевник, быстро истоптал первую траву и ушел дальше в утопические и натурфилософские края, куда дорога для подражателей наивна и безнадежна.
Поздний Заболоцкий — настолько иная страна, что писать о ней надо отдельно.
А видел я Николая Алексеевича и говорил с ним только однажды. Думаю, что это было весной 1958 года, в Москве, в Центральном доме литераторов. За год до этого, в эпоху не очень бурных студенческих волнений меня исключили из института. Я уехал работать в геологическую партию на Камчатку, а на обратном пути на месяц задержался в Москве и познакомился с Давидом Самойловым. Инженерная моя судьба не клеилась, и я попробовал «жить пером». Самойлов отвел меня в издательство «Малыш», и там по его настоянию со мной заключили договор. Но главное, он первым дал мне подстрочники для поэтического перевода. Работал я и для издательства «Худлит». И вот я привез из Ленинграда готовые переводы, но хотел показать Самойлову, прежде чем нести их в издательство. Я нашел Самойлова в дубовом зале ЦДЛ, вместе с ним сидели еще два человека. Одного из них, Бориса Грибанова, я немного знал. Другого видел впервые.
Человек, ничуть не напоминавший литератора: гладкая, короткая прическа с пробором, круглые очки, приличный темный костюм. По внешности — бухгалтер или счетовод, или провинциальный чиновник невысокого ранга. У ноги — толстый потертый портфель. Самойлов взял мои листки, но читать не стал, сунул в карман. За столиком шел спор о каких-то теориях — (Маркс был прав, но где теперь истинный марксизм, марксизм должен быть в глубине эстетики...) — что- то в этом роде. Человек в очках слушал и молчал. Представился он очень невнятно. Через десять минут он спросил у меня: «Вы тоже переводите?» И тут я таинственным образом догадался, что это Заболоцкий: «Да вот, пытаюсь, Николай Алексеевич».
Дальнейшее я запомнил буквально.
«Хотите выслушать совет опытного человека?»
Я ожидал, что он скажет мне что-нибудь по существу переводческого дела. И я ошибся.
«Будьте точным человеком».
«В каком смысле?»
«Будьте дисциплинированны. Если обещали сдать заказ в среду, он должен быть готов во вторник; если Вас ждут в редакции в три часа, приезжайте в два».
Я хотел перевести разговор на какие-нибудь литературные темы, но Заболоцкий налил себе фужер красного вина и больше уже ни на что не откликался.
Через полгода в Ленинграде я узнал о его смерти. А еще через небольшое время случайно я зашел в редакцию «Ленинградской звезды», что помещалась тогда на улице Воинова в Доме писателей. В этот день редакция переезжала на Моховую. На полу лежал листок, я его поднял. Это было стихотворение Заболоцкого «Прощание с друзьями», мне показалось, что это почерк поэта, но окончательно я в этом не уверен. Склонный уже тогда ко всякого рода тайным символам и намекам, я взял этот листок себе на память, как реплику великого поэта, не доданную мне в скупой и прагматической действительности.