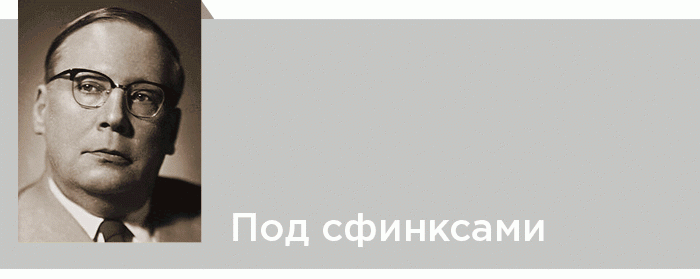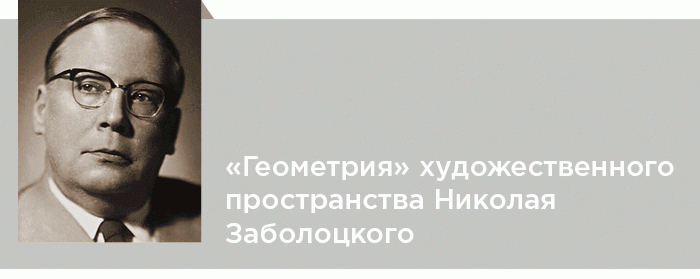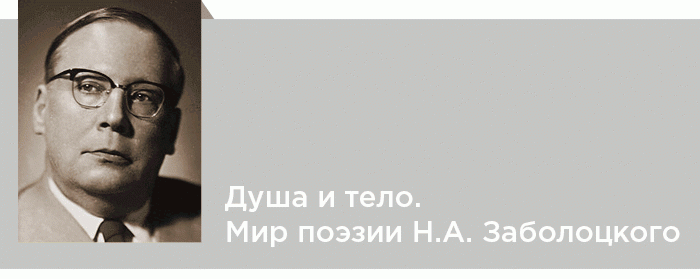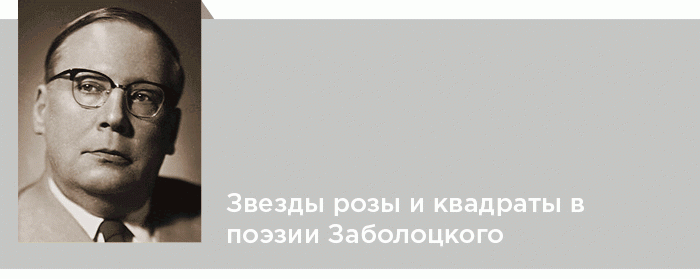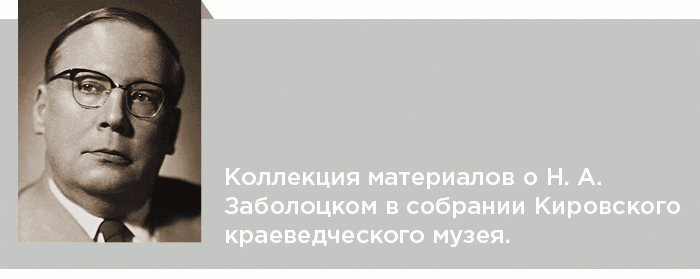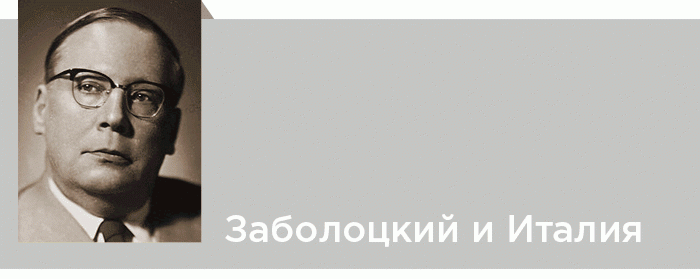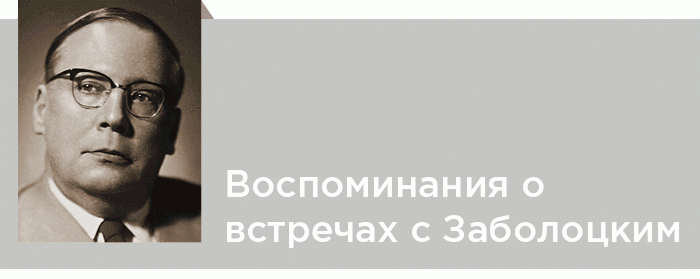В Тарусе
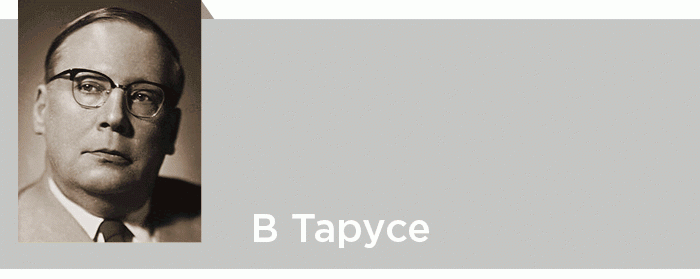
Наталья Заболоцкая
В ТАРУСЕ
В мае 1957 года никаких планов на предстоящее лето не было. Неожиданно узнала, что папа едет в Тарусу. Он, наверное, внезапно поддался уговорам Гидашей, встретив их где-то в Союзе писателей. Антал Гидаш, венгерский писатель, и его жена Агнесса Кун жили в те годы в Москве. Папа быстро собрался, и Гидаши увезли его на своей машине. Мне оставил тарусский адрес Гидашей.
Покончив с экзаменами, я собрала рюкзачок и отправилась на поезде до Серпухова, а там на пыльной бесприютной площади штурмовала автобус до Тарусы.
Гидаши снимали комнаты в большой темной избе — за дощатым забором, в верхней части городка, расположенного на крутом берегу Оки. (Вся улица — глухой забор и ворота). Вышел Гидаш. Не зная, как назвать его, я сказала: «Здравствуйте, куда вы дели моего папу?» Гидаш засмеялся. С таким же смехом он потом много раз изображал эту сцену.
Папа жил в небольшом домике совсем недалеко, на тихой соседней улице с множеством тропинок в зарослях спорыша и аптечной ромашки. Дважды в день тихонько проходило стадо (козы, овцы, две- три коровы), людей не видно, а появление машины было событием.
Большую часть дня он проводил в комнатке перед окном на эту улицу. Там он работал за небольшим столом с пишущей машинкой «Continental». Как всегда вокруг папы, там уже образовалось особое упорядоченное пространство. Это абсолютный порядок: и чисто внешний — на письменном столе, в рукописях и в печатном тексте, в одежде; и внутри — он собран и сосредоточен, внимателен и доброжелателен. Обитатели дома отвечают деликатной почтительностью.
Вокруг него каким-то образом исключаются суета, грубость, навязчивость, капризы. Это знали всегда мы, дети, и в присутствии папы вели себя, по мере сил, достойно. Чувствуют это и обитатели дома на улице Карла Либкнехта.
Папа снимал две смежные комнатки и узенькую открытую верандочку, куда можно было попасть из комнаты через окно (мой путь) или по маленькому коридорчику, ведущему на крылечко. Мне хорошо жилось и дышалось на веранде (только ночные ливни загоняли меня в дом). Там мы едим и встречаемся с друзьями. На стене у стола — большой рыночный лубок с кипарисами, лебедями и красавицами. Над столом — лампа в цветном платке. На перилах — фиалки в цвету. Минимум удобств, и все очень скромно. Но я запомнила еще с 1947 года папин рассказ о мудреце, который отказался от дворца и поселился в нищем чулане, где ничто не отвлекало от размышлений. Папе тогда прекрасно работалось в комнатушке наверху дачи В.П.Ильенкова в Переделкино в березовой роще. Хорошо работается и здесь.
Дом очень тихий. Хозяин — Федор Дмитриевич Грачев, человек вполне земной. Хозяйничает. Чинит. Красит. Денежки любит. Собирает еще незрелые яблоки, чтобы продать их втридорога у ворот пионерского лагеря. Выпивает частенько, но никогда не буянит.
Хозяйка Мария Дмитриевна совсем не похожа на мужа. Она обычно молчит, кроткая и работящая. («Целый день стирает прачка, муж пошел за водкой»). Со строгим лицом и низко повязанным платком она ходит на богомолье — в Истомино. Замаливает какие-то грехи. Ханжества в ней нет.
В саду в беседке обитает загадочная немолодая воздушная фигура — Полина. Очень застенчивая.
Но более всех связана с нами — Галина Артемьевна, седая и морщинистая, с яркими армянскими глазами и повадками светской дамы.
Ее кумир — Константин Симонов, в лучшие свои годы она работала в Краснодарском издательстве. К папе она тоже относится восторженно. Она ведет все наше хозяйство. Папа, как всегда, к еде совершенно не требователен и ест мало, я тоже не капризничаю. Продуктовая база у Галины Артемьевны весьма слабая. Но иногда ходим на воскресный базар, многолюдный, с подводами. Однажды купили баранину и нежно любимые Артемьевной «синенькие». Тушеная баранина с баклажанами получилась необычайно вкусной, но не единственная ли это была роскошь нашего стола?
Существо для особо нежной заботы Артемьевны — маленький старенький терьерчик Дружок. Ей кажется, что он плохо ест, и она повторяет с особым таинственным выражением: «Он не ест, потому что у него, знаете, такой пэриод». Милая собачка почему-то очень полюбила папу. Когда он выходил на верандочку покурить среди работы (подальше от окон, чтобы не надымить в доме), Дружок появлялся на крылечке и всячески прыгал, полаивая и повизгивая, — умильно разговаривал. «На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой».
Живет еще кошка с котятами. В сарае живут затворницы-свинушки. А птиц — кур, роскошного петуха, гусей — выпускают в наш маленький дворик между сараем и высоким забором, можно даже их кормить. И вот стихи: «..петухи одни да гуси. Господи Исусе!», «Птичий двор», «Петухи поют». Папа не выглядел здоровым человеком, был довольно грузен и малоподвижен. И уж, наверное, не всегда хорошо себя чувствовал, но ни разу не пожаловался. По утрам у него всегда светлое, сосредоточенное выражение. Чувствую в нем ранимость и беззащитность и в то же время строгую дисциплину, ответственность за рабочее состояние. «И я, подобно тополю, немолод, / И мне бы нужно в панцире встречать / Приход зимы, ее смертельный холод». Но панциря нет, и приходится создавать защищенное пространство.
Хозяин доволен папиной щедростью, было оговорено условие не пускать в дом других дачников.
Среди лета внезапно приехали жившие здесь в прошлом году художники В.В. Фаворская и И.И. Чекмазов. Папа остался тверд и не разрешил сдать им заднюю комнатку. И хотя на другой день они без труда сняли просторные комнаты в домике на самом берегу Оки, осталась неловкость перед этими милыми людьми. Я бегала их навещать, и однажды папа сам вызвался пойти со мной. Он читал им стихи из «Столбцов», самые для него дорогие и сокровенные, художникам, братьям по цеху. Чекмазовы же, хотя и не были знатоками в поэзии, поняли и оценили Заболоцкого (а поначалу приняли его за одного из «этих», т.е. за преуспевающего советского вельможу). В.В. подарила папе впоследствии свою прошлогоднюю работу — гуашь — знакомый нам вид из раскрытого окна через нашу терраску — цветы, домики, деревья, заокские дали. Папа долго задумчиво рассматривал ее и, похвалив, добавил: «Видно, что рисовал человек, очень близорукий».
Для меня это было время абсолютной свободы, хотя, конечно, я соблюдала установившийся режим.
Утро после завтрака — самое деловое. Папа сосредоточен и отправляется к своему столу. Главная масса работы совершается до обеда.
Он всегда брался только за интересные для него переводы, работа доставляла радость, и переводы тоже. Возникающие строки аккуратнейшим почерком записывались на бумагу. После обеда тексты красиво перепечатывались, а рукописные листы уничтожались. Основная правка происходила в рукописи, реже в машинописи. Когда возникали стихи? Мне кажется, что складывались они постепенно, а записывались часто тоже по утрам, однако, основную массу работы составляли переводы. Впоследствии я часто узнавала черты и моменты нашей жизни, послужившие толчком к возникновению стихов или отдельных строк.
После обеда иногда соглашался полежать в саду под яблоней. Лежал на раскладушке в своей любимой позе: на спине, руки под головой, ступни скрещенных ног двигались беспрерывно, ритмично поглаживая друг друга. Мне казалось, что эти движения связаны с ходом мысли.
С Гидашами сразу установились четкие отношения, полные взаимного уважения, но без притязаний на излишнюю близость. Друг друга они называли «Агнеш» (для друзей Агнесса) и Гидаш. Папа на- стоял, чтобы мы называли их полными именами (ни тени фамильярности). Много раз впоследствии я благодарила их мысленно за счастливую мысль позвать папу в Тарусу, за их дружескую заботу и близость — они подарили нам два летних сезона размеренной счастливой трудовой жизни. У Гидашей, как и у папы, главное в этой летней жизни — напряженная литературная работа по утрам; бытовые заботы их не обременяют, а время отдыха у нас общее.
Я привезла свой фотоаппарат ФЭД, а Гидаш приобрел более совершенный, громоздкий «Киев». Сложный механизм не смог освоить и настойчиво вручил свой аппарат мне: «Снимай папу и нас». И я старалась, как могла.
Гидаши заходили к нам обычно около пяти часов, с утра поработав, а после обеда отдохнув.
Не каждый день папа соглашался на прогулку. Перед выходом аккуратно переодевался: домашнюю полосатую пижаму менял на полотняный костюм, обязательно брал палку и шляпу.
В один из первых наших выходов мы вечером направились в березовую рощу, в те времена особенно чистую, проникновенную. Было необыкновенно красиво и спокойно. Папа шел тихо, задумчиво. Стихотворение «На закате» появилось год спустя.
Когда, измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошенный березняк.
«С неохотой» папа выходил на прогулки еще несколько раз. Ходили к деревеньке Сутормино через колосящееся поле. Открывался удивительный пейзаж. Долина речки Таруски мягко вписывалась в медальон. Агнесса шумно восторгалась красотами. Папа подсмеивался над ней. Отдыхали на высоком бережку на траве, фотографировались.
Прогулка к цветаевскому оврагу была тяжела для папы. На обратном пути, приняв валидол, папа долго стоял у мостика через ручей.
Поодаль женщины полоскали белье в запрудке. Спустя некоторое время появились стихи «Стирка белья».
Но чаще мы ходили вниз к Оке через широкую тихую улицу со старыми солидными домиками (низ — из белого камня, верх — деревянный). Спускались к причалу, брали весла у бакенщика, а внизу ждала арендованная Гидашами лодка.
При первом плавании уговорили папу сесть в лодку, но очень неудачно — обнаружилась течь. Вода прибывала, но мы благополучно вернулись, не успев выйти на стремнину. Никогда больше папа не спускался к воде. Он оставался на высоком берегу, на скамейке. Оттуда открывался широкий вид на Оку с ее извивами, бывал виден закат, и можно было следить за нашей лодкой. Здесь зародились многие стихи: «Летний вечер», «Вечер на Оке». Тарусские закаты оживили воспоминание о зеленом луче, блеснувшем Заболоцкому в Дубултах в 1953 году. Стихи «Зеленый луч» были написаны в Тарусе летом 1958 года с настроением этого времени.
Однажды на скамейке рядом сидел Давид Самойлов, написавший впоследствии стихи «Заболоцкий в Тарусе», полные любви и горестного сочувствия.
Между тем, мы — плавали и купались. На корме усердно орудовал рулевым веслом Гидаш, поэтому я могла спокойно равномерно грести.
На носу располагалась Агнесса в легком платье, с черными косами на груди, и часто бывал с нами девятилетний Коля Кун, ее племянник. Встречались редкие ненавистные нам моторки, иногда мелькали парусники, восхищая нас. Мы поднимались мимо Велегожа в сторону Лодыжино и возвращались вниз по течению, искупавшись в подходящем месте. Однажды, в приближении сумерек невыносимый восторг переполнил меня, и добравшись до папы, как всегда сидевшего на скамейке, я, потрясенная, спросила: «О, ты видишь это, ты чувствуешь?» И позже узнала картину, меня потрясшую, в стихотворении «Вечер на Оке».
Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.
По утрам, пока все работали, я любила уходить далеко в лес в сторону Калужской дороги или безлюдными тропами по речке Таруске.
Моим спутником бывал Коля Кун. Я заводила его далеко, стараясь поделиться своими открытиями. Часто Коля опаздывал вернуться к обеду.
Папе я показывала свою добычу — дикие орхидеи или воздушный белый ломонос, или грибы. Посмеиваясь, он позволил увенчать себя, вместо лаврового венца, плетью крупноцветковой повилики. Я сфотографировала его с этой повиликой, через распахнутое окно. Бывали грустные дни. Однажды вечером грусть мою папа застиг врасплох, я почувствовала особо внимательный взгляд, наверное, это и был миг, из которого родились строки « — с беспокойно скользящей улыбкою / На заплаканном юном лице».
Осенние дожди бывали по нескольку дней. Я фотографировала туманные дали сквозь пелену капель с крыши нашей верандочки. С радостью узнаю настроение этих дней в стихах:
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.
Мы ходили в гости к Паустовскому в дом, расположенный доволь- но низко над речкой, очень красивый и удобный, уютно устроенный. Папа читал стихи растроганному Паустовскому. Видно было, что их связывало чувство взаимной нежной почтительности.
Меня увела к себе в беседку Галя Арбузова. Она показалась мне очень красивой и светской. В этом доме кипела молодая веселая жизнь с гуляниями и плаваниями. Но нас с папой эта жизнь совсем не коснулась. Я запомнила хрупкую фигуру Паустовского с удочками, в сапогах. Как будто виновато и тайком, он спешил на свою любимую рыбалку в одиночестве.
В августе 1958 года папа был у Паустовского без меня. Он читал стихи из только что написанного «Рубрука». Паустовский был в восторге. Об этом он оставил воспоминания.
Приезжал брат Никита с первой женой Лидой на пару дней. В мое отсутствие были Либединские. Был и Николай Леонидович Степанов, самый близкий человек, нежно и беззаветно любивший папу всю жизнь. Он, пожалуй, был единственным, кто приходил к папе на Беговой в любое время. Приходил внезапно, расстроенный и озабоченный, забывая здороваться и прощаться — в беде и в радости.
Ему посвящено немало шуточных стихов, он хохотал до упаду, не в силах остановиться.
Помню его 14 октября 1958 года, в день внезапной кончины Заболоцкого. Он двигался с рыданиями, потрясенный.
Вечерние часы мы тоже проводили с Гидашами. Они приходили после ужина. Иногда пили с нами чай. Иногда у папы было настроение выпить вина. На этот случай был привезенный из Москвы запас «Телиани». С удовольствием распивали бутылку, и я была наравне со всеми. Судя по фотографиям, все слегка пьянели. Других напитков — ни пива, ни водки, — папа в Тарусе не употреблял. Никогда не пил во время работы.
Почти все написанные в Тарусе стихи читались нам по мере появления. Иногда читал мне одной, иногда советовался. Например, я не сразу поняла на слух, что «замок белоглавый, отраженный в глубине» —это отражение облаков. Появились «из облаков изваянные розы».
Спрашивал мое мнение. Я высказывалась откровенно. Хотя обычно мне нравилось все чрезвычайно.
К нашей радости читал главы из «Сербского эпоса». «Рубрук в Монголии» занимал особое место.
Гидаш несколько раз читал отрывки из своего романа в переводе Агнессы. Особенно мне запомнилось описание оркестра, звучания каждого инструмента.
Но чаще всего день завершался продолжительной игрой в домино. Папа играл в паре с Агнессой деловито и сдержанно, рассчитывая ходы. Гидаш, наоборот, играл страстно, бурно радовался и бурно негодовал. Нам бывало весело, мы много смеялись. Эта игра сблизила нас и стала любимым занятием.
В последний вечер накануне нашего отъезда партия не состоялась, к общему огорчению. Нужно было срочно устраивать груду чудных рыжиков, открывшихся мне в молодом ельничке у Калужского большака. Для засолки удалось купить огромную кастрюлю в сельмаге на площади. (На пороге этого сельмага 28 июня 1961 года замертво упадет Ив.Ив. Чекмазов).
А просолившиеся рыжики послужат закуской скульпторам (Сидуру, Силису и Лемпорту), которые делали посмертную маску Н.А. Заболоцкого, когда все оборвалось.
Последнее стихотворение «Не позволяй душе лениться» я принимаю и на свой счет как наставление. Но оно также показывает читателю, как именно сам Заболоцкий постоянно работал над своей душой. Редкое стихотворение Заболоцкого не включает этого слова «душа». И из каждого творения смотрит его живая душа. В стихах есть все, чтобы увидеть и узнать автора, незащищенного и доверчивого, несмотря ни на какие беды.
НА БЕГОВОЙ
Провинности детей его глубоко расстраивали. Брату при малейших его школьных неуспехах он торжественно объявлял, что тот будет милиционером. Рассердившись на меня, за то, возможно, что я вечно бывала недовольна жизнью или за грубость, безнадежно горько говорил: «Мне ясно, что ты похожа на моих сестер, и ничего хорошего из тебя не выйдет. Трудно будет тебе жить». Почему-то это было очень обидно.
С другой стороны, я была склонна к скоропалительной критике, едва только, как мне казалось, папа отклонялся от моего идеала. На такие мои выпады ответом был лишь внимательный взгляд, и никакого гнева. Если мною высказывались «премудрые мысли», строго говорил: «Надо карандашиком записывать в тетрадку». Я склонна была обижаться, подозревая иронию.
Мне часто советовал не разбрасываться и не торопиться: «Главное, чтобы капелька за капелькой падала в одну точку. Тогда и маленькая капелька горы разрушит».
Если задавался вопрос по поводу непонятных слов или явлений, строго отсылал к словарю.
В 50-х годах я, случалось, высказывала свои сомнения по поводу официальной пропаганды или по текущим событиям. Папа никогда не пускался в объяснения. Но бывал заметно доволен моим критическим настроем и повторял весело: «Это все для дурачков». И проходился по комнате, потирая руки.