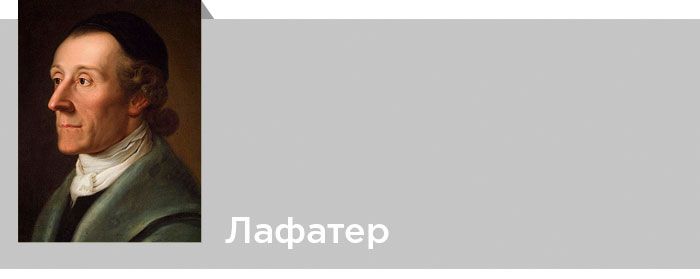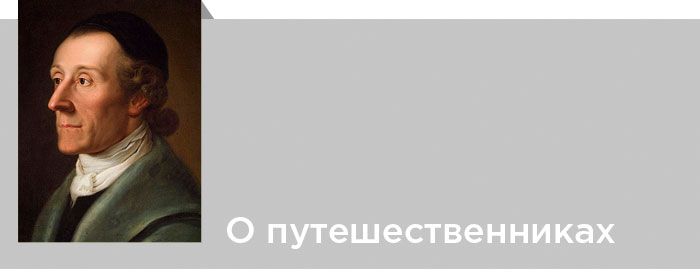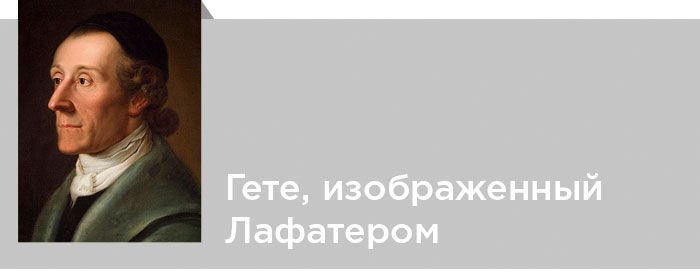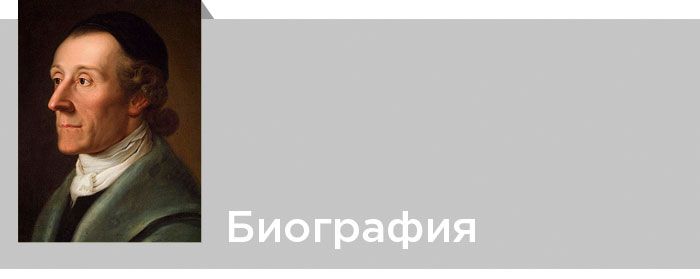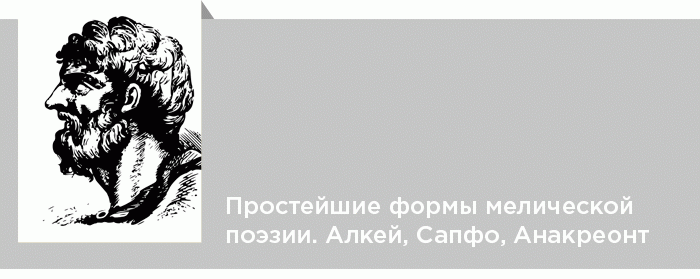Некоторые вопросы вокального стиля Модеста Мусоргского сквозь призму учения Лафатера (на примере романсов и песен композитора)

Ольга Василенко
Исследованы и описаны основные физиогномические типы Лафатера как источники психологического наполнения образной канвы романсов и песен М. Мусоргского. Затронута проблематика вокального стиля композитора, прослеживаются некоторые особенности его творческого процесса, предпринят анализ некоторых параметров музыкального языка Мусоргского.
Василенко Ольга. Деякі питання вокального стилю Модеста Мусоргського крізь призму вчення Лафатера (на прикладі романсів і пісень композитора). Досліджено та наведено відомості щодо основних фізіогномічних типів теорії Лафатера, які розглянуті як джерела психологічного наповнення образної канви романсів і пісень М. Мусоргського. Висвітлено основну проблематику вокального стилю композитора та деякі особливості творчого процесу, зроблений аналіз новаторських параметрів музичної мови Мусоргського.
Ключові слова: Мусоргський, Лафатер, фізіогноміка, вокальний стиль, романси і пісні.
Ключевые слова: Мусоргский, Лафатер, физиогномика, вокальный стиль, романсы и песни.
Vasylenko Olga. The main problems of vocal style by Modest Mussorgsky through Lafater’s theoretical basis (romances and songs of composer). Investigational and described of conception the Lafаter`s «Fiziognomika» with the connection of appearances and psychology of types in romances and songs by M. Mussorgsky. The problems of vocal style of composer and the features of creative process are studied, the analysis of main parameters of music of Mussorgsky.
Keywords: Mussorgsky, Lafater, physiognomy, vocal style, romances and songs.
Феномен музыкального творчества Модеста Петровича Мусоргского и по сей день создает особое поле исследовательского притяжения. Разносторонняя личность музыканта-философа, яркий духовный свет его музыки и нетривиальные художественные задачи монументальных – даже в малых формах – музыкальных полотен, и поныне порождают мощные эвристические импульсы: «…безграничная многомерность художественно-философских идей и сюжетно-исторических линий, нашедших отражение в сочинениях великого русского композитора, не только оставляет простор для дальнейшего собирания и накапливания фактов, но и приводит к мысли о необходимости определенного обновления самой методологии исследования» указывают авторы одной из значительных монографий 2011 года о Мусоргском – «Историзм художественного мышления Мусоргского» [6, с. 20].
Современность, органичность личности и музыки Мусоргского в культурном ландшафте музыки XX–XXI веков не оставляют сомнений [9]. Значительное число публикаций – от статей до монографий, решают многочисленные исследовательские задачи, вскрывают закономерности художественного мышления композитора [1; 3; 6; 10; 11]. Готовятся к печати обновленные материалы Полного академического собрания сочинений Мусоргского, часть томов уже увидела свет [7], интерес к этим изданиям демонстрирует непреходящую актуальность музыки композитора.
Объект нашего изучения – вокальный стиль романсов и песен Мусоргского в смеховом контексте исследуется в монографии О.Б. Соломоновой [10], как вокальный театр – в книге Е.Е. Дурандиной [4], как предмет композиторской режиссуры – в работе Р.Э. Берченко [1]. Исследование вокального стиля романсов и песен сквозь призму учения Лафатера представляется актуальным, поскольку окрашено значительным моментом новизны.
Общая методологическая направленность исследовательских работ о музыке Мусоргского единодушно сводится к следующему: «в музыкознании XX века возникла и до наших дней сохраняется ситуация, при которой невозможно полноценно отобразить его композиторские концепции, опираясь на одни лишь нотные издания» [6, с. 15]. Несомненно, во внемузыкальном контексте творчества кроются мощные ресурсы познания Мусоргского, и его эпистолярия – значительное подспорье в этом плане. Внимательное чтение писем Мусоргского обнаруживает когнитивную лакуну в исследовательской литературе относительно взаимоотношения автора с концепцией Лафатера, письма и труды которого с немецкого так увлеченно переводит и комментирует Модест Петрович.
В письме к М. Балакиреву от 13 августа 1858 года Мусоргский пишет о первом содержательном звене концепции Лафатера так: «Теперь я на досуге перевожу письма Лафатера <…> в письмах его <…> есть чрезвычайно интересные физиогномические замечания, он был физиогномист, как вам известно, т. е. по физиогномии определял самый характер» [8, с. 16]. Второй содержательный пласт концепции Лафатера, чрезвычайной близкий Мусоргскому, связан с мистицизмом. Вскрывая связь мистицизма и христианства в русле сложившейся традиции этической трактовки событий русской истории, С.В. Тышко упоминает имя И.К. Лафатера в исследовании о национальном стиле в русской опере [12, с. 50]. Анализируя первый динамический компонент национального стиля в «Борисе Годунове» Мусоргского, «стиль Фаворского света», исследователь освещает истоки зародившегося мистического миропонимания композитора в трактовке христианства в письмах к М. Балакиреву 1858 и 1860-х годов, – стиль, впоследствии можно реализовавшийся в оперном творчестве Мусоргского. «Вероятно, мистические увлечения молодого Мусоргского как-то связаны с книгой Лафатера, которую он читал и переводил в конце 1858 года, и где его особенно интересовала жизнь души после смерти. <…> Опыт духовного развития начала XIX века, в эпоху Александра I, показывает, что от Лафатера и литературы этого круга было два пути: либо к масонству, либо к так называемой «религии сердца», к мистическому христианству» [12, с. 50].
Строго говоря, имя Иоганна Каспара Лафатера в биографическом контексте композитора упоминается в еще двух, отстоящих друг от друга на протяжении полувека, работах, посвященных Мусоргскому: ибо влияние идей Лафатера на девятнадцатилетнего композитора, не точечно, оно – продолжительно, велико и значительно. Речь идет о книгах Г.Н. Хубова [13] и Е.М. Левашева, Н.И. Тетериной [6]. В монографии Г. Хубова имя швейцарского писателя, богослова и поэта, автора теории физиогномики, упоминается дважды. Первый раз – в связи с комментариями к письму Мусоргского к своему педагогу Милию Балакиреву[1]: Г. Хубов пишет «Он [Мусоргский] излагает некоторые суждения и замечания Лафатера о «физиогномии» и «ясновидении». Далее говорит: «Это время я все думаю, думаю и думаю, о многом дельном думаю, и много планов роятся в голове, кабы привести их в исполнение, славно было бы» [13, с. 64]. И далее - «Письмо, как видим, весьма примечательно во многих отношениях. И стоит вникнуть в приведенные строки признаний Мусоргского, чтобы понять, сколь глубокими переменами и противоречиями [курсив мой – О.В.] чревато было это бурное начало его жизнедеятельности на новом поприще» [Цит. по: 13, с. 64]. Это утверждение пронизывает досадный смысловой оттенок негативной оценки и деструктивного влияния Лафатера на личность молодого Мусоргского. Далее Г. Хубов высказывается еще более определенно относительно учения и личности Лафатера в духе идеологии своего времени (монография издана в 1969): «Пытливая наблюдательность Мусоргского простиралась не по плоской поверхности, а в глубь явлений, и в процессе осмысливания жизни и жизненных задач искусства он вскоре совершенно освободился от умозрительных влечений и «мистических контраверз» [курсив мой – О.В.], которые одно время и волновали и тяготили его. Метафизический туман рассеивался, и теперь о письмах Лафатера и ясновидении думать не приходилось» [13, с. 107]. Вопреки «идеологически выдержанному» утверждению музыковеда советской эпохи, комментирующему итог 1859 года – года двадцатилетия композитора, «мистические контраверзы Лафатера» полностью овладели Мусоргским и проникли в его творчество настолько, что ныне являются одним из ключевых факторов к «изучению психологической стороны драматургии Мусоргского» – утверждают Е.М. Левашев, Н.И. Тетерина [6, с. 507], – причем «принципиальную значимость имеют не только общесистемные суждения Лафатера, но и его конкретные советы, несомненно принятые о внимание композитором» [6, с. 507]. Имя Лафатера в наши дни вновь актуализируется в связи с литературоведческими изысканиями о Карамзине, Пушкине, Лермонтове, Льве Толстом [6, с. 507, сн. 51].
Как указывалось выше, Каспар Лафатер (1741–1801), швейцарский теолог, физиогномист и писатель. Родился 15 ноября 1741 г. в Цюрихе, там же получил образование. С детства он любил рисовать портреты, был исключительно впечатлительным, и лица, поразившие его красотой или уродством, перерисовывал по многу раз. Зрительная память у него была великолепна. Интеллектуальную жизнь он определял по строению костей головы и очертаниям черепа, лба и бровей; моральную и чувственную исследовал форме носа, щек и по устроению лицевых мускулов; животные качества – по линии подбородка и складу рта. «Этажам» лица соответствуют, согласно Лафатеру, «этажи души». В то же время, подобными «этажами жизни» обладают все автономные «целостности» - все части тела и органы лица. Так, например, преобладание (выпирание) верхней губы над нижней свидетельствует о контроле духовных свойств личности над материальными; «легкий горб на носу – признак поэзии». Особое место в системе Лафатера занимал глаз – центр и существо всего организма. Сохранились сотни его собственноручных рисунков глаз (а также других анатомических частей) с подписанными комментариями, вроде: «Глаз гениального художника» или «Хоть в этом глазу и недостаточно силы, он толковый и примечателен духовно» [Цит. по: 14, с. 260].
Протестантский проповедник, пастор церкви сиротского дома в Цюрихе, смело выступил против ландфогта Цюриха, притеснявшего жителей кантона, и добившийся его смещения. Лафатер пользовался известностью как духовный наставник. Он продолжал рисовать уши, носы, подбородки, губы, глаза, профили, анфасы, силуэты - и все это с комментариями. Постепенно Лафатер поверил в свою способность определять по внешности ум, характер и присутствие (или отсутствие) божественного начала в человеке. Он имел возможность проверять верность своих характеристик на исповедях. В его альбомах были рисунки фрагментов лиц всей его паствы, портреты людей знакомых и незнакомых, выдающихся, великих и обыкновенных. По некоторым сведениям, он был участником движения «Буря и натиск». Главным трудом Лафатера является его иллюстрированная книга в 4 томах – «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви», в немецком варианте «Physiognomische Fragmente zur Beforderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe» (в Лейпциге и Винтертуре в 1775–1778 годах, вследствие особой популярности новое издание осуществлено в 1848 году; неполный русский перевод сделан в 1817 году). Суть же физиогномики Лафатера сводилась к следующему: «Человек – существо животное, моральное и интеллектуальное, то есть – вожделеющее, чувствующее и мыслящее. Эта природа человека выражается во всем его облике, поэтому, в широком смысле слова, физиогномика исследует всю морфологию человеческого организма. Так как наиболее выразительным зеркалом души человека является голова, то физиогномика может ограничиться изучением лица. Интеллектуальная жизнь выражена в строении черепа и лба, моральная – в строении лицевых мышц, в очертании носа и щек, животные черты отражают линии рта и подбородка. Центр лица, его главная деталь – глаза, с окружающими их нервами и мышцами. Таким образом, лицо делится как бы на этажи, соответственно трем основным элементам, составляющим главную сущность каждого. Физиогномика изучает лицо в покое. В движении и волнении его изучает патогномика» [5, с. 18]. Он анализировал в «Физиогномике» лица великих людей разных времен по их портретам, и некоторые характеристики производили впечатление гениальных догадок в области психологии. По Лафатеру, у Фридриха Барбароссы глаза гения, складки лица выражают досаду человека, не могущего вырваться из-под гнета мелких обстоятельств. Для скупцов и сластолюбцев характерна выпяченная нижняя губа [5, с. 56]. Широкое расстояние между бровями и глазами у Декарта указывает на разум не столько спокойно-познающий, сколько пытливо стремящийся к этому. В мягких локонах Рафаэля проглядывает выражение простоты и нежности, составляющих сущность его индивидуальности. У Игнатия Лойолы, бывшего сперва воином, затем основателем ордена иезуитов, воинственность видна в остром контуре лица и губ, а иезуитство проявляется в «вынюхивающем носе» и в лицемерно полуопущенных веках. Изумительный ум Спинозы, по Лафатеру, ясно виден в широком пространстве лба между бровями и корнем носа» [5, с. 87]. Изучая внешние черты лица, можно представить, по Лафотеру, полную и разностороннюю психологическую характеристику человека. «Физиогномика» – термин Лафатера, определение предмета одноименной науки в узком смысле слова значило «науку о чертах лица и их значении», а в широком – включало анализ образа жизни и поведения, стиля одежды и кинематики движений. В книге Лафатера «Физиогномика» использованы рисунки Гете, и более того – одна из глав даже написана Гете [2, с. 159], одно время являвшегося близким другом Лафатера. История знакомства Лафатера и Гете такова: незадолго до начала работы над «Физиогномикой», в 1772 году, в печати появилась анонимная статья Гете, ратовавшая за терпимость в религиозных взглядах. Она восхитила пастора Лафатера, который выяснил имя автора статьи и написал издателю, что этот автор – «гений первой величины». А когда Гете в ответ на его просьбу прислать свой портрет отправил чужой, тотчас распознал подлог. Они встретились и подружились. Гете привлекла сама идея физиогномики как «идея познания сути «внутреннего» в человеке через его внешность» [2, с. 153]. Исследования включали анализ профилей (чаще теневых) с измерениями высоты носа, лба и т. д. Гете писал: «Лафатер, благодаря чистому представлению о человечестве, жившему в его душе, и острой, тонкой наблюдательности… был словно создан для того, чтобы замечать особенности отдельных людей… Лафатерово проникновение в сущность любого человека порой казалось невероятным. Общаться с Лафатером было жутковато; устанавливая физиогномическим путем свойства вашего характера, он становился истинным властителем ваших мыслей, без труда разгадывая их в ходе беседы» [2, с. 150]. «Лафатер обладал невероятным упорством, терпением и выдержкой; он веровал в свое учение и, задавшись целью распространить его по всему миру, готов был лаской и кротостью добиваться того, чего нельзя было сделать силой… Он был одержим страстной тягой к действию и воздействию – я не знал никого другого, кто бы действовал так неустанно… Лафатер всех на свете хотел сделать сотрудниками и соучастниками… Он заказал множество портретов со значительных и именитых людей… Художников просил посылать рисунки, нужные ему для его цели (в частности, как они представляют себе Христа)…» [Цит. по: 2, с. 155].
Основной тезис эмпирического исследования Лафатера зиждется на посыле рассматривать человека вне зависимости от сословной принадлежности, как самодовлеющую ценность, он породил идею Лафатера о некотором единстве сути характеров и внешней формы человека и животных и, отсюда, об общности определенных черт поведения людей с теми животными, на которых они похожи, имеющих овечий, ослиный и т.п. облик. Научная идея Лафатера укрепила свои позиции во многом благодаря удачно найденным и зарисованным Гете жизненным прототипам.
Сам Мусоргский, в письме к Стасову [8, с. 117], косвенно связывал идею Лафатера с собственным творческим процессом осмысления и поиска выражения психофизической подоплеки своих персонажей вокального творчества, объясняя сформировавшуюся к тому времени – к 1871 году, целую галерею «птичьих типов» (и характерных персонажей!): «Уже седьмой зверь [курсив Мусоргского], мною любезно воспеваемый; в исторической последовательности выскакивали: 1. Сорока, 2. Козел, 3. Жук, 4. Селезень, 5. Комар с клопом, 6. Сыч с воробьем, 7. Оный попка» [8, с. 117].
Звери, перечисляемые Мусоргским в примечании[2], выведены им в следующих произведениях: песнях «Стрекотунья-белобока», «Светская сказочка», «Жук» (№ 3 цикла «Детская»); в песнях из оперы «Борис Годунов» – песня хозяйки корчмы, две песни мамки. Зоологические метафоры для определения сути людей вообще характерны для наблюдательного и остросатирического ока композитора (например, письмо от 31 июля 1872 года к В. Стасову). Господство идей «натуральной школы» совпадало с творческим вектором Мусоргского. Подобная направленность острохарактерного мышления композитора зачастую связана с песенной формой воплощения замысла и явно отсылает исследователя в сферу, прежде всего камерного вокального творчества. При всей глубине и масштабности оперного жанрового пласта композитора, его песни и романсы в формировании творческого облика и стиля, прежде всего, занимают приоритетное место: «Сегодня можно с уверенностью утверждать, что художественно-стилевая система Мусоргского устанавливалась как некое единство именно и прежде всего в рамках вокальной сферы творчества 60-х годов <…> где формировались принципы вокального театра Мусоргского», – отмечает Е. Дурандина [4, с. 195].
Вокальное наследие Мусоргского, представленное как отдельными романсами и песнями, так и вокальными циклами, характеризуется особым сущностным качеством, резко отличающим его от эстетики вокальных произведений большинства современников, – планомерным и последовательным воплощением принципов театральности, характеристичности персонажей. Отметим, что творчество «великого учителя музыкальной правды»[3] А.С. Даргомыжского прямо предшествует этим открытиям, развивая жанр «романса-портрета». Характеризуя значение и суть романсов и песен самого М.П. Мусоргского, В. Стасов писал: «каждый из этих так называемых «романсов» можно сейчас исполнять на сцене, в костюмах, при декорации, так они полны сценичности, драматизма, такую богатую они представляют задачу для игры, для мимики» [Цит. по: 1, с. 90]. В своей вокальной музыке Мусоргский узаконил новаторскую жанровую разновидность романса – «сольную сценку», на первый взгляд идущую вразрез с монологической природой романса и песни. Явным признаком театральности является и особое построение вербальной линии, где акцент - именно на образе, на персонаже, от имени которого звучит песня или романс. Р. Берченко приводит такую статистику: «<…> из почти семидесяти вокальных сочинений по меньшей мере в трех десятках изложение ведется от лица не лирического героя (традиционного в европейской, да и русской профессиональной песенной традиции), а персонажа. Подвыпивший мужичок, озорной мальчишка, сельский юродивый, сварливая жена, заботливая мать, библейский царь Саул, старая няня, саркастичный Мефистофель, долбящий латынь семинарист, просящий милостыню сиротка, заносчивый и тщеславный критик, баюкающая внука бабушка, умирающая от болезни девушка, наконец, сама Смерть – таков далеко не полный список героев песен Мусоргского, новых и непривычных для песенной лирики не только в эпоху, предшествовавшую его творчеству, но и десятилетия после его кончины» [1, с. 90–91].
Отметим композиторскую ориентацию на острую характеристичность и пластичность персонажей вокального театра, идущую от систематики Лафатера и естественно прокладывающую дорогу автору в сферу постижения человеческой натуры, ее глубинной сути через внешнее, утрированное. Анализируя приведенные иллюстрации разных человеческих типов Лафатера и Гете [14, с. 257–261], отметим важный момент: хрестоматийная истина о том, что божественная сила по мудрости своей стремится к порядку везде, в том числе и в физических чертах людей, а порок обезображивает, верна и в данном случае. Нарушения пропорций тела, формы губ, носа и головы в сторону их увеличения, или, напротив – уменьшения, характеризуют особые типы людей, например: надменных людей-ослов («Классик», «Спесь»); немощных и обездоленных («Сиротка», «Светик Савишна»); бушующие страсти искажают привычную логику традиционного романсового интонирования, – здесь прорисованы нездоровые, ущербные натуры злодеев, отравителей («По грибы») и проч. Новые герои – лафатеровские типы – невольно вызывают к жизни яркие новации музыкального языка композитора и нарушают и «музыкальную гармонию» романса, общепринятое в XIX веке совершенство музыки и равновесие смысла.
Отражая всепоглощающие страсти и сильные эмоции персонажей романсов; аккумулируя их в одной краткой форме романса или песни, Мусоргский обогащает выразительные средства музыки, нарушая при этом эстетические пропорции красоты, гармонии, соразмеренности. Так, композитором часто используется пятидольный «неквадратный метр» как отражение ассиметрии пропорций «изображаемого» в романсе субъекта; также активно привлекаются в гармонический язык нетерцовые аккорды и неразрешаемые диссонансы, двузвучия в роли аккордов, полиаккорды (Детская № 1), что придает исключительную неожиданность, свежесть и нетривиальность мелодическому движению (как будто перед слушателем находится маска постоянно удивляющегося ребенка). Так, удвоенная в октаву кварта придает ощущение бестерцовости, неокрашенности аккорда и используется вкупе с остинато ритма, мелодии и фактуры как остроумное изображение сухого процесса зубрежки («Семинарист»); добавим, что в XIX веке нередкий случай у Мусоргского – расширенная трактовка тональности, выходящая за рамки мажоро-минора [11, с. 314]. Часто используется гармония хроматической системы, например, – «Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха». Огромный выразительный резерв – в переменной тональности, которая продиктована экспрессией стиха, например, как в романсе «Надгробное письмо», где со словами «злая смерть» связан тонический аккорд es-moll, с текстом «образ светлый» – D-dur. Принципы модальной гармонии, натуральные лады окрашивают мельчайшие оттенки смысла текста, неповторимого абриса образа. Отметим, что именно ладогармоническое новаторство служило предметом наиболее ожесточенной критики музыкального языка романсов М.П. Мусоргского музыкантами XIX столетия – Г. Ларошем, Н.А. Римским-Корсаковым, С.И. Танеевым и П.И. Чайковским.
О пространственной многоплановости звукового мира романсов и песен Мусоргского, насыщенности всей фактуры – и фортепианной в том числе, пластичности и объемности музыкально-вербальных интонаций свидетельствуют многочисленные попытки представить оркестровые варианты песен: «Гопак», «По грибы», «Спи, усни, крестьянский сын» – Н. Римский-Корсаков (1908), «Песни и пляски смерти» – Н. РимскийКорсаков (кроме «Серенады», которая была завершена учеником и зятем композитора – Максимилианом Штейнбергом (1883–1946) – (издано в 1911 году)); «Трепак» (1882), «Колыбельная» (1908) – А. Глазунов; «Песня о блохе» – И. Сахновский (1904), И. Стравинский (1909), а впоследствии Д. Шостакович «Песни и пляски смерти» (1962). Э. Денисов оркестровал все вокальные циклы Мусоргского, в том числе «Песни и пляски смерти» (1984), где тембровая игра наполнена многообразием семантического смысла.
Стремление к воплощению неординарных физических типов в единстве с психологически исключительным состоянием новых героев, продиктовало особый тип музыкального высказывания в соответствии с новаторским типом романсового стиха. Особая акцентуация экспрессивного начала напрямую приводит к глубинным новациям музыкального языка в романсах и песнях Мусоргского. Применительно к оперному творчеству, согласно концепции, разработанной С.В. Тышко, этот процесс вылился в формирование в 70-х годах XIX века второго динамического компонента музыкального стиля, с наибольшей полнотой и последовательностью реализованного в оперном творчестве Мусоргского и обозначенного как «апокалиптическое видение мира и пассионарное резонирование эпох – «пассионарный стиль»» [12, с. 34].
«Если ранее ученые справедливо отмечали замечательное богатство творческой фантазии классика русской музыки, то теперь, помимо редкостного дара его психологического перевоплощения при раскрытии образа любого из героев, следует говорить о тех разносторонних знаниях, что составляли объективный исторический фундамент для композиторского проникновения в индивидуальность каждого персонажа, позволяли драматургу «живописать музыкальными средствами» главные особенности отображаемой эпохи и характеристические признаки «культурноисторических типов» (термин Н.Я. Данилевского)» [6, с. 543].
Физиогномические типы Лафатера как источники психологической характеристики образов вокального стиля романсов, песен и оперных полотен Мусоргского, могут быть обнаружены как слагаемые целостной системы национального стиля композитора, так и в каждом из пяти его стилевых динамических компонентов. Подробное системное исследование вокального стиля романсов и песен Мусоргского с учетом намеченной проблематики позволит полнее исследовать систему художественного мышления композитора.
Литература
1. Берченко Р.Э. Композиторская режиссура М.П.Мусоргского / Р.Э. Берченко. – М. : «УРСС», 2003. – 221 с.
2. Гете И.В. Собрание сочинений, т. 3 / И.В. Гете. – М., 1976. – 347 с.
3. Головинский Г. Путь в XX век. Мусоргский / Г. Головинский // Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века: [Монография]. – Москва, 1997. – С. 59–91.
4. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского / Е. Дурандина. – М. : Музыка, 1985. – 200 с.
5. Лафатер Иоганн Каспар. Сто правил физиогномики: комментированные фрагменты исследования / И.К. Лафатер ; [Пер. с нем Стародум Н.В.]. – М. :«Мир Урании», 2008. – 152 с.
6. Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского / Е.М. Левашев, Н.И. Тетерина. – М. : Памятники исторической мысли, 2011. – 745 с.
7. Мусоргский М. Полное академическое собрание сочинений / [Общ. ред. Е. Левашева]. – Т. 1–2.: Борис Годунов. Музыкальное представление в четырех частях. Первая редакция (1869 г.). Партитура. – М. : Музыка; Майнц: Шотт, 1996.
8. Мусоргский М.П. Письма. Издание второе / М.П. Мусоргский. – М. : Музыка, 1984. – 446 с.
9. Некрасова Г. Мусоргский и современность / Г. Некрасова // Мусоргский и музыка XX века: Сб. ст. / [Ред.-сост. Г. Некрасова]. – СПб. : изд. СПбГК, 1996.
10. Соломонова О. «И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум»: Смеховое зазеркалье русской музыкальной классики : [Монография] / Ольга Борисовна Соломонова. – К. : ТОВ «задруга», 2006. – 380 с.
11. Трембовельский Е.Б. Стиль Мусоргского. Лад, гармония, склад : [Монография]. (Издание второе, исправленное и дополненное) / Евгений Борисович Трембовельский. – М. : ООО Издательство «Композитор», 2010. – 436 с.
12. Тышко С.В. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков: Исследование / С.В. Тышко. – К. : ЭП «Музинформ», 1993. – 117 с.
13. Хубов Г.Н. Мусоргский : [Монография] /Хубов Георгий Никитич. – М : «Музыка», 1969. – 801 с.
14. Эко Умберто, редакция. История уродства / [Перевод А.А. Сабашникова, И.В. Макаров, Е.Л. Кассирова, М.М. Сокольская]. – М. : Слово/Slovo, 2009 – 456 с.
[1] В письме к М.А. Балакиреву, написанному в ночь с 12 на 13 августа 1858 года [8, с. 14].
[2] Письмо Мусоргского к Стасову от 10 августа 1871 года. [8, с. 117, комментарии к письму, с. 312].
[3] Выражение самого М. Мусоргского.