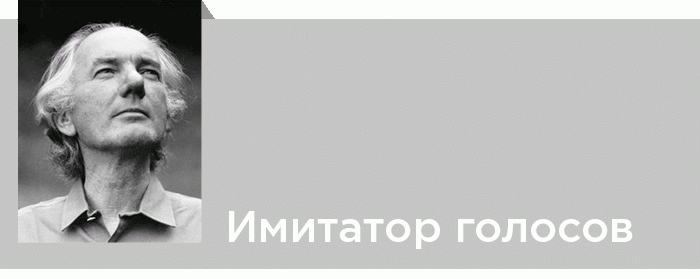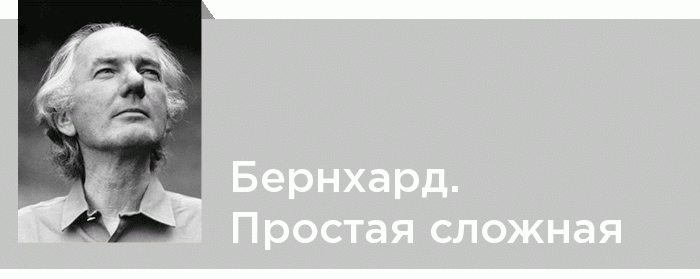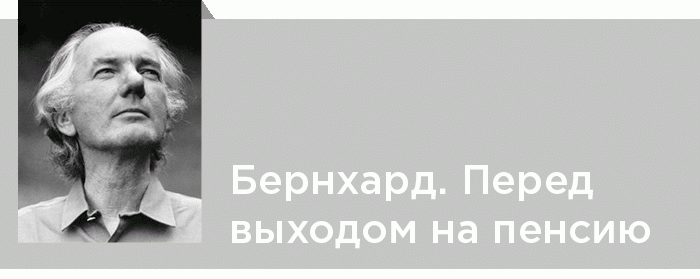Томас Бернхард. Стужа

(Отрывок)
Что говорят обо мне люди? — спросил он. — Что я — идиот? Что они говорят?
День первый
В клинике студент-практикант не только зритель на сложных операциях кишечника, при вскрытии брюшины, краевой резекции легкого и отрезании ног, его дело — не только закрывать глаза покойникам и извлекать на свет Божий новорожденных. Практиковаться в больнице — это не просто кидать через плечо в эмалированную лохань оттяпанные конечности, по частям или полностью. Не сводится это и к нудной повинности переминаться за спинами главврача, ассистентов и ассистентов ассистентов и торчать у них в хвосте во время обходов. Да и подтасовкой элементарных фактов дело тоже не ограничивается, когда, допустим, говоришь: «Весь гной попросту растворится у вас в крови, и вы снова будете как огурчик», как и сотней других обманных приемов, вроде дежурной фразы: «Всё будет хорошо!», когда ясно, что уже ничего не будет. Это не только стажерство по части рассечения тканей и наложения швов, перевязки сосудов и испытания собственного терпения. Практику надо измерять также вещами и возможностями внетелесного свойства. Данное мне поручение наблюдать за художником Штраухом вынуждает меня выяснять именно такие внетелесные факты и возможности. Исследовать нечто неисследуемое. Раскрывать это до поразительного предела человеческих возможностей. Как раскрывают заговор. И ведь может статься, внеплотское — тут я имею в виду не душу, а то внетелесное без души, о которой я не могу сказать, есть ли она, но склонен думать, что существует, — эта тысячелетняя гипотеза заключает в себе тысячелетнюю истину. Вполне вероятно, что всё внетелесное, лишенное клеток, есть то, из чего возникает всё сущее, а не наоборот и не только одно из другого.
День второй
Уехал я первым же поездом, в половине пятого. Прямо сквозь скалы. Справа и слева — кромешный мрак. Когда садился в вагон, меня знобило. Потом мало-помалу отогрелся. Вокруг гомонили рабочие, возвращавшиеся с ночной смены. Они сразу расположили меня к себе. Женщины и мужчины, молодые и старые, но все одинаково изнуренные бессонной ночью, налитые ее тяжестью от голов до грудей, от мошонок до пяток. Мужчины в серых шапчонках, женщины в красных платках. Ноги у них в каких-то грубошерстных обмотках — единственная возможность обхитрить стужу. Я тут же догадался, что это снегоуборщики, подсевшие в Зульцау. Было тепло, как в коровьей утробе, а воздух, казалось, беспрерывно накачивался помпами сердечных мышц и теми же человеческими телами всасывался. Можно ни о чем не думать! Я прижался спиной к стенке. Поскольку я не спал всю ночь, меня быстро сморило. Проснувшись, я опять увидел кровавый след, неровной полосой бежавший по мокрому полу, словно изображение зажатой скалами речки на географической карте. След исчезал где-то между окном и рамой под стоп-краном. Это была кровь раздавленной птицы, тельце которой стиснула, почти перерезав пополам, внезапно подпрыгнувшая оконная рама. Вероятно, ее прихлопнуло несколько дней назад, и так плотно, что снаружи даже не дуло. Проводник, прошаркавший через вагон по долгу своей безрадостной службы, не удостоил птицу внимания. Но, должно быть, уже видел ее раньше. Я это понял. Неожиданно представилась возможность послушать рассказ — историю о задохнувшемся в пургу путевом стороже. Кончалась она словами: «Надо ж, полез очертя голову». По вине ли моей наружности, моей внутренней сути, обретшей зримый облик на клочке пространства, достигаемого взглядами, или же из-за флюидов моих мыслей, которые упорно трудились над предстоящим заданием, только никто ко мне не подсел, хотя каждое свободное место в вагоне становилось драгоценной добычей. Поезд с аханьем и оханьем полз по речной долине. В мыслях я уже побывал дома. И продолжил путь дальше по какому-то большому городу, который когда-то пересек. Потом заметил пылинки на левом рукаве и попытался стряхнуть их правой рукой. Рабочие повытаскивали ножи и принялись резать хлеб. Они пихали в себя здоровенные ломти да еще набивали рты кусками колбасы и мяса, каким-то крошевом, которое не стали бы есть и в самом незатейливом застолье. Такой снедью можно сервировать только колени. Все тянули ледяное пиво и не имели сил посмеяться над собой, даже когда казались себе смешными. Усталость их была так велика, что они и не пытались застегнуть ширинки или утереть губы. Мне представилось, как, переступив порог дома, каждый тут же рухнет на свою постель. А в пять вечера, когда все остальные кончают работу, они вновь впрягутся в нее. Поезд с грохотом несся вниз, как и река вдоль путей. Становилось всё темнее.
Комната оказалась такой же маленькой и неуютной, как и моя практикантская каморка в Шварцахе. Там чуть ли не над ухом невыносимо шумела река, здесь было невыносимо тихо. По моей просьбе хозяйка сняла занавески (мое всегдашнее правило, терпеть не могу занавесок в комнатах, которые мне противны). Хозяйка внушает отвращение. С тем же привкусом, как в детстве, когда меня рвало у раскрытых ворот бойни. Будь она мертвой, меня бы — сейчас — не передернуло от омерзения (анатомированные тела никогда не напоминают мне живые), но она-то живехонька и живет в спертом, отдающем вековой гнилью запахе трактирной кухни. Видимо, меня угораздило чем-то ей приглянуться, она сама притащила наверх мой чемодан и изъявила готовность приносить мне по утрам завтрак. Вопреки своим правилам. Такого у них не заведено. «У нас только господин художник наособицу», — сказала она. Как-никак постоянный квартирант, с привилегиями. А хозяевам-то «больше убытку, чем выгоды». Как же я нашел ее гостиницу-то? «Случайно», — ответил я. Дескать, мне хотелось побыстрее отдохнуть и опять домой, где у меня уйма работы. Она выразила понимание. Я назвал свою фамилию и отдал паспорт.
До сих пор я не видел никого, кроме хозяйки, хотя в гостинице изрядно шумели. По крайней мере, когда приходило время есть, что я делал в своей комнате. Я спросил хозяйку про художника, и она сказала, что он в лесу. «Он почти что всё время в лесу, — добавила она, — до ужина не вернется». А знаю ли я «господина живописца»? «Нет», — ответил я. Стоя уже в дверях, она, казалось, безмолвно спрашивала о чем-то, молниеносный вопрошающий взгляд, какой только женщина может бросить на мужчину. Я был захвачен врасплох. Ошибка исключена. Ее предложение я отверг также без единого слова и не без приступа дурноты.
Венг — самое мрачное из когда-либо виденных мною мест. Куда более мрачное, чем выглядело в описании ассистента. Доктор Штраух говорил об этом намеками, как намекают на опасный участок пути, который предстоит пройти другу. Всё, что говорил ассистент, состояло из намеков. Незримые веревки, которыми он меня всё крепче приторачивал к возлагаемому на меня поручению, создавали между нами почти нестерпимое напряжение, и аргументы, которые он на меня обрушил, я воспринимал как вбиваемые в мозг гвозди. Но он старался всё же не слишком морочить мне голову и ограничился строгими инструкциями. Местность и впрямь приводит меня в ужас, еще больше ужасает само селение, обитаемое очень низенькими криворослыми — можно добавить — и слабоумными людьми. В среднем не выше ста сорока сантиметров ростом, они бродят между изъеденными временем стенами и какими-то мостками, зачатые и рожденные в пьяном беспамятстве. Они кажутся типичными аборигенами именно этой долины. Венг расположен высоко в горах, но в такой же мере и низко — в ущелье. Перевалить через отвесные скалы невозможно. Только дорога внизу выводит куда-то. Ландшафт в силу такого уродства имеет некий характер, чем превосходит прекрасные ландшафты, у которых нет никакого. У всех здесь пропитые, истонченные до верхнего «до» какие-то детские голоса, которыми они вонзаются в уши всякого прохожего. Колющие удары. Уколы теней, должен я уточнить, ибо до сих видел лишь тени людей, призраки, прозябающие в убожестве и какой-то знобящей тревоге. И эти голоса, укусы теней поначалу морочили меня, раззадоривая еще больше. Мои ощущения, несмотря ни на что, были вполне трезвого свойства и потому не подточили меня. В сущности, всё мне казалось просто тягомотиной, то бишь чем-то до безобразия неудобным. К тому же я волочил фибровый чемодан, содержимое которого грохотало в беспрерывном броуновском движении. Путь снизу, от железнодорожной станции, где разбросалось что-то промышленное и строилась большая электростанция, наверх, к Венгу, можно было проделать только пешком. Пять крутых километров, единственная дорога, во всяком случае — в это время года. Всюду лающие, воющие собаки. Могу себе представить, какой заворот мозгов происходит у людей от тех ощущений, что испытал я, поднимаясь к Венгу и в нем самом, если их не отвлекает работа, или забава, или какое-нибудь другое занятие с той же целью, вроде блуда, или богомолья, или пьянства, или всего этого одновременно. Что влечет человека, подобного живописцу Штрауху, в такие места и в такую пору, в места, которые, должно быть, неотвязно истязают его зрение.
Моя миссия — сугубо секретная, и мне ее специально, обдуманно, с эффектом внезапности поручили в самый последний момент. Не сомневаюсь, что ассистенту давно уже пришла в голову идея отрядить меня для наблюдения за его братом. Почему именно меня? Почему не кого-нибудь другого из числа таких же, как я, практикантов? Может, потому, что я часто подходил к нему с трудными вопросами, а другие не подходили? Он мне строго-настрого приказал не давать художнику ни малейших поводов для подозрений в том, что я каким-то образом связан с его братом, хирургом Штраухом. Поэтому мне, если спросят, надлежит отвечать, что я изучаю право, только бы подальше от медицины. Ассистент взял на себя дорожные расходы и суточные. Он выдал мне сумму, казавшуюся ему более чем достаточной. Он требовал от меня точности наблюдений, не больше. Полной картины поведения своего брата, его повседневной жизни. Отчета о его привычках, замыслах, помыслах и суждениях, о походке, о манере жестикулировать, горячиться, «отталкивать людей». О том, как он пользуется тростью. «Проследите, какую функцию выполняет палка у него в руке, проследите самым тщательным образом».
Хирург не видел художника двадцать лет. Последние двенадцать они даже не переписываются. Художник открытым текстом называет их отношения враждой. «И все-таки я как врач предпринимаю попытку», — сказал ассистент, для этого ему нужна моя помощь. Мои наблюдения могли бы оказаться ему полезнее, чем всё прочее, к чему он уже прибегал. «Мой брат, — сообщил он, — как и я, человек неженатый. Он, как говорится, человек умственный, но и с безнадежным сумбуром. Терзаем пороками, стыдом, благоговейным идеализмом, чужими и собственными упреками, инстанциями… Мой брат — из разряда перекати-поле, то есть существо, гонимое страхом. Опасный сумасброд. Человеконенавистник». Это задание — частная инициатива ассистента и является частью моей шварцахской практики. Впервые в жизни наблюдение обернулось для меня работой.
Я было собрался прихватить с собой книгу Кольтца о патологии головного мозга, которая подразделяется на «повышение функциональной активности» (симптомы раздражения) и «ослабление функций» (паралич) мозга, но забыл это сделать. Зато я взял с собой книгу Генри Джеймса, отвлекавшую меня от занятий еще в Шварцахе.
В четыре часа я вышел из гостиницы. В неожиданном кондовом покое меня пробрало — и не только до костей — какое-то жуткое беспокойство. Такое чувство, будто я, как смирительную рубашку, надел на себя эту комнату, а теперь ее непременно надо снять. Я кинулся обратно, вниз по тропе, направился в обеденный зал. На мои оклики никто не ответил, и я вновь вышел. Споткнулся о какой-то ледяной бугорок, но моментально выпрямился и наметил цель — пенек, торчащий метрах в двадцати пяти. Перед ним я остановился. Вокруг только пеньки и виднелись, они повсюду торчали из снега, разлохмаченные, как после массированного обстрела. До меня вдруг дошло, что я больше двух часов проспал, сидя на кровати. В моей усталости были повинны дорога и новое окружение. Фен, теплый ветер, — мелькнуло у меня в голове. Тут я увидел, как из перелеска, что начинался не дальше чем в ста метрах от меня, вываливается фигура: несомненно, художник Штраух. Я мог разглядеть лишь голову и корпус, ноги скрывал гребень сугроба. В глаза бросалась большая черная шляпа. Словно нехотя, с натугой, как мне показалось, художник передвигался от пенька к пеньку. Он опирался на палку, которой тотчас же сам себя подгонял, вызывая ассоциации с перегоном скота, но при этом был и погонщиком, и палкой, и убойной скотиной одновременно. Однако это впечатление мгновенно стерлось практическим вопросом: как бы побыстрее да половчее подойти? Как я ему представлюсь? Просто подойти и о чем-нибудь спросить? Может, это и есть самый испытанный, хоть и примитивный, способ, каким пользуется всякий, кто хочет узнать дорогу или время? Да? Нет? Да? И так и этак? Да. Я решился пойти наперерез.
«Вот ищу гостиницу», — сказал я. И всё получилось отлично. Он окинул меня оценивающим взглядом: мое неожиданное появление скорее пугало, чем располагало к доверию, — и повел меня за собой. Он сказал, что живет в гостинице постоянно, а вообще останавливаться в Венге можно только из любви к эксцентрике либо по глупости. Ничего себе уголок для отдыха. «Вы вон про ту гостиницу?» Тут, дескать, и молодых глаз не нужно, чтобы увидеть, какая это нелепость. «В этих-то местах?!» Столь абсурдная идея может прийти только идиоту. «Или кандидату в самоубийцы». Он спрашивал, кто я, что я, чему обучаюсь. Должен же я покуда еще чему-то учиться. Я ответил так, словно иное мне никогда и не снилось: «Юриспруденции». Это его устроило. «Спокойно идите вперед, я человек старый», — сказал он. Вид его — вот что в какие-то мгновения так пугало меня. Я даже поежился при нашей первой встрече: настолько беспомощным он выглядел.
«Если пойдете туда, куда я указываю палкой, то попадете в долину, где можете разгуливать часами без всякого страха, — сказал он. — Вам не нужно бояться быть обнаруженным. С вами ничего не случится: всё совершенно вымерло. Ни вам полезных ископаемых, ни посевов, ничегошеньки. Вы найдете кое-что из следов той или иной эпохи: камни, обломки стен, какие-то знаки, а чего — никому неведомо. Какая-то особая, таинственная связь с солнцем. Стволы берез. Развалившаяся церковь. Скелеты. Следы осмелевшей дичи. Пять-шесть дней одиночества. Безмолвия, — вещал он. — Природа не ведает человеческого ига. Кое-где шумят водопады. Это как путешествие в эру, достойную дочеловеческого существования».
Вечера здесь наступают ошеломляюще внезапно, будто по гонгу громового раската. Как если бы по чьей-то команде падал гигантский чугунный занавес, отдаляя одну половину света от другой. Вдохнешь днем, выдохнешь ночью. Несусветно блеклые краски гаснут вовсе. Меркнет всё. Без всякого перехода. А если не становится холоднее, так это делает свое дело фен. Атмосфера по меньшей мере стискивает сердечную мышцу, если не парализует ее. Больничные стены многое могли бы порассказать об этих воздушных наплывах: пациенты, считавшиеся выздоравливающими, в которых медицина впихивала всю свою аптечку, пока не появилась надежда, падают как подкошенные, и никакая даже тысячу раз проверенная теория не может поднять их на ноги. Закупорка сосудов по мановению атмосферы. Загадочная сходка облаков где-то там, вдалеке. Собаки бессмысленно гоняются друг за другом по дворам и улицам, бросаются на людей. Реки выдыхают смрад тления, накопленный руслами. Горы с рельефом мозговых полушарий, до которых рукой дотянешься, при ярком свете, днем, резко очерчены, а ночью вообще не существуют. Приезжие ни с того ни с сего развязывают языки на перекрестках дорог, спрашивают, отвечают на вопросы, которые им никто не задает. Такое впечатление, что началось вдруг всеобщее братание: безобразное осмеливается приблизиться к прекрасному, и наоборот, хрупкое — к грубому. Бой часов роняет свои тяжелые капли на кладбище и чехарду крыш. Смерть ловко вползает в жизнь. Даже дети впадают вдруг в расслабленность. Они не кричат, но их тянет к пассажирскому поезду. В гостиницах и на станциях вблизи водопадов заводятся знакомства, срок которым одно мгновение; завязывается дружба, не успевшая зародиться, интимное «ты» выстрадано чуть ли не роковой страстью, но вскоре замарывается какой-нибудь мелкой пошлостью. Венг лежит в яме, вырытой за миллионы лет ледниковыми глыбами. Обочины дорог зовут к разврату.
День третий
«Я не художник, — сказал он сегодня. — Я был не более чем маляром». Между ним и мною возникло некое напряжение со своей мерой в каждом из нас. Мы бродили по лесу. В молчании. Пока мы шли, только рыхлый, налипший к ступням килограммовыми лепехами снег что-то говорил непонятно, но неумолчно. Неслышными, но мыслимыми словами, вроде бы они были, а вроде и нет. Он хочет, чтобы я всегда шел впереди. Он боится меня. Ведь из рассказов и опыта он знает: случается, что молодые субъекты нападают сзади, грабят дочиста. Физиономия зачастую лишь маска, за которой прячется убийца и грабитель. Душа, эта «проникающая субстанция всех законов», как ее склонны характеризовать, коль скоро верят в нее, лезет на рожон, а разум — конгломерат недоверия, страха и подозрительности — отстает, в ловушку не лезет. Несмотря на то что я говорю ему о своей неспособности ориентироваться на местности, он всё время пропускает меня вперед. Подаваемые им команды «налево» или «направо» развеивают мое предположение о том, что в мыслях он бесконечно отдалился от меня. Его приказы я выполню совершенно вслепую и с неуклюжей поспешностью. Главное, я не видел ни одного огонька, на который можно было бы ориентироваться. Меня будто несло куда-то — и в мыслях тоже, — и равновесие достигалось в любой точке и в то же время нигде. Что делал бы я, окажись здесь один? Такая вдруг ошарашила мысль. Художник тащился за мной, как трал, привязанный к моим нервам. Казалось, он постоянно что-то соображает за моей спиной, делает какие-то свои выводы. Вот опять запыхтел и потребовал, чтобы я остановился. «Этой дорогой, — сказал он, — я хожу ежедневно уже не один десяток лет. Я мог бы тут пройти с завязанными глазами». Меня подмывало побольше узнать о причинах его теперешнего пребывания в Венге. «Моя болезнь вкупе со всеми причинами», — ответил он. Более подробной информации я и не ожидал. Я постарался, как мог, описать ему свою жизнь в самых выразительных словах, перемежая солнечные тона с оттенками печали, рассказал, как я стал таким, каков есть, не проговариваясь о том, кто я сейчас на самом деле, причем — с откровенностью, удивившей меня самого. Но это нисколько не заинтересовало его. Его интересовал только он.
«Знай вы, сколько мне лет по календарным меркам, вы бы испугались, — сказал он. — Вы, несомненно, воображаете меня старым человеком, юнцы весьма скоры на такие заключения. Вас бы это задело за живое». Казалось, на его лицо легла еще одна тень безнадежности. «Природа жестока, — продолжал он, — но более всего — по отношению к самым прекрасным, самым удивительным среди избранных ею талантов. Она растаптывает их, глазом не моргнув».
Он не слишком высоко ценил свою мать, еще меньше — отца, а к брату и сестре с годами стал так же равнодушен, как безразличен был, по его мнению, всегда для них. Однако в его устах это всё звучит так, что не остается сомнений в том, как сильно любил он родителей, сестру и брата. Как глубоко он привязан к ним! «Мрак для меня только сгущался», — сказал он. Я нарисовал ему картину из своего детства. И услышал: «Детство у всех одинаковое. Только одним оно видится в будничном свете, другим — в умилительном, а третьим — в адском».
В гостинице, как мне кажется, его встречают с деланным почтением. А за спиной строят рожи. «Их безобразия — ни для кого не секрет. Их похотливостью несет за версту. Нетрудно почувствовать, о чем они думают, что замышляют, какое непотребство вечно зудит в них, в этих людях. Кровати у них стоят прямо под окном или поближе к двери, либо дело даже не в кроватях, а в тех мерзостях, которые на них вынашиваются… Муж обращается с женой как с куском тугого мяса, а жена — с мужем, и все смотрят друг на друга как на быдло. Всё это можно было бы суммировать как одно грандиозное преступление. Примитив — достояние всеобщее. Одни реагируют на уговоры, других уже уговорила сама природа… портки им тесны, от юбок они дуреют. Вечера растягиваются. Ну уж дудки! Пошастаем туда-сюда, из дома на улицу и обратно. Чего мерзнуть-то? Языки унимаются, всё прочее будто прет наружу. А утро так слепит глаза, что не могут сообразить, где верх, где низ. Похоть — вот что всех убивает. Похоть — недуг, убийственный по своей природе. Рано или поздно она убьет даже самую сокровенную жизнь души… она всё ставит вверх дном, толкает от доброго к злому, с дороги на обочину, с вершины в пропасть. Как это безбожно, когда разрушениеопережает всё… нравственность становится безнравственной — такова модель всякого упадка и гибели на Земле. Двуличие природы, можно сказать. Рабочие, которые здесь колобродят, — говорил он, — живут только похотью, как и большинство людей, как все люди… живут в растянувшейся до конца дней безумной тяжбе со стыдом и временем, а результат обратный — разрушение. Время наносит им удары, а путь их вымощен лишь мерзостью разврата. Одним это удается заглушить, как-то стушевать, другим — не очень. Кто половчее, тому только это и важно, даже если всё понапрасну. Однако всё всегда напрасно. Все они знают лишь половую жизнь, а это — не жизнь».
Он спросил, долго ли я пробуду в Венге. Я сказал, что в скором времени придется ехать домой: надо подготовиться к кое-каким весенним экзаменам. «Поскольку вы изучаете право, вам, конечно, легко будет найти место. Юристы всегда и всюду при деле. Мой племянник тоже был юристом, но горы бумаг довели его до безумия, и он вынужден был оставить службу. Он кончил свои дни в Штайнхофе. Вам это что-нибудь говорит?» Я ответил, что имею представление об этом заведении. «Тогда вам не нужно растолковывать, как кончил мой племянник».
С самого начала я настраивался на трудный, но не на безнадежный случай. «Сила характера, ведущая к смерти» — эта пришедшая на ум фраза из давно прочитанной книги потянула за собой мысли о художнике Штраухе, которые сложились у меня ближе к вечеру: как вышло, что его занимает только самоубийство? Может ли самоубийство, подобно тайной страсти, быть для человека такой саморастратой, какой он сам желает? Самоубийство. Что это? Самоизъятие. По праву или вопреки. По какому праву? Почему нет? Все мои мысли устремлялись к одной точке, к ответу на вопрос о дозволенности самоубийства. Ответа я не находил. Нигде. Ведь люди — это не ответ, не могут им быть, как все живущие, да и умершие тоже. Совершая самоубийство, я уничтожаю то, к созданию чего не причастен. Мне даны такие полномочия? Кем они были даны? Когда? Сознавал ли я в тот момент, что это совершалось? Нет. Но голос, который нельзя заглушить, говорит мне, что самоубийство — грех. Грех? Просто-напросто грех? Смертный грех? Просто-напросто смертный грех? То, что сокрушает всё, — говорит голос. Всё? А что такое «всё»? Для старика и во сне, и наяву всеобъемлющий девиз — самоубийство. Он удушает себя, закладывая кирпичами одно окно за другим. Скоро совсем замурует. А потом, когда померкнет свет в глазах, потому что уже не сможет вздохнуть, поставит в своих аргументах последнюю точку: ведь он мертв. Мне кажется, меня осеняет тень близкой мне мысли — его мысли, его самоубийства.
«Иной мозг — нечто вроде государственного устройства, — говорил художник. — Представьте, вдруг воцаряется анархия». Я торчал в его комнате, ожидая, когда он наденет ботинки. «Большие горлохваты и маленькие горлохваты из воинства мыслей», как и люди, часто заключают союзы, чтобы с часу на час их расторгнуть. Но шанс «быть понятым и желание быть понятым — просто обман. Основанный на всех заблуждениях разделенного на два пола человечества». Противоположности как бы за одну ночь, длящуюся вечно, завладевают днем, деяния которого иллюзорны. «Цвета, если хотите знать, — это всё. А стало быть, и тени. Противоположности имеют большой цветовой смысл». Это во многом напоминает ему платья, их покупают, надевают пару раз, а потом снимают. Чтобы больше не надевать, в лучшем случае продают, но не раздаривают, а чаще всего отдают на съедение моли. Они перекочевывают на чердак или в подвал. «Вечером можно свысока смотреть на утро, — говорил он, — но всё же утро всегда поразительно». Опыта, в строгом смысле, не существует: «а потому и никакого сбалансированного результата!». Конечно, есть кое-какие возможности не отдаваться больше на злую волю и не быть обреченным. «Но у меня этих возможностей не было никогда». В мгновение ока то, что столь много значит в твоей жизни, теряет всю свою ценность. «Старание чревато разочарованием», — сказал он. Насколько блестяще совершается одно, настолько насильственно — другое, еще насильственнее, чем прежде. «Поднявшиеся наверх в любом случае узнают, что никакого верха не существует. В столь же юном возрасте, как ваш, во мне уже давно занозой сидела мысль: ничто не стоит чрезмерных усилий. И это не давало мне покоя. Теперь вот пугает снова. В этом страхе я потерял всякие ориентиры». Он назвал свое состояние «экспедициями в первобытные леса одинокого бытия. Как будто я вынужден бежать сквозь тысячелетия из-за того, что каких-то два-три мгновения грозят моей спине своими дубинками», — говорил он. Никогда не отступалась от него нужда, да и попользоваться им сумели, этого он не избежал, не мог избежать. «Я всё еще вкладывал свой капитал в людей, хотя уже знал, что они меня обманывают, давно знал, что они замышляют убить меня». И потом, он тоже опирался только на самого себя, «как прислоняются к дереву, пусть и трухлявому, но всё же дереву», а рассудка и сердца у него как бы и нет, они оттеснены куда-то на задний план.
Есть в деревне люди, которые никогда не переступали пределы долины. Разносчица хлеба, например, тянувшая свою лямку с четырех лет и без единого перерыва до сего дня, то есть до своих семидесяти. Или молочник. Оба они и теперь знают железную дорогу только со стороны. И сестра хлебоносчицы, и пономарь. Понгау для них — такая же даль, как для кого-то темный лес под названием Африка. То же самое — сапожник. Они остаются там, где кормятся с рождения, остальной мир их не интересует. Либо же боятся сделать шаг за привычный горизонт. «Один приятель дал мне адрес гостиницы», — сказал я. Как завязалась эта ложь? Очень просто. Будто легче вранья нет ничего на свете. И чего проще врать и дальше. «Люблю высаживаться в новых местах или же на лоне незнакомой природы, — объяснял я, — поэтому нисколько не колебался». — «Здешний воздух ужасен по своему составу, — сказал художник. — Ни с того ни с сего возникают ситуации, угрожающие свободе движений». Его интересовало, почему я выбрал именно эту гостиницу, а не какую-нибудь другую, получше, их же здесь много, есть даже пансионы. «В долине тоже, правда, они больше рассчитаны на проезжающих, кому только ночь переночевать». Всё это идея моего приятеля, соврал я. Снабженный парой адресов я, мол, сюда и заявился. «А по дороге не было никаких происшествий?» — спросил он. Ничего похожего я припомнить не мог. «Видите ли, — сказал он, — когда я отправляюсь в путь, всегда что-нибудь случается». И, возвращаясь к разговору о деревне и гостинице: «Тут надо иметь какое-нибудь чтиво или что-то вроде работы. Вы ничего не захватили с собой?» «Книгу Генри Джеймса», — ответил я. «Генри Джеймса? А я нарочно оставил книги дома. Хотя кое-что всё же привез. Собственно, ничего, кроме моего Паскаля». Всё это время он ни разу не взглянул на меня, шел согнувшись в три погибели. «Я ведь себя закрыл, как закрывают магазин, когда уходит последний покупатель». И затем: «Здесь вам остается только делать наблюдения, которые тут же превращаются в лед, отбивая интерес к самим себе. Если вас это занимает — извольте, там, где есть люди, можно и понаблюдать. Проще всего — за тем, что они делают, точнее, чего не делают, чем себя губят. Здесь нет ничего такого, перед чем стоит снимать шляпу». Всё тут столь же омерзительно, как и накладно. «Мне нравится, что вам не нравится хозяйка, — сказал он. — Иначе и быть не должно». От комментариев он воздержался. Не поддаваться никакому состраданию, давать волю только отвращению и не мешать ему делать свое дело, что во многих случаях, как он выразился, служит абсолютным украшением, венчающим разум. «Она чудовище, — сказал он про хозяйку. — Здесь вы познакомитесь с целым выводком монстров. В первую очередь там, где живете». Вопрос ко мне: умею ли я критически сопоставлять характеры, обладаю ли этой «способностью вовсе не интеллектуального свойства и данной лишь немногим»? В зазор между двумя характерами вмонтировать третий и так далее? Лично ему это помогает убивать время. «Теперь, правда, уже нет. Вам обеспечена возможность просыпаться среди ночи. Бояться не надо. Ну, вскочит на ноги кто-нибудь из постельных партнеров хозяйки, не очень знакомый с правилами гостиничного быта. Ну, загремит местный живодер, страдающий, кажется, куриной слепотой. Переломы костей и вывихи до сих пор не мешали ему заползать хозяйке под бок». Она благосклонна ко всем, кроме него, художника. К примеру, каждые четыре-пять дней она меняет постояльцам простыни, всем, только не ему. Она недоливает ему вина, а если кто-нибудь спросит ее о нем, она не преминет нагло оболгать. Но доказательств у него нет, поэтому он не может призвать ее к ответу. Я позволил себе усомниться в том, что хозяйка делает ему пакости. «Тем не менее это так, — сказал он, — в ее описаниях я просто пес смердящий. Договорилась до того, что я делаю в постель. За моей спиной она стучит по лбу пальцем, это должно означать, что я не в своем уме. И забывает: существует такая вещь, как зеркало. Большинство людей забывает это». Молоко подает разбавленное. «И не только мне». Он уж закрывает глаза на то, что она варит конину и собачатину. «Несколько лет назад она сказала своим детям, что я пожираю младенцев. С тех пор дети разбегаются, завидев меня». Она постоянно читает адресованные ему открытки и даже письма, вскрывая их над кухонным паром и не пропуская ни единой строчки. «Она в курсе моих дел, о которых я ей никогда не рассказывал». Теперь-то уж он не получает почты. «С этим покончено». И добавил: «Я уж не говорю о том, что она в два-три раза обсчитывает меня, вообразив, что я богач. Так все здесь думают. Даже священник пребывает в этом заблуждении и давно пытается вытянуть из меня пожертвования. Неужели я похож на человека, у которого водятся деньги? На имущего?» — «Для деревенских всякий приезжий горожанин — тугой кошелек, из которого можно тянуть деньги. Это распространяется прежде всего на людей образованных». — «А я похож на образованного? Хозяйка выставляет мне счет за то, чем я и не пользовался. Чего нет и не было. Да еще пристает с просьбами, чтобы я заплатил за недельный постой какого-то безработного. Разумеется, я не отказываю с порога. Но мне следует твердо сказать «нет». Почему я этого не делаю? У нее весь расчет строится на обмане. Она обманывает всех. Даже своих детей». Для кого-то обман может служить побудительной силой. «И просто силой», — сказал художник.
«Когда я впервые появился в Венге, ей не было и шестнадцати. Я знаю, что она подслушивает у замочной скважины. Стоит внезапно распахнуть дверь, она и разогнуться не успеет. Но я остерегаюсь делать это». Стирает она шаляй-валяй. В стопках полотенец жучки гнездятся, даже черви попадаются. А большой пирог из кислого теста, так называемый окорок, она печет в ночь с пятницы на субботу, в компании двух мужиков, «бесстыдно выжимая из них все соки своим блудом. Живодер не знает, что этажом ниже она предается столь же грязным утехам с одним из постояльцев». Она не пропускает мимо ушей ни одного кулинарного рецепта. «Она столь же опасна, столь же низка, сколь искусна в поварском деле». В подвальной кладовой и на чердаке среди съестных припасов: мешков с мукой и сахаром, луковичных связок, караваев, россыпей картошки и яблок — можно найти вещественные доказательства ее порочности, мужские подштанники, например траченные молью и крысами. «Прелюбопытнейшая коллекция таких грязных улик разбросана по всему полу и внизу, и наверху. Хозяйка находит особый смак в том, чтобы время от времени пересчитывать свои экспонаты и вспоминать их былых владельцев. С ключами от своих сокровищниц, нижней и верхней, она не расстается уже не первый год, носит их на груди, и ни одна душа на свете, кроме меня, понятия не имеет, какие кладовые она может открыть этими ключами».
Стариковской слюной брызжут из уст художника Штрауха фразы. Вновь я его увидел только за ужином. Я уже сидел в столовом зальчике и наблюдал сопутствующее общей трапезе оживление. Художник показался на глаза хозяйке с большим опозданием, уже после восьми, в столовой оставались только пьянствующие завсегдатаи. Воздух заметно тяжелел от крепкого запаха пота, пива и рабочей одежды. Появившись в дверях, художник высоко поднял голову и обвел глазами помещение. Увидев меня, он направился к моему столу и сел напротив. Хозяйке он сказал, что подогретую стряпню он есть не станет. Пусть принесет ливерного паштета с обжаренным картофелем. От супа он отказался. Он сказал, что целыми днями страдает отсутствием аппетита, но сегодня проголодался. «Я продрог, вот в чем дело». Правда, на воле не холодно, напротив. «Фен, знаете ли. Я изнутри, понимаете ли, выстудился. Замерзают изнутри».
Ест он не как животное, не как работяги, без первобытной серьезности. Всё, что он отправляет в рот, обращается в насмешку над самим едоком. Ливерный паштет для него — «кусок трупа». С этими словами он выжидательно взглянул на меня. Но вопреки его ожиданиям я не поморщился. Я постоянно имею дело с расчленением трупов, это заглушает всякое отвращение. Художник не мог об этом догадываться. «Всё, что ест человек, — фрагменты трупа», — сказал он. Я видел, насколько он разочарован. Какое-то детское разочарование оставило на его лице выражение мучительной неуверенности. Потом он заговорил со мной о ценности и пустяковости человеческой натуры. «То скотское, — вещал он, — что дремлет в человеке, что мы ассоциируем с когтями и копытами, с готовностью к прыжку при первом же настораживающем сигнале, — это и есть то самое скотское, что мы ощущаем, пересекая улицу, как сотни других людей вокруг нас, понимаете ли…»
Он пожевал и задумчиво произнес: «Уж и не знаю, что я хотел сказать, скорее всего, что-то злое, я так думаю. Часто от того, что ты собирался сказать, остается именно такое чувство: хотелось позлобствовать».
Произведения
Критика