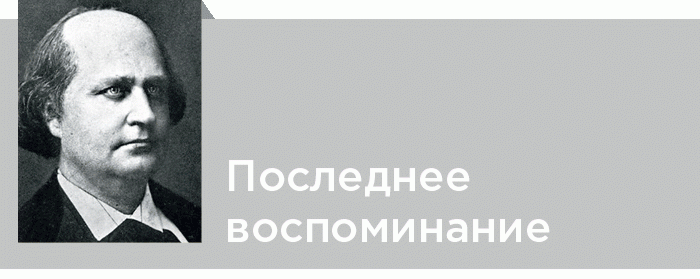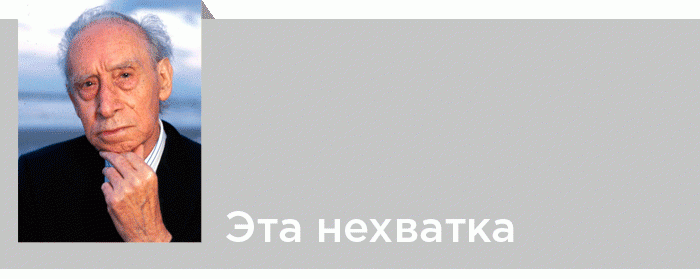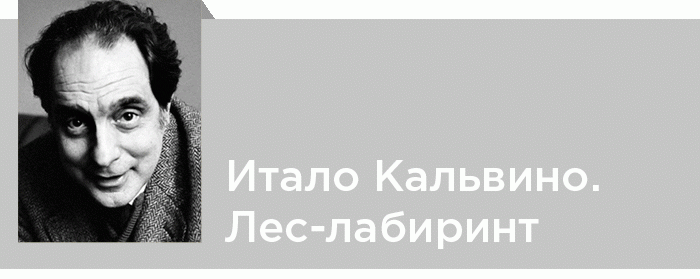Итало Кальвино. Американские лекции
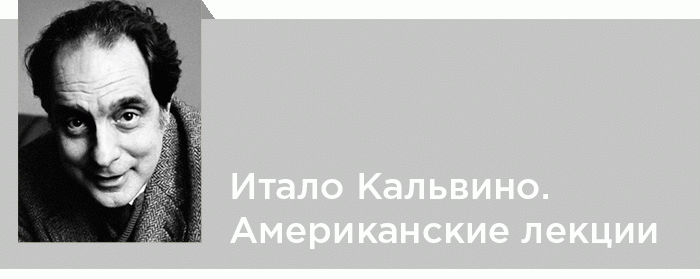
Н. Ставровская
Итало Кальвино (1923-1985) оставалось прожить чуть больше года, когда — первым из итальянских писателей — его пригласили прочесть в 1985/86 учебном году в Гарварде лекции в рамках проводимых с 1926 года Нортоновских чтений, где в разные годы выступали Т. С. Элиот, И. Стравинский, X. Л. Борхес. Тему Кальвино выбирал долго, в итоге решил назвать цикл «Шесть предложений на ближайшее тысячелетие» и посвятить его апологии особенно ценимых им качеств художественного повествования: Легкости, Быстроты, Точности, Наглядности, Многообразия, Содержательности. По его мнению, именно их должна унаследовать литература будущего. Из шести лекций написать он успел пять и говорил, что идей и материала хватит на восемь; последняя могла бы называться «О началах и концах романов».
«На протяжении сорока лет работы в литературе, пожалуй, чаще всего я занимался «облегчением» — человеческих фигур, небесных тел, городов, но в первую очередь композиционной структуры и языка» — так начинает разговор о Легкости создатель Несуществующего рыцаря, Барона на дереве, Раздвоенного виконта. Щедро иллюстрируя прихотливо вьющуюся мысль примерами из литературы и мифологии, Кальвино переплетает и обыгрывает смысловые оттенки прямых и переносных значений слова «легкость», реализует его метафорические потенции. Литературные творения, пишет он, вызывают ощущение легкости благодаря облегченным, невесомым образам, «разреженной» словесной ткани, высокому уровню абстракции; однако главное — живость творческого ума, воспаряющего фантазией в поисках необычной призмы видения: сила легконогого Персея заключалась в отказе от прямого взгляда на Медузу (обращавшую все живое в символ тяжести — камень), напоминает Кальвино, считая этот миф аллегорией образцовых отношений писателя с окружающей действительностью, то есть призывая к непрямому ее отображению.
Первое поэтическое произведение, где познание мира оборачивается разрушением его плотности, восприятием неизмеримо более мелких, подвижных частиц, — трактат Лукреция «О природе вещей»: «Кажется, более всего Лукреций заботится о том, чтобы мир нас не раздавил». Легкостью дышит и мифологический эпос Овидия «Метаморфозы». Для обоих авторов легкость — способ видения мира (вдохновленный в одном случае атомистической теорией Эпикура, в другом — учением Пифагора о переселении душ); важно отметить, что для его выражения оба они сумели найти адекватные языковые средства.
Авторы, стремящиеся сделать язык своеобразным полем действия неких импульсов, и те, кто с помощью языка старается передать весомость и осязаемость реалий, негласно спорят веками. У истоков этого спора в итальянской и европейской литературе стоят, по мнению Кальвино, Гвидо Кавальканти и Данте. В подтверждение он приводит по одной строке каждого из поэтов: почти идентичные на первый взгляд, они рождают противоположные образы.
Кавальканти — уже не как творец «легкой» поэзии, а как персонаж одной из новелл «Декамерона» (VI; 9) — служит иллюстрацией того, что серьезность легкости (в разных смыслах) не помеха. Серьезность и легкость сочетают в себе образы Сервантеса и Шекспира. Говоря о легкости у Шекспира, Кальвино подразумевает не только Ариэля или Меркуцио, фантасмагорию «Сон в летнюю ночь», образы и сцены, навеянные неоплатоническими представлениями и кельтскими поверьями об эльфах и феях, но и «ту лирическую и экзистенциальную модуляцию, которая позволяет его героям смотреть на собственную драму как бы со стороны, растворяя ее в меланхолии и иронии».
Сирано де Бержерак — первый поэт «атомизма» в современной литературе: прославляя многообразие форм живого и неживого, возникших в результате комбинации одних и тех же простейших элементов, он осознает зыбкость породивших эти формы процессов (и, стало быть, родство всего сущего). Но Сирано и первый предвестник научной фантастики: так, герои его утопии «Государства и империи Луны» (1657) измышляют целую систему способов, чтобы преодолеть земное тяготение и попасть на Луну. Один из этих способов — с применением магнита — усовершенствует позже Свифт для удержания в воздухе Лапуты. Умело используя силы притяжения и отталкивания, путешествует в космическом пространстве вольтеровский Микромегас... Появлению в европейской литературе множества летучих героев немало способствовало знакомство с коврами-самолетами, джиннами и прочими чудесами «Тысяча и одной ночи», французский перевод которой вышел в начале XVIII века. Наилегчайший из всех летучих — барон Мюнхгаузен. Вообще же стремление к полету, считает Кальвино, — антропологическая константа, нашедшая отражение не только в фольклоре, но и в ритуалах первобытных обществ. Пишет он и о рассказе Кафки «Оседлавший ведро», и о том, как у Леопарди, постоянно в своих стихах рассуждающего о тяготах жизни, легки образы счастья — птица, окно, луна. А также о письменности как метафоре пылеобразной сущности мира, о проведенной Лукрецием аналогии между атомной структурой материи и буквенным письмом и о развитии этой идеи у толкователей Каббалы и Пико делла Мирандолы, у постигших зачатки комбинаторных методов Раймунда Луллия и Галилея...
И первая лекция, и вторая, посвященная Быстроте, замечает Кальвино, строятся на сопряжении тем, объединенных знаком божества с крыльями на ногах — Меркурия-Гермеса, покровителя обменов, ремесел, магии и красноречия: посредника между богами и людьми, силами природы и формами культуры, всевозможными объектами и мыслящими субъектами, отождествлявшегося греками с древнеегипетским Тотом — покровителем письма... Людям, характер которых определяется влиянием проворного Меркурия, традиционно противопоставляются те, чей темперамент зависит от Сатурна, — медлительные, меланхоличные, склонные к созерцанию отшельники, каковы в большинстве своем художники, мыслители и поэты. Кальвино, по его признанию,— «сатурниец, мечтающий быть меркурианцем», смолоду избравший своим девизом латинскую максиму «Поспешай медленно», прочитывая ее так: озарение есть результат длительного вызревания мысли. Из многих ее символов милее всего ему эмблема XV века — неожиданно гармоничное сочетание бабочки и краба.
Быстрота в понимании Кальвино — это компактность, напряженность повествования, максимальная концентрация мысли. Поскольку в крупных произведениях поддерживать постоянное напряжение трудно, он отдавал предпочтение малым формам, как правило, складывая «макротексты» из «микротекстов» (к примеру, в «Невидимых городах» и «Паломаре» — из миниатюр, представляющих собой нечто среднее между нравоучительной притчей и стихотворением в прозе) и мечтая создать «космологии, саги и эпопеи, заключенные в эпиграммах». Последнее значительное изобретение в области литературных жанров принадлежит Борхесу; секрет «быстроты» его текстов в том, что они удваивают или умножают собственное пространство благодаря введению других — воображаемых или реальных — книг. Борхес — создатель «литературы в квадрате, являющейся одновременно квадратным корнем из самой себя».
Апология быстроты не есть отрицание достоинств «медленного» повествования. Так, в фольклоре экономность повествования сочетается с его организацией по принципу китайских шкатулок, с ретардациями и повторами, задающими ритм, что наращивает повествовательный эффект...
Точность (или Четкость) для Кальвино, порождения фантазии которого неизменно обладают жесткой структурой, — это хорошо рассчитанный план повествования (отдавая должное пламени как одному из двух символов совершенной красоты, он все же предпочитает кристалл), четкие, запоминающиеся зрительные образы, предельно точный выбор лексики для передачи оттенков мысли и воображения. В своем стремлении к точности он чередовал (а иногда и сочетал) два пути, которым соответствуют два разных типа познания: осуществляемое в мыслительном пространстве посредством операций с абстрактными схемами и происходящее в пространстве, наполненном реалиями. Тщательный выбор словесных эквивалентов для описания этих реалий так важен еще и потому, что в эпоху массовой культуры литература должна стать противоядием чуме единообразия и усредненности, поразившей современный язык. Кстати, замечает Кальвино, Леопарди, утверждавший, что чем неопределенней язык, тем он более поэтичен, находит чрезвычайно точные слова для детального описания самых неясных состояний души! Равно достойны восхищения Стефан Малларме, который достигал предельной точности слова, говоря об абстракциях, и Франсис Понж, «современный Лукреций», в коротеньких натюрмортах воссоздавший физически ощутимый мир с помощью неосязаемой пыли слов.
Тема Наглядности, яркости образов тесно связана у Кальвино с источниками и механизмами воображения, природа которого на протяжении веков получала самые разные истолкования — от неоплатонических воззрений на воображение как на результат общения с «мировой душой», позже воспринятых романтиками и сюрреалистами, до представлений о нем как об инструменте познания мира, порой даже способствующем рождению научных гипотез. В формировании наглядных литературных образов (больше всего их, считает Кальвино, дали Возрождение, барокко и романтизм) участвуют процессы абстрагирования, конденсации чувственного опыта, преображение этого опыта, готовые образы, поставляемые разными уровнями культуры. Так, Кальвино вспоминает, что в пору его детства комиксы печатались без реплик героев, и он любил придумывать разные варианты их интерпретации, переплетать одну серию с другой, делать главных героев второстепенными и наоборот, и т. д. Не меньше нравилось ему сочинять собственные истории на основе знаменитых произведений живописи — прослеживая, к примеру, циклы картин, изображающих Св. Георгия или Св. Джироламо... И то, и другое послужило хорошей школой сюжетосложения, стилизации, порождения новых, действовавших «за кадром» героев и особенно пригодилось ему при работе над книгой «Замок скрестившихся судеб», где в качестве повествовательного механизма используется по-разному раскладываемая колода «тарокки».
Создавая целый ряд книг — в частности, «Несуществующего рыцаря», «Барона на дереве», «Раздвоенного виконта», — Кальвино отталкивался от наглядного образа, который казался ему богатым значениями. Реализуя заложенные в нем потенции, этот образ порождал другие, возникало своеобразное поле действия аналогий, симметрий, противопоставлений. Тут следовало упорядочить материал и определить, какие из порожденных смыслов совместимы с вырисовывающейся общей концепцией книги. Одновременно все большее значение приобретала форма выражения: сначала важно найти словесный эквивалент зрительных образов, затем — сохранять найденную стилистику, а дальше уже повествование само ведет за собой зрительное воображение... Таким образом, повествовательный процесс есть соединение спонтанной логики образов и рационального плана, а фантазия — своего рода ЭВМ, учитывающая все возможные комбинации и выбирающая те, что отвечают определенным целям или просто наиболее интересны.
«Цивилизация изображений», сожалеет Кальвино, отучает людей думать образами, лишает их способности отличить показанное им от пережитого. Будет ли существовать фантастика в XXI веке, несмотря на инфляцию образов, поставляемых средствами массовой информации? Перед фантастикой, считает Кальвино, открываются два пути: 1) вводить уже использованные образы в новый контекст, остраняющий их или изменяющий их смысл (как уже поступает литература постмодернизма с образами массовой культуры); 2) «начинать с нуля», подобно С. Беккету, который достиг необыкновенных результатов при минимуме наглядных элементов и скупых языковых средствах.
В отличие от средневековых «сумм» — огромных по объему и строгих по композиции, приводивших многообразие тем к сложному единству (такова «Божественная комедия»), лучшие современные книги, отмечает Кальвино, есть результат взаимодействия разных образов мышления, формальных приемов и возможностей истолкования. При детальной продуманности общего замысла главное в них — не гармоничность замкнутой системы, а центробежная сила, множественность используемых языков как гарантия беспристрастного выражения истины. Великие романы XX века представляют собой «открытые» энциклопедии — несмотря на кажущуюся несовместимость этих двух слов. Кальвино выделяет следующие типы «многообразных» произведений: 1) Тексты, поддающиеся интерпретации на нескольких уровнях. Приоритет здесь принадлежит Альфреду Жарри, чья 50-страничная повесть «Абсолютная любовь» (1899) может быть прочитана как а) рассказ о ночи перед казнью, которую проводит в тюрьме приговоренный к смерти; б) монолог человека, страдающего бессонницей, которому в полусне пригрезилось, что он приговорен; в) история Христа. 2) Диалогические, или полифонические, по терминологии М. Бахтина, тексты. 3) Произведения, которые, стремясь объять все возможное, вследствие перегруженности материалом не имеют определенной формы и обречены на незавершенность. Таковы творения Пруста и Музиля. Таковы романы Карло Эмилио Гадды, написанные, по выражению критика Дж. Контини, в манере «экспрессионистического маньеризма»; язык их представляет собой смешение диалектальных и архаичных речений, пародийных изысканных и поэтических фраз, латинизмов и техницизмов. Интрига же (даже детективная!) не получает развязки и оказывается лишь поводом для нанизывания фресок из римской жизни. Мир для Гадды — система систем, а каждый предмет — центр некой сети отношений; прослеживая их, писатель бесконечно умножает детали, заслоняющие в итоге общую картину. 4) Философско-художественная проза, лучшим примером которой могут служить эссе и афоризмы Поля Валери, считавшего, что «философия должна быть портативной».
Особо отмечает Кальвино рассказы Борхеса. Потенциал заключенных в них идей столь велик, что рассказ выглядит концентратом большого романа. Но сегодня правило «писать коротко» подтверждают и длинные романы с «аккумулятивной», «модульной», комбинаторной структурой, сочетающие заданность конструкции с ощущением бесконечности возможностей. Примерами таких «гиперроманов» — моделей потенциального многообразия — могут служить «Замок скрещивающихся судеб» (1970) и «Если однажды зимней ночью путешественник...» (1979) самого Кальвино, а также знаменитая книга Жоржа Перека (самого изобретательного, по его мнению, члена парижской OULIPO — основанной Раймоном Кено «Мастерской Потенциальной Литературы») «Жизнь; способ употребления» (1978), сюжетная схема и формальная модель которой определяются головоломкой. Чудо, отмечает Кальвино, заключается в том, что с виду искусственная и механическая поэтика этого романа отнюдь не сковывала, а, наоборот, стимулировала воображение, предоставляя автору неограниченную свободу. Кто-нибудь может возразить, что чем больше потенциальных возможностей несет в себе произведение, тем меньше выражает оно авторскую индивидуальность. Но что есть каждый из нас, как не комбинация крупиц опыта, всевозможных сведений и фантазий? Каждая жизнь — энциклопедия, библиотека, каталог, содержимое которых упорядочивается то так, то иначе. А еще лучше было бы, фантазирует Кальвино, если бы могли рождаться произведения, замысел которых не принадлежал бы никакому конкретному индивиду, каждый мог бы выйти за узкие рамки собственного «я» и влиться в другие «я», и могли себя выразить птица, дерево, камень... Не к этому ли стремились Овидий, живописавший перетекание форм, и Лукреций, отождествлявший себя с природой?
Так, ссылкой на авторов двух своих настольных книг, заключает Итало Кальвино последнюю из лекций, написанных им в полном соответствии с изложенными в них рекомендациями и ставших — увы — его литературным завещанием.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1989. – № 3. – С. 50-53.
Критика